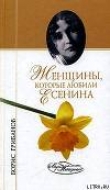Текст книги "Арманд и Крупская: женщины вождя"
Автор книги: Борис Соколов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Еще при жизни Ильича, 31 октября 1923 года, Крупская писала Зиновьеву по поводу только что состоявшегося объединенного пленума ЦК и ЦКК, на котором Троцкий был подвергнут нападкам за свое требование демократизации внутрипартийной жизни: «Дорогой Григорий, после пленума я написала Вам письмо, но Вы уезжали, и письмо лежало. Теперь, перечитывая его, я решила не отправлять его Вам, так заострены в нем все вопросы. В атмосфере той «свободы языка», которая царила на пленуме, оно было уместно и понятно, но через неделю оно звучит иначе… Во всем этом безобразии… приходится винить не одного Троцкого. За все происшедшее приходится винить и нашу группу: Вас, Сталина и Каменева. Вы могли, конечно, но не захотели предотвратить это безобразие. Если бы Вы не могли этого сделать, это бы доказывало полное бессилие нашей группы, полную ее беспомощность. Нет, дело не в невозможности, а в нежелании. Наши сами взяли неверный, недопустимый тон. Нельзя создавать атмосферу тихой склоки и личных счетов.
Рабочие – я говорю не о рабочих вроде Евдокимова либо Залуцкого (партийных функционеров. – Б. С.),рабочих по происхождению, но уже давно превратившихся в профессионалов, а о рабочих с завода и фабрики, – резко осудили бы не только Троцкого, но и нас. Здоровый классовый инстинкт рабочих заставил бы их резко высказаться против обеих сторон, но еще резче против нашей группы, ответственной за общий тон. Вот почему все так боялись, что эта склока будет вынесена в массы. От рабочих приходится скрывать весь инцидент. Ну, а вожди, которые должны что-то скрывать от рабочих (я не говорю про чисто конспиративные дела – то особая статья), не смеют всего им сказать, – что же это такое? Так нельзя.
Совершенно недопустимо также злоупотребление именем Ильича, которое имело место на пленуме. Воображаю, как он был бы возмущен, если бы знал, как злоупотребляют его именем. Хорошо, что меня не было, когда Петровский сказал, что Троцкий виноват в болезни Ильича, я бы крикнула: это ложь, больше всего В. И. заботил не Троцкий, а национальный вопрос и нравы, водворившиеся в наших верхах. Вы знаете, что В. И. видел опасность раскола не только в личных свойствах Троцкого, но и в личных свойствах Сталина и других. И потому, что Вы это знаете, ссылки на Ильича были недопустимы, неискренни. Их нельзя было допускать. Они были лицемерны. Лично мне этй ссылки приносили невыносимую муку. Я думала: да стоит ли ему выздоравливать, когда самые близкие товарищи по работе так относятся к нему, так мало считаются с его мнением, так искажают его?
А теперь главное. Момент слишком серьезен, чтобы устраивать раскол и делать для Троцкого психологически невозможной работу. Надо попробовать с ним по-товарищески столковаться. Формально сейчас весь одиум (в данном случае – вина. – Б. С.)за раскол свален на Троцкого, но именно свален, а по существу дела – разве Троцкого не довели до этого? Деталей я не знаю, да и не в них дело – из-за деревьев часто не видать леса, – а суть дела: надо учитывать Троцкого как партийную силу и суметь организовать такую ситуацию, где бы эта сила была для партии максимально использована. Ну, вот, сказала, что у меня лежит на душе».
Разумеется, никто из триумвиров «по-товарищески» столковываться с Троцким в тот момент не собирался. Григорию Евсеевичу и Льву Борисовичу и в страшном сне не могло привидеться, что через каких-нибудь два года придется срочно пытаться сформировать блок со злейшим врагом, Львом Давидовичем, в безнадежной попытке остановить продвижение к абсолютной власти Иосифа Виссарионовича. «Чудесный грузин» всех их потом и прикончил.
Показательно, что, несмотря на критические замечания, группу Каменева, Зиновьева и Сталина Надежда Константиновна называет «нашей». Троцкий для нее не только не «наш», но и вообще некая сила, чуть ли не внешняя по отношению к партии, которую только надо использовать в интересах партии. Использовать, пока в этом есть необходимость, а там… Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти. Интересно, Крупская выражала здесь свое мнение, или повторяла слова Ильича?
Троцкий так излагал историю своих взаимоотношений с Лениным в период болезни Ильича: «Ленин чуял, что в связи с его болезнью, за его и за моей спиною плетутся пока еще почти неуловимые нити заговора… Нет никакого сомнения в том, что для текущих дел Ленину было во многих случаях удобнее опираться на Сталина, Зиновьева или Каменева, чем на меня. Озабоченный неизменно сбережением своего и чужого времени, Ленин старался к минимуму сводить расход сил на преодоление внутренних трений. У меня были свои взгляды, свои методы работы, свои приемы для осуществления уже принятых решений. Ленин достаточно знал это и умел уважать. Именно поэтому он слишком хорошо понимал, что я не гожусь для поручений. Там, где ему нужны были повседневные исполнители его заданий, он обращался к другим… Так, своими заместителями по председательствованию в Совете народных комиссаров Ленин привлек сперва Рыкова и Цюрупу, а затем… Каменева. Я считал этот выбор правильным. Ленину нужны были послушные практические помощники. Для такой роли я не годился…
В последние недели перед вторым ударом (т. е. в ноябре или начале декабря 1922 года. – Б. С.)…Ленин имел со мной большой разговор о моей дальнейшей работе… «Да, бюрократизм у нас чудовищный, – заметил Ленин, – я ужаснулся после возвращения к работе… Но именно поэтому вам не следует, по-моему, погружаться в отдельные ведомства сверх военного… Вам необходимо стать моим заместителем (в Совнаркоме. – Б. С.)». Я… сослался на «аппарат», который все более затрудняет мне работу даже и по военному ведомству. «Вот вы и сможете перетряхнуть аппарат», – живо подхватил Ленин, намекая на употребленное мною некогда выражение. Я ответил, что имею в виду не только государственный бюрократизм, но и партийный; что суть всех трудностей состоит в сочетании двух аппаратов и во взаимном укрывательстве влиятельных групп, собирающихся вокруг иерархии партийных секретарей. Ленин слушал напряженно и подтверждал мои мысли тем глубоким грудным тоном, который у него появлялся, когда он, уверившись в том, что собеседник понимает его до конца, и отбросив неизбежные условности беседы, открыто касался самого важного и тревожного. Чуть подумав, Ленин поставил вопрос ребром: «Вы, значит, предлагаете открыть борьбу не только против государственного бюрократизма, но и против Оргбюро ЦК (определявшего кадровую политику. – Б. С.)?» Я рассмеялся от неожиданности. Оргбюро ЦК означало самое средоточие сталинского аппарата. «Пожалуй, выходит так». «Ну, что ж, – продолжал Ленин, явно довольный тем, что мы назвали по имени существо вопроса, – я предлагаю вам блок: против бюрократизма вообще, против Оргбюро в частности». «С хорошим человеком лестно заключить хороший блок», – ответил я. Мы условились встретиться снова через некоторое время. Ленин предлагал обдумать организационную сторону дела. Он намечал создание при ЦК комиссии по борьбе с бюрократизмом (получалось: ударим бюрократизмом по бюрократизму! – Б. С.).Мы оба должны были войти в нее. По существу эта комиссия должна была стать рычагом для разрушения сталинской фракции, как позвоночника бюрократии, и для создания таких условий в партии, которые дали бы мне возможность стать заместителем Ленина, по его мысли: преемником на посту председателя Совнаркома. Только в этой связи становится полностью ясен смысл так называемого завещания… Бесспорная цель завещания: облегчить мне руководящую работу». По утверждению Троцкого, только обострение ленинской болезни помешало успеху задуманного блока.
Думаю, что подобный разговор между Лениным и Троцким действительно мог быть. Только Владимир Ильич про себя думал немножко другое, чем понял Лев Давидович. Ленин чувствовал во все усиливавшемся контроле Сталина над партийным аппаратом угрозу собственной власти, особенно в связи с болезнью. Ильич тогда еще надеялся, что время для активной политической деятельности у него есть. И надеялся, что сможет сам огласить «завещание» на одном из партийных съездов.
Вероятно, Ленин рассчитывал после перемещения Сталина с поста генсека вновь придать этой должности чисто технические функции, а центром власти сделать Совнарком. И, чтобы гарантировать сохранение своего влияния на периоды, когда болезнь не позволит осуществлять непосредственное руководство, разработал «систему сдержек и противовесов» (сегодня эту систему часто считают фирменным изобретением первого российского президента). Троцкий замещал бы Ильича на посту председателя Совнаркома, но имел бы, в свою очередь, трех не слишком симпатизирующих ему заместителей – Каменева, Рыкова и Цюрупу. Кроме того, противовесом Троцкому оставался бы и Сталин, который тоже получил бы в системе власти не последний пост.
Предлагаемая комиссия по борьбе с бюрократизмом была чистой фикцией, и сам Ильич это понимал. Он рассчитывал, что Троцкий клюнет на это предложение и решит, что получит действенный рычаг укрепления своего влияния. На самом деле, как показал опыт советских десятилетий, неоднократно создававшиеся комиссии такого рода только умножали бюрократизм. Они призваны были лишь создать у народа впечатление, что власть борется с бюрократами. Однако болезнь свела на нет ленинский замысел.
После смерти Ленина Троцкий в борьбе со Сталиным изначально был обречен на поражение. Хотя Владимир Ильич и предупреждал в «Письме к съезду», чтобы Льву Давидовичу не ставили в вину его прежний «небольшевизм», большинство в Политбюро и ЦК думало иначе. В борьбе за овладение руководством большевистской партии Троцкий в принципе не мог одержать верх. Тут играло свою роль и предубеждение по отношению к нему основной части членов партии, помнящих о его выступлениях против большевиков, и сталинский контроль над партийным аппаратом.
Для председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам единственным реальным путем к власти оставался путь военного переворота. Троцкий был по-прежнему популярен среди командного состава и рядовых красноармейцев. В его руках был контроль над аппаратом Красной Армии. Технически вооруженный захват власти после смерти Ленина был вполне осуществим. Многие сторонники искушали Льва Давидовича этой заманчивой перспективой. Но Троцкий мысль о перевороте отверг. Чем бы в таком случае он отличался от какого-нибудь латиноамериканского диктатора или только что, в 1922 году, осуществившего успешный «поход на Рим» Муссолини? Троцкому нужна была не просто власть в России, а власть для осуществления определенной идеи – мировой пролетарской революции. Россия нужна была как плацдарм, но главным образом – как пример для такой революции. В экспорт мировой революции на штыках Красной Армии Лев Давидович после неудачи польского похода не верил. Но в утопию самой революции продолжал, в отличие от Сталина, свято верить до своего последнего дня.
Когда ретроспективно бросаешь взгляд на тройку самых выдающихся большевистских вождей – Ленина, Сталина и Троцкого, – то сознаешь, что только последний по своим способностям мог бы вполне вписаться в западную демократическую систему. Администратор, оратор и публицист, в отличие от Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича, Лев Давидович был превосходный. Если бы Троцкий, например, остался бы в 1902 году в Англии, то мог сблизиться с местными лейбористами, сделал бы успешную партийную карьеру и, глядишь, в 20-е годы стал бы министром лейбористского кабинета, а со временем – может, и премьером. Сценарий, конечно, фантастический, но не такой уж невероятный. Ведь Троцкий в начале века еще не запятнал себя революционным террором, руки у него не были по локоть в крови. Для обычной карьеры «буржуазного» политика требовалось только одно – отказаться от идеи мировой пролетарской революции. И Троцкий вполне смог бы вписаться в политический истэблишмент что Англии, что США. Но он никогда, ни до 1917 года, ни после изгнания из СССР, даже не пытался этого сделать.
Что же касается Ленина и Сталина, то представить себе их заседающими в американском Сенате или британском парламенте просто невозможно. Таланты этих советских вождей нашли свое применение для создания сплоченной и дисциплинированной партии, нацеленной на захват власти насильственным путем. Ленин и Сталин также умели сохранить, путем искусных интриг, руководство такой партии уже после взятия ею власти в России. Но в условиях западной демократии эти таланты не были бы востребованы. Ленин и Сталин могли руководить государством с жесткой централизацией власти и в отсутствие основных демократических свобод. Вряд ли бы в той же Англии они могли бы претендовать даже на роль парламентариев-заднескамеечников. Однако в условиях революционной России политик типа Троцкого неизбежно должен был потерпеть поражение, а типа Ленина и Сталина – одержать победу.
Крупская чувствовала, что Троцкому верх не одержать. И не спешила присоединиться к, в общем чуждому ей, лагерю оппозиции. Однако в начале 1925 года, вскоре после снятия Троцкого с поста главы военного ведомства, Зиновьев и Каменев наконец поняли, что Сталин медленно, но верно уменьшает их роль в принятии действительно важных решений. Закадычные друзья увидели, что их большинство по отношению к генсеку в руководящей «тройке» уже ничего не значит, поскольку Сталин расставил своих людей в ЦК. Зиновьев и Каменев решили объединиться с опальным Троцким и дать бой Сталину и его сторонникам. Местом сражения был избран XIV съезд партии, проходивший в Москве с 18 по 31 декабря 1925 года. Первоначально съезд планировалось провести в Ленинграде, где Зиновьев мог опереться на преданную ему местную парторганизацию. Однако сталинское большинство ЦК настояло на переносе съезда в столицу под предлогом, что в противном случае будет парализована работа правительственных органов. Крупская на этот раз поддержала так называемую «новую оппозицию» Сталину. Однако во время съезда на стороне Зиновьева и Каменева, кроме ленинградской делегации, почти никто не выступил. Ведь подавляющее большинство делегатов назначалось аппаратом генерального секретаря, и свободные выборы даже в партии уже успели превратиться в фикцию. Троцкий, видя безнадежность положения, не стал выступать на съезде с речью. Крупская же была среди выступавших и подверглась откровенной обструкции со стороны сталинистов.
Ее речь замечательна во многих отношениях. Надежда Константиновна для начала заявила: «В прежние времена наша партия складывалась в борьбе с меньшевизмом и эсерством, в спорах с ними у членов партии складывалось убеждение, что именно большевистская линия – наиболее правильная линия. Теперь, товарищи, мы живем в других условиях… Конечно, в борьбе с меньшевиками и эсерами мы привыкли крыть наших противников, что называется, матом, и, конечно, нельзя допустить, чтобы члены партии в таких тонах вели между собой полемику».
Эти слова заставили меня вспомнить давний эпизод, когда мы с будущей женой зашли как-то днем съесть скромный комплексный обед в ресторан «Витязь». Невдалеке за столиком сидели две молодые официантки и в образных русских выражениях обсуждали сравнительные достоинства и недостатки своих мужей. Другая официантка, пожилая женщина, укоризненно им заметила: «Девочки, что ж вы матом на весь зал!» Такое впечатление, что Крупская точно также и с теми же шансами на успех пыталась увещевать своих коллег-делегатов: «Девочки, т. е., виновата, товарищи, что ж вы матом-то на весь зал, на своих же партийных товарищей! Одно дело, когда мы пускали матюги во всяких там меньшевиков и эсеров! Тут, как говорится, сам бог, т. е. (опять виновата, оговорилась) Ленин велел! Дело святое! Но своих партийцев матом никак нельзя! Потому что большевистская линия в целом – единственно правильная, а тех, кто от нее отклоняется, всегда можно поправить, подискутировать, может, и самому в чем поправиться».
Надежда Константиновна не замечает порочности своей аргументации. Раз признается, что «большевистская линия – наиболее правильная линия», то новые условия, когда меньшевиков и эсеров благополучно свели к ногтю, ничего принципиально не меняют. Раз есть генеральная линия партии, всегда можно найти новых меньшевиков-отступников, ее не придерживающихся. И поступить с ними соответствующим образом: сначала матом, потом в ссылку, а в конце концов – к стенке. И непонятно, почему Крупская, Зиновьев, Каменев и другие оппозиционеры обижались, что на съезде их, действительно, едва ли не матом крыли. «Новая оппозиция» заняла положение прежних эсеров и меньшевиков и неизбежно должна была разделить их судьбу.
Свою речь Надежда Константиновна закончила противопоставлением взглядов Ленина той линии, которой придерживалось большинство съезда: «Владимир Ильич говорил: ученье Маркса непобедимо, потому что оно верно. И наш съезд должен озаботиться тем, чтобы искать и найти правильную линию. В этом – его задача. Нельзя успокаивать себя тем, что большинство всегда право. В истории нашей партии бывали съезды, где большинство было неправо. Вспомним, например, стокгольмский съезд (Шум. Голоса: «Это тонкий намек на толстые обстоятельства».) Большинство не должно упиваться тем, что оно большинство, а беспристрастно искать верное решение. Если оно будет верным (Голос: «Лев Давыдович, у вас новые соратники»)… оно направит нашу партию на новый путь.
Нам надо сообща искать правильную линию. Громадное значение съезда в том и состоит, что этот съезд дает выражение коллективной мысли… Я думаю, что тут неуместны крики о том, что то или это – истинный ленинизм. В последние дни я, между прочим, перечитала и первую главу книжки Владимира Ильича «Государство и революция», написанной им как раз после июльских дней (1917 года. – Б. С.), когда он сам был на краю гибели. Там он писал: «В истории были случаи, когда учение великих революционеров искажалось после их смерти. Из них делали безвредные иконы, но, предоставляя их имени почет, притупляли революционное острие их учения». Я думаю, что эта горькая цитата заставляет нас не покрывать те или другие наши взгляды кличкой ленинизма, а надо по существу дела рассматривать тот или иной вопрос. Я думаю, товарищи, что сейчас о расколе, о недоверии к ЦК и т. д. не может быть речи. Не о том сейчас идет речь. Сейчас идет речь о том, как нам для дальнейшего установить рамки совместного обсуждения постоянно вновь и вновь возникающих в ходе работы вопросов, установить рамки такие, чтобы в этих рамках возможно было товарищеское обсуждение вопроса».
Когда же Надежда Константиновна при обсуждении работы ЦКК вторично взяла слово, ей просто не давали говорить, постоянно прерывая хорошо срежиссированными выкриками с мест. Потому что говорила Крупская совсем крамольные вещи, вполне в духе ленинского завещания и предлагавшегося Ильичом блока с Троцким: «…В силу нашего устава у нас есть Оргбюро и Секретариат с громадной властью, дающей им право перемещать людей, снимать их с работы. Это дает нашему Оргбюро, нашему Секретариату действительно необъятную власть. Я думаю, что когда будут обсуждаться пункты устава, надо с большей внимательностью, чем делалось это до сих пор, посмотреть, как разумно ограничить эти перемещения, эти снятия с работы, которые создают в партии часто невозможность откровенно, открыто высказаться… Я обращаюсь к съезду с просьбой особо внимательно подумать над этим. (Голос: «Он думает».) Я хотела бы, чтобы съезд подумал над тем, как сделать, чтобы получить для партии возможность создания внутрипартийной демократии». Под конец Надежде Константиновне уже и слова не давали сказать спокойно. Она взорвалась: «Товарищи из ЦКК, из президиума прекрасно знают, что для меня… вся эта кампания была совершенно неожиданной… Председатель, дайте говорить спокойно, все время перебивают… Я думаю, что тут надо общими усилиями постараться найти новые формы работы ЦКК, такие формы, которые действительно обеспечивали бы единство партии».
Голоса вдовы Ленина и других оппозиционеров так и остались гласом вопиющего в пустыне. С ними никто из сталинского большинства не собирался вести «товарищеского обсуждения» и, тем более, совместно искать «правильную линию». Все вопросы уже были решены Сталиным и его соратниками, а несогласных надо было затравить и принудить к капитуляции. Равноправными «товарищами» их уже не считали. Крупская очень скоро почувствовала это на себе.
Вскоре после съезда она говорила своей сослуживице по Наркомпросу Алисе Ивановне Радченко: «Меня беспрерывно травят по партийной линии, да еще как травят. Мне не могут простить моей близости к Ильичу и что я была в курсе невыгодных для некоторых товарищей фактов – теперь мне за это мстят и не церемонятся со мной и всячески подчеркивают свое неуважение. Ставят мне в упрек даже, что я дворянского происхождения… Говорят, что я якобы далека от жизни, не разбираюсь в сути разногласий, искажаю факты, стенограммы и т. д.». На объединенном пленуме 1926 года Орджоникидзе вполне по-хамски к ней обратился: «Для чего это (т. е. поддержка требований оппозиции. – Б. С.)Вам нужно, Надежда Константиновна, для того, чтобы пугать всю партию, чтобы партия теряла к Вам уважение… А ведь партия Вас любит не потому, что Вы великий человек, а потому, что Вы близкий человек великого нашего Ленина». Этой формуле не откажешь в циничной точности.
Надежда Константиновна признавалась Радченко: «Из 300 человек на пленуме ЦК только десять имеют мужество здороваться со мной». В эти дни, по свидетельству Троцкого, Крупская говорила: «Если б Володя был жив, он сидел бы сейчас в тюрьме». Вероятно, тогда же родились легенды о том, будто Сталин грозил Крупской в случае непослушания объявить женой Ильича другую женщину – то ли Инессу Арманд, то ли Лидию Фотиеву. Разумеется, в действительности такого разговора не было и не могло быть. Слишком хорошо было известно в стране и в мире, кто именно – жена Ленина. Скорее, в случае, если бы Крупскую все-таки пришлось репрессировать вместе с другими оппозиционерами, то в официальной мифологии Ленин вообще превратился бы в холостяка. Во всяком случае, о существовании у Ильича супруги перестали бы упоминать в мемуарах и биографиях.
Уже в 1926 году Троцкий, Зиновьев и Каменев были изгнаны из Политбюро и их изгнание из партии стало лишь вопросом времени. Крупская вовремя успела спрыгнуть с тонущего корабля оппозиции. 15 мая 1927 года она написала Зиновьеву письмо, где критиковала его за выступление несколькими днями раньше в Доме Союзов на 15-летии «Правды»: «По-моему, Вы кругом неправы. Вы знали, что речи передаются по радио, и Ваша речь поэтому была обращена не к партии, а к стране. Беспартийная рабочая и крестьянская масса считает, что оппозиция идет против основной партийной и советской линии. Это показывает, что с критикой было переборщено. Одно дело самокритика, другое – критика обвиняющая, прокурорская критика со стороны. – Надо изживать создавшееся положение, а не ухудшать его… Ваше выступление, по-моему, ошибка. На что другое могли Вы рассчитывать, как не на острый скандал? Чтобы влиять на политику партии – надо прежде всего изжить оппозиционный период. Вы знаете, как я смотрю с осени на это дело: устраивать перманентную бузу – ради бузы и истории – мне кажется вредным. После Вашего выступления, о котором я могу теперь судить по стенограмме, у меня явилось желание заявить в печати о своей точки зрения. Желание это усилилось, когда мне рассказали о выступлении оппозиции в районах. Это не политика – буза. Мне очень тяжело писать Вам все это. Вы знаете, что лично к Вам я относилась и продолжаю относиться как к старому товарищу, но тактику Вашу считаю ошибочной».
19 мая аналогичное письмо она написала Троцкому: «Вы знаете, что я с осени прошлого года ушла от оппозиции. Григорию (Зиновьеву. – Б. С.)говорила тогда, что мы прямым путем катимся при таких методах работь в другую партию и что на это я не пойду. Против организации во фракцию я была с самого начала». На следующий день в «Правде» появилось письмо Крупской: «Более близкие товарищи знают, что еще осенью прошлого года я отошла от оппозиции. Я пришла к заключению, что с критикой оппозиция – и я в том числе – переборщила, количество перешло в качество, товарищеская критика перешла во фракционную. Широкая крестьянская и рабочая масса поняла выступление оппозиции как выступление против основных принципов Коммунистической партии и Советской власти. Конечно, такое представление в корне ошибочно. Однако данный факт красноречиво говорит о необходимости более сдержанных и товарищеских форм полемики. Я считаю чрезвычайно важной самокритику партии, но я думаю, что эта самокритика не должна переходить в обвинения друг друга во всех смертных грехах. Нужно деловое, трезвое обсуждение вопросов. Только такое обсуждение может дать гарантию наиболее правильного решения вопросов. Переживаемый момент ставит перед партией ряд очень сложных вопросов, требующих обсуждения, он требует быстрого их разрешения. Это – с одной стороны. С другой – переживаемый момент требует максимального единства действий, напряженной работы по сообща намеченному плану. В этих условиях фракционный подход к решению вопросов может лишь вредить делу».
По существу, это была капитуляция, причем не слишком почетная. За бюрократическим новоязом, столь любимым Крупской, с его «самокритикой партии», «переживаемым моментом» и «напряженной работой по сообща намеченному плану», скрывается полное подчинение аппарату. Надежда Константиновна пытается обосновать сдачу прежних позиций сложностью текущего момента, диктующего полное единство партийных рядов. Если почитать «Правду», то окажется, что все семьдесят с лишним лет Советской власти обстановка была очень сложной, и борьба с внешними и внутренними врагами требовала единства и беспрекословного подчинения меньшинства большинству. Но не стоит обвинять ленинскую вдову в каком-то особом малодушии. В конце концов она – старая одинокая женщина, а перед Сталиным в итоге капитулировали все вожди разного рода оппозиций – куда более крепкие мужчины: Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков… Так и не сдавшегося Троцкого в далекой Мексике настигла смерть от руки агента НКВД. К тому же партия, революция и Ленин были для Крупской смыслом жизни, а все это массы уже неразрывно связывали с именем Сталина – великого продолжателя дела Ильича. Надежда Константиновна готова была поступиться принципами, лишь бы за ней признали право на память о Ленине, на публичный рассказ о том, что в жизни вождя было ведомо только ей. И на место в истории – как жены архитектора величайшей, как считали большевики, революции всех времен и народов.
Однако даже после капитуляции Надежде Константиновне жилось не сладко. 5 июля 1927 года А. И. Радченко записала в дневнике: «Собиралась она (Крупская. – Б. С.)с Н. Л. Мещеряковым поехать в Ульяновск, посмотреть, как обстоят политпросветские дела на родине Ильича. Но один старый товарищ их предупредил, что там черная сотня развелась, что могут из-за угла подстрелить. Она в ответ устало: «А жаль, что ли? Мне бы только дописать свои воспоминания об Ильиче, а там меня пусть скушает, кто хочет… Нервы у меня, как струны, болят, будто обнаженные».,
Но постепенно опала с ленинской вдовы была снята. В декабре 1927 года на XV Съезде партии Крупскую, бывшую прежде членом Центральной Контрольной Комиссии, впервые избирают в ЦК, причем сразу же полноправным членом. Членом высшего партийного органа она оставалась до самой смерти.
По воспоминаниям давней знакомой Надежды Константиновны, Доры Абрамовны Лазуркиной, работавшей в Ленинградском обкоме вместе с С. М. Кировым, в декабре 1931 года она получила от Крупской письмо. Та писала: «Я себя чувствую прескверно, и физически, и вообще. Очень прошу приехать ко мне, встретим Новый год, как мы его встречали с Ильичом в Женеве, в 1905 году». С этим письмом Лазуркина пошла к Кирову. Сергей Миронович посоветовал ей немедленно отправиться в Москву: «Надо обязательно съездить к Надежде Константиновне. Я недавно видел ее, и выглядит она очень скверно. У нее очень тяжелое настроение. Мы выдадим командировку, поживете у Надежды Константиновны. Постарайтесь успокоить ее, восстановить ее бодрость. Замечательный человек, Надежда Константиновна».
Приезду Лазуркиной Крупская обрадовалась. Дора Абрамовна так описала совместную встречу Нового года: «Мы вспоминали встречу Нового 1905 года в Женеве, свои юные революционные годы, Ильича, пели песни, которые он любил. В три часа все ушли, Надежда Константиновна попросила остаться с ней. Мы лежали на одной кровати, проговорили остаток ночи, немного поспали и вновь продолжали говорить и говорить. Так продолжалось три дня. Надежда Константиновна печально делилась со мной о своей доле после XIV съезда, о том, что она оторвана от ЦК, что отстранена от всего, чем живет партия, что на нее смотрят косо. Я старалась выполнить поручение Сергея Мироновича, поднять настроение Надежды Константиновны. Я видела, что она находится под впечатлением письма Владимира Ильича о Сталине, и пыталась ее убедить, что роль Сталина велика. Не будь его, мы были бы еще долго в плену оппозиции и течений».
Лазуркина уговаривала Надежду Константиновну написать письмо в ЦК с просьбой включить ее в «активную партийную жизнь». Такого письма Крупская писать не стала. Но 16 ноября 1932 года в «Правде» появилось личное письмо Надежды Константиновны Сталину в связи с внезапной смертью его второй жены Надежды Аллилуевой: «Эти дни как-то все думается о Вас и хочется пожать Вам руку. Тяжело терять близкого человека. Мне вспоминается пара разговоров с Вами в кабинете Ильича во время его болезни. Они мне тогда придали мужества». Крупская не знала, что Аллилуева застрелилась, заподозрив мужа в супружеской неверности. В своем письме вдова Ленина ясно давала понять, что забыла ссору декабря 1922 года.
Замечу, что тоска Крупской теперь уже не была связана с кампанией травли и изоляции, проводившейся во второй половине 20-х годов. Нет, она уже не была «персоной нон грата». Ей оказывали внешние знаки внимания. Например, в том же 31-м году, когда Крупская написала отчаянное письмо Лазуркиной, Надежду Константиновну избрали почетным академиком Академии Наук СССР, двумя годами раньше наградили орденом Трудового Красного Знамени. А в 1933 году удостоили высшей награды страны – орденом Ленина. Орден Ленина на груди его вдовы – это было символично. Превосходный сюжет для портретов, фотографий и плакатов. Но одиночество продолжало мучить Надежду Константиновну. С прежними друзьями из оппозиции пришлось порвать. Детей не было. Заново устроить личную жизнь она даже не пыталась. Понимала, что общественное мифологизированное сознание не может принять вдову обожествленного вождя как жену кого-нибудь другого из смертных.