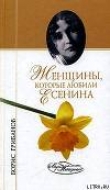Текст книги "Арманд и Крупская: женщины вождя"
Автор книги: Борис Соколов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Ленин и Крупская: дожитие
Когда болезнь свалила Ленина, уход за беспомощным мужем превратился для Надежды Константиновны в смысл жизни. В последние месяцы жизни Ильича в одном из писем она признавалась: «Живу только тем, что по утрам В. бывает мне рад, берет мою руку, да иногда говорим мы с ним без слов о разных вещах, которым все равно нет названия». Этим близким Крупской человеком была дочь Инессы Федоровны Арманд, тоже Инесса.
Первые признаки болезни появились летом 1921 года. Ильич стал сильно уставать, развилась бессонница, стали мучить головные боли и головокружение. В июле Ленин с тоской писал Горькому: «Я устал так, что ничегошеньки не могу». Лекарства ему не помогали. Сначала врачи думали, что дело только в переутомлении. Ежедневные многочасовые заседания, к которым надо было готовиться, писание сотен и тысяч записок и телеграмм, действительно, отнимали много сил. Тогда еще не было многочисленной армии референтов и спичрайтеров, облегчающей жизнь профессиональным политикам. Да и заседали тогда по всякому поводу и без всякого повода: центральная власть пыталась контролировать едва ли не все, что происходило в огромной стране. Например, 23 февраля 1921 года Ленин участвовал аж в 40 заседаниях – рекорд, достойный занесения в книгу Гиннеса! Думали, что колоссальная нагрузка привела к нервному истощению. Стоит только уменьшить число заседаний, меньше сидеть и писать, больше ходить, особенно на свежем воздухе, да еще как следует отдохнуть на природе месяц-другой – и все придет в норму. Выписанные из Германии медицинские светила профессора О. Ферстер и Г. Клемперер констатировали: «Никаких признаков органической болезни центральной нервной системы налицо не имеется».
Однако отдых вместе с Крупской в подмосковных Горках Ленину помог мало. В конце 1921 года боли и головокружения возобновились. Надежда Константиновна с тревогой замечала, что муж всю ночь не может уснуть. В канун нового 1922 года Политбюро в принудительном порядке отправило Ленина в отпуск на шесть недель, запретив приезжать из Горок в Москву. В стране сложилась ситуация, когда вождь катастрофическими темпами утрачивал способность к работе и, соответственно, к влиянию на политический курс. Подобное случилось в России еще раз уже в конце XX века, во второй половине 90-х, когда президент Ельцин, мучимый разнообразными недугами (или одним, но тщательно скрываемым), в Горках, Барвихе и других загородных резиденциях, а также в Кремлевской больнице стал проводить больше времени, чем в Кремле.
Болезнь Ленина была громом среди ясного неба не только для населения, но и для высшего политического руководства страны. Лев Троцкий вспоминал, что нездоровье вождя воспринималось как угроза делу революции: «Ленин очень следил за здоровьем своих сотрудников и нередко вспоминал при этом слова какого-то эмигранта: старики вымрут, а молодые сдадут. «Многие ли у нас знают, что такое Европа, что такое мировое рабочее движение? Пока мы с нашей революцией одни, – повторял Ленин, – международный опыт нашей партийной верхушки (т. е. многолетнее пребывание в эмиграции. – Б. С.)ничем не заменим». Сам Ленин считался крепышом, и здоровье его казалось одним из несокрушимых устоев революции. Он был неизменно активен, бдителен, ровен, весел. Только изредка я подмечал тревожные симптомы. В период первого конгресса Коминтерна он поразил меня усталым видом, неровным голосом, улыбкой больного. Я не раз говорил ему, что он слишком расходует себя на второстепенные дела. Он соглашался, но иначе не мог. Иногда жаловался – всегда мимоходом, чуть застенчиво – на головные боли. Но две-три недели отдыха восстанавливали его. Казалось, что Ленину не будет износу».
Ленин понимал, что болен очень серьезно. Он с тревогой спрашивал врачей: «Ведь это, конечно, не грозит сумасшествием?»– А однажды после очередного обморока заметил: «Так когда-нибудь будет у меня кондрашка (народное название инсульта – кровоизлияния в мозг. – Б. С.).Мне уже много лет назад один крестьянин (не в Шушенском ли? – Б. С.)сказал: «А ты, Ильич, помрешь от кондрашки», – и на мой вопрос, почему он так думает, он ответил: «Да шея у тебя уж больно короткая». На этот раз грозного «кондратия» не пришлось долго ждать.
В апреле 1922 года у Ленина удалили одну из двух пуль, оставшихся в его теле после выстрелов Фанни Каплан. Это был жест отчаяния. Таким путем наивно надеялись затормозить развитие загадочной болезни. Но тщетно.
Ленин успел еще 4 мая 1922 года провести на Политбюро решение об изъятии церковных ценностей для помощи голодающим. Верующие и церковные иерархи протестовали против этого постановления. Они не без основания сомневались, что средства, вырученные от продажи церковных реликвий, дойдут до голодающих, а не будут использованы для нужд, например, Красной Армии или мировой революции. Да и продажа за бесценок сокровищ за границу не спасала положения. Но Ленину и его товарищам важно было подавить церковь, лишить ее возможности конкурировать с марксистской идеологией в умах и сердцах людей, а заодно и материально подкрепить власть большевиков. Ильич так и писал членам Политбюро: «Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы сможем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности, совершенно не мыслимы. Взять в свои руки фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать нам этого не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс…»
Вот, оказывается, как все просто. Грабить церкви надо вовсе не для того, чтобы спасти голодающих Поволжья. Есть гораздо более важная задача: обеспечить советскому правительству золотой запас, чтобы оно могло увереннее разговаривать с «империалистами» на Генуэзской конференции! И – попытаться поднять крестьян против церкви. Вожди большевиков надеялись, что голодные легче поверят пропагандистским утверждениям, что подлецы-церковники не хотят поделиться с погибающими от неурожая своими сокровищами. Хотя церковь не раз предлагала сама организовать помощь голодающим, но власти это было не нужно. Лучше было изъять все, до последнего, силой. Страху навести, да и больше достанется. И начали грабить. С икон сдирали драгоценные оклады, изымались священные сосуды, другая церковная утварь. Сопротивляющихся прихожан арестовывали (а всего произошло почти полторы тысячи столкновений верующих с милицией и чекистами).
Был ли постигший Ленина удар Божьей карой или нет, мы никогда не узнаем. Правда, если принять версию с Богом, возникает вопрос: почему инициированный Ильичом «красный террор» не вызвал немедленной кары небес? Может, Божьему терпению пришел конец, когда вождь большевиков столь основательно зацепил церковь?
А 17 мая Ленин успел послать наркому юстиции Д. И. Курскому дополнения к новому уголовному кодексу, где предлагал «расширить применение расстрела» и требовал «открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически-узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора». Ильич особо подчеркивал: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого».
И Ленин дает образец такой формулировки, впоследствии ставшей основой печально знаменитой 58-й статьи, каравшей за «контрреволюционную деятельность»: «Пропаганда, или агитация, или участие в организации, или содействие организациям, действующие (пропаганда и агитация) в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к насильственному ее свержению, путем ли интервенции, или блокады, или шпионажа, или финансирования прессы и т. под. средствами, карается высшей мерой наказания, с заменой, в случае смягчающих вину обстоятельств, лишением свободы или высылкой за границу».
Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» остроумно заметил, что под такую статью можно хоть Блаженного Августина свободно подвести. Правда, Владимир Ильич, как кажется, не предполагал, что в недалеком будущем «революционное правосознание» Сталин с большим успехом применит к близким к Ленину вождям партии – Зиновьеву, Каменеву, Бухарину и многим другим.
23 мая 1922 года Ленин с женой уехал в Горки. Пытался работать, ничего не получалось. Выглядел неважно. 25 мая после ужина у Ильича случилась изжога, а перед сном он почувствовал слабость в правой руке. Утром была рвота, болела голова. Ленин с трудом мог говорить, утратил способность читать («поплыли» буквы), не мог писать (получалась только буква «м»). Чувствовалась слабость в правой руке и ноге. Но примерно через час все симптомы исчезли. Врачи решили, что это следствие гастрита, прописали слабительное и покой. Однако вечером 27 мая все повторилось, теперь уже с полной потерей речи. Теперь профессор Крамер констатировал тромбоз (закупорку) сосудов головного мозга. Позднее паралич правых конечностей повторялся многократно, но быстро исчезал.
Состояние Ленина то ухудшалось, то вновь улучшалось. Память, речь и способность к письму периодически возвращались. Но Ленин уже не верил в выздоровление. Но не хотел бросать политику, уходить от власти в частную жизнь. Через несколько дней после приступа Ленин писал Сталину: «т. Сталин! Врачи, видимо, создают легенду, которую нельзя оставить без опровержения. Они растерялись от сильного припадка в пятницу и сделали сугубую глупость: пытались запретить «политические» совещания (сами плохо понимая, что это значит). Я чрезвычайно рассердился и отшил их. В четверг у меня был Каменев. Оживленный политический разговор. Прекрасный сон, чудесное самочувствие. В пятницу паралич. Я требую Вас экстренно, чтобы успеть сказать, на случай обострения болезни. Только дураки могут тут валить на политические разговоры. Если я когда волнуюсь, то из-за отсутствия своевременных и компетентных разговоров. Надеюсь, вы поймете это, и дурака немецкого профессора и Кº отошьете. О пленуме ЦК непременно приезжайте рассказать или присылайте кого-либо из участников…»
Владимир Ильич уже догадывался, что причина недуга – не в переутомлении от заседаний и бесед, а связано с какой-то болезнью сосудов головного мозга. Это грозило полным параличом и слабоумием. Таким Ленин жить не хотел. И совсем не рассказ о пленуме был нужен ему от Сталина. 30 мая 1922 года Иосиф Виссарионович откликнулся на ленинскую просьбу и навестил больного. Ильич попросил достать яду: «Теперь момент, о котором я Вам говорил раньше, наступил, у меня паралич, и мне нужна Ваша помощь». Сталин обещал, но уверил Ленина, что думать о яде пока рано, поскольку все шансы на выздоровление сохраняются. Вот что рассказывала об этом эпизоде Мария Ильинична Ульянова: «Зимой 20/21, 21/22 годов В. И. чувствовал себя плохо. Головные боли, потеря работоспособности сильно беспокоили его. Не знаю точно, когда, но как-то в этот период В. И. сказал, что он, вероятно, кончит параличом и взял со Сталина слово, что в этом случае тот поможет ему достать и даст ему цианистого калия. Сталин обещал.
Почему В. И. обратился с этой просьбой к Сталину? Потому что он знал его за человека твердого, стального, чуждого всякой сентиментальности».
Вскоре состояние Ленина улучшилось, и мысли о самоубийстве на время покинули его. 11 июня он проснулся словно другим человеком. Ленин так рассказал о своем состоянии: «Сразу почувствовал, что в меня вошла новая сила. Чувствую себя совсем хорошо… Странная болезнь, что бы это могло быть? Хотелось бы об этом почитать».
И Ильич стал читать медицинские книги, которые брал у брата Дмитрия, врача. Но это был напрасный труд. Загадочная болезнь светилами науки не была диагностирована ни тогда, ни десятилетия спустя. Подозревали наследственный сифилис, от него и пробовали лечить. Посмертное вскрытие этот диагноз как будто не подтвердило, но и не опровергло. Правда, не было проведено наиболее важное для диагностирования этой болезни патолого-анатомическое исследование дуги аорты (она при наследственном сифилисе поражается в первую очередь). А некоторые из родственников Ленина в свое время скончались от болезни примерно с теми же симптомами, что обнаружились у Владимира Ильича. Отец Ленина умер от склероза сосудов мозга тоже в возрасте 53 лет. Мать этот недуг настиг уже в почтенном, 70-летнем возрасте, так что склероз у нее мог быть следствием старения организма. Вполне возможно, что болезнь Ленина действительно имела наследственный характер.
А исследовать дугу аорты не стали умышленно. Нарком здравоохранения Н. А. Семашко особо просил производившего вскрытие патологоанатома профессора А. И. Абрикосова обратить особое внимание на доказательство отсутствия у Ленина сифилиса, чтобы сохранить светлый лик вождя. Вот Алексей Иванович и не стал лезть в дугу аорты – от греха подальше. Не делали и анализ крови на реакцию Вассермана. Правда, анализ спинномозговой жидкости производили неоднократно, и тут реакция Вассермана была отрицательной. Тем не менее, диагноз наследственного сифилиса так и остался не подтвержденным, но и не опровергнутым.
Другие возможные диагнозы – рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера, более известная ныне под названием «коровье бешенство» и приведшая к истреблению поголовья крупного рогатого скота в Великобритании. Какой из диагнозов истинный, теперь уже невозможно определить.
У Ленина продолжали возникать кратковременные спазмы, что приводило к частичному параличу правых конечностей. Он так передавал свои ощущения во время приступов: «В теле делается вроде буквы «s» и в голове тоже. Голова при этом немного кружится, но сознание не терял… Если бы я не сидел в это время, то, конечно, упал бы». Ленин под руководством Крупской вновь учился писать, решать простейшие арифметические задачи, запоминать короткие слова и фразы.
Болезнь Ильича произвела ошеломляющее впечатление в партийных рядах. Жена Троцкого Наталья Седова записала в дневнике: «Первые слухи о болезни Ленина передавались шепотом. Никто как будто никогда не думал о том, что Ленин может заболеть. Многим было известно, что Ленин зорко следил за здоровьем других, но сам, казалось, он не был подвержен болезни. Почти у всего старшего поколения революционеров сдавало сердце, уставшее от слишком большой нагрузки. «Моторы дают перегрузки почти у всех», – жаловались врачи. «Только и есть два исправных сердца, – говорил Льву Давыдовичу профессор Гетье, – это у Владимира Ильича да у вас. С такими сердцами до ста лет жить». Исследование иностранных врачей подтвердило, что два сердца из всех ими выслушанных в Москве работают на редкость хорошо: это сердца Ленина и Троцкого. Когда в здоровье Ленина произошел внезапный для широких кругов поворот, он воспринимался как сдвиг в самой революции. Неужели Ленин может заболеть, как всякий другой, и умереть? Нестерпимо было, что Ленин лишился способности двигаться и говорить. И верилось крепко в то, что он все одолеет, поднимется и поправится…»
По злой иронии судьбы, оба большевистских вождя с на редкость хорошо работающими сердцами далеко не дожили до ста лет. Ленина в 53 года сгубила загадочная болезнь, Троцкого в 60 – удар ледоруба, нанесенный рукой сталинского агента. Но массы не могли предвидеть, чем кончится жизненный путь вождей. Ленин давно уже стал положительным культурным героем мифа, а такого героя никакая хворь не должна брать. Но для Надежды Константиновны Ильич был не мифом, а живым человеком. Она гораздо больше других знала о том, сколь тяжела поразившая мужа болезнь, но, как и все, питала надежды на выздоровление. Тем более, что дело вроде бы пошло на поправку.
2 октября 1922 года Ленин вернулся в Москву, на следующий день председательствовал на заседании Совнаркома. Но 6 октября на Пленуме ЦК почувствовал себя плохо и в последующие дни отказался от нескольких планировавшихся раньше публичных выступлений. Признался старому партийцу Иосифу Станиславовичу Уншлихту: «Физически чувствую себя хорошо, но нет уже прежней свежести мысли. Выражаясь языком профессионала, потерял работоспособность на довольно длительный срок».
Тем не менее, 31 октября Владимир Ильич смог выступить на заседании ВЦИК и еще в течение ноября вести заседания Совнаркома. 20 ноября состоялось последнее публичное выступление Ленина – на заседании Моссовета. Эту речь он закончил примечательным пассажем об иконах: «Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего, или какой-либо отвлеченной картины, или какой-либо иконы. Насчет икон мы остались мнения старого, весьма плохого. Мы социализм протащили в повседневную жизнь и тут должны разобраться. Вот что составляет задачу нашего дня, вот что составляет задачу нашей эпохи. Позвольте мне закончить выражением уверенности, что, как эта задача ни трудна, как она ни нова по сравнению с прежней нашей задачей и как много трудностей она нам ни причиняет, – все мы вместе, не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту задачу во что бы то ни стало, так что из России нэповской будет Россия социалистическая». Будто предвидел, что после смерти самого превратят в икону.
До превращения же России из нэповской в социалистическую Ильич не дожил. И не узнал ни о миллионах жертв насильственной коллективизации, ни о терроре 30-х годов, ни о десятках миллионов погибших в Великую Отечественную войну. Хотя, надо полагать, все это в той или иной степени предвидел, считал необходимым и неизбежным. Иначе не стал бы требовать от Курского расширить применение расстрела в новом кодексе, не формулировал знаменитую 58-ю статью по принципу: «3axoчy – посажу (или расстреляю)». А о том, что в войне с империалистами не грех уложить ради победы за одного врага даже несколько лучших коммунистов (не говоря уж о беспартийных), как мы помним, Ленин вполне откровенно заявил еще в январе 1920 года!
25 ноября 1922 года консилиум врачей решил, что Ленину необходим абсолютный покой и отдых. Однако Ильич пытался решить еще ряд текущих дел и в Горки уехал только вечером 7 декабря. 13 декабря последовали два тяжелых приступ с полной потерей речи. Врачи отметили в истории болезни: «С большим трудом удалось уговорить Владимира Ильича не выступать ни в каких заседаниях и на время совершенно отказаться от работы. Владимир Ильич в конце концов на это согласился и сказал, что сегодня же начнет ликвидировать свои дела». 16 декабря Ленин продиктовал Крупской письмо о передаче всех обязанностей своим заместителям. Через два дня состояние больного стало еще хуже. 18 декабря ЦК возлагает на генерального секретаря Сталина ответственность за соблюдение режима изоляции, предписанного Ленину врачами.
22–23 декабря – новый сильный приступ. И 23-го числа Ленин начинает диктовать секретарю М. А. Володичевой секретное «Письмо к съезду» (XII съезд РКП должен был открыться 11 января 1923 года), где рекомендует переместить Сталина с поста генсека. На следующий день врачи доложили Сталину, Каменеву и Бухарину о состоянии вождя и о том, что он начал диктовать. «Тройка» членов Политбюро приняла решение: «1. Владимиру Ильичу предоставляется право диктовать ежедневно 5–10 минут, но это не должно носить характер переписки и на эти записки Владимир Ильич не должен ждать ответа. Свидания запрещаются. 2. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений». Диктовку «Письма» Ленин закончил 4 января 1923 года. Впоследствии оно часто именовалось «политическим завещанием» вождя.
Ленин не скупился на яркие тона при характеристике коллег по Политбюро и ЦК: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу…» Раскола же беспомощный вождь боялся больше всего. Ведь тогда его детище – Октябрьская революция, а вслед за ней и революция мировая оказались бы под угрозой гибели (так думал Ильич, но не Сталин).
Других членов ЦК Ленин охарактеризовал еще менее уважительно. Зиновьеву и Каменеву напомнил их «октябрьский эпизод», когда они не только проголосовали против вооруженного восстания, но и сообщили об этом секретном решении в газетах. Чем-чем, а храбростью Григорий Евсеевич и Лев Борисович никогда не отличались, и Ленин прямо намекал на это.
Теоретические воззрения Бухарина, по ленинскому определению, схоластичны и «очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским» (таковыми Владимир Ильич скромно считал только воззрения Маркса, Энгельса и свои собственные).
Досталось и Юрию Леонидовичу Пятакову – человеку «несомненно выдающейся юли и выдающихся способностей, но слишком увлекающемуся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе». В переводе на общечеловеческий язык это означало, что Пятаков, в ту пору – заместитель председателя ВСНХ Дзержинского (от «железного Феликса» в Высшем Совете Народного Хозяйства толку было мало), прежде всего озабочен вопросами управления народным хозяйством и профессиональными качествами своих сотрудников, а не их политической благонадежностью. Это, по мнению Ленина, делало не вполне благонадежным самого Юрия Леонидовича.
Словом, всем сестрам по серьгам. Но в заключительной части письма, продиктованной 4 января 1923 года, больше всего досталось Кобе: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. (…) С точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною… о взаимоотношениях Сталина и Троцкого это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение».
Положим, чем-чем, а бранью Ленина удивить было трудно. Он сам и устно, и письменно не раз ругал как своих оппонентов, так и соратников по партии последними словами, так что порой в собрании сочинений приходилось ставить многоточия. Очень точно охарактеризовал заключительный период деятельности Ленина на посту главы Совнаркома Михаил Восленский в книге «Номенклатура»: «Когда читаешь страницу за страницей последние тома Полного собрания сочинений, встает образ постоянно раздраженного, капризного и придирчивого начальника, который по всякому поводу устраивает разносы своим подчиненным. В забытое прошлое канули товарищеские отношения, которые объединяли его с этими людьми в недавней эмиграции. Подчиненные заискивают и благоговеют. И чем больше они стушевываются и воскуривают фимиам, тем тверже убеждается начальник, что он непогрешим, но окружен ленивыми недоумками, которых надо стегать и во все тыкать носом. Вождь недавней революции уже с нескрываемым презрением отзывается о революционерах…»
Поэтому в письме к съезду ленинская логика не вполне понятна. Раз грубость в общении между коммунистами – вещь вполне терпимая, то что за беда, если Сталин лишний раз обругает кого-нибудь из партийцев (ругать империалистов, меньшевиков да и просто провинившихся в чем-либо беспартийных сам Бог велел). Можно подумать, правда, что Ленин считает недопустимым, если Сталин, занимающий ключевой пост в партии, будет груб с партийными товарищами. А те от него всецело зависят и не смогут ответить генсеку столь же непочтительно. Однако разве сам Ильич не позволял себе в эмиграции ругать соратников-большевиков, зависимых от него в денежном или ином отношении? Ведь ни один из обруганных соратников никогда не ответил вождю в адекватных непарламентских выражениях. Создается впечатление, что грубость Сталина для Ильича – только предлог, чтобы убрать Иосифа Виссарионовича с поста генерального секретаря. Занемогший председатель Совнаркома всерьез опасался, что сосредоточенную в своих руках огромную власть вершителя судеб всех членов партии Сталин может не отдать никому, в том числе и ему, Ленину. Супруг Крупской еще надеялся на выздоровление.
Интересно, что оба выделенных в письме большевистских лидера вместе с самим Лениным были наиболее беспощадными из всех членов Политбюро. Когда высшему партийному органу приходилось непосредственно решать вопрос о казни отдельных арестованных или взятых в заложники, Каменев, Калинин или Рыков порой проявляли мягкость. Но тройка Ленин – Сталин – Троцкий почти всегда отправляла несчастных на смерть. Владимир Ильич чувствовал, что только кто-то из этих двух, Сталина и Троцкого, может стать его преемником, но думал, что до выбора преемника еще далеко.
Ленин настаивал, чтобы все пять экземпляров письма хранились в запечатанном сургучом конверте, который мог вскрывать лишь он сам, а после его смерти – только Крупская. Однако Володичева не сделала на конверте соответствующей пометки. Секретарь Совнаркома Л. А. Фотиева (они с Володичевой посменно дежурили у постели больного вождя) прочитала письмо и ознакомила с ним Сталина, Зиновьева и Каменева. К тому времени они составили в Политбюро триумвират против Троцкого, и смещение Сталина с поста генсека не устраивало всех троих. На первом съезде без Ленина, ХIII-м, обсуждение ленинского письма было организовано не на пленарном заседании, а по делегациям, руководители которых уже были ориентированы генеральным секретарем в нужном духе. В результате Сталин остался на своем посту, ограничившись обещанием исправить отмеченные Лениным недостатки. А недостатки эти были – отсутствие терпимости, лояльности, вежливости и внимательности к товарищам по партии, а также капризность. Иосиф Виссарионович действительно оказался чрезвычайно внимателен ко всем членам Политбюро и ЦК, упомянутым в ленинском письме: он их уничтожил. Нет человека – нет проблемы, в данном случае – проблемы с завещанием Ильича.
Но это происходило уже после смерти Ленина. Пока же болезнь постепенно прогрессировала. В феврале 1923 года, как вспоминал профессор В. В. Крамер, опять «отмечались сперва незначительные, а потом и более глубокие, но всегда только мимолетные нарушения в речи… Владимиру Ильичу было трудно вспомнить то слово, которое ему было нужно… Продиктованное им секретарше он не был в состоянии прочесть… Он начинал говорить нечто такое, что нельзя было совершенно понять».
Надежда Константиновна постоянно находилась рядом с мужем. 5 марта Ильич диктовал письмо Троцкому с просьбой: «взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Дело это сейчас находится под «преследованием» Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив. Если бы Вы согласились взять на себя его защиту, то я бы мог быть спокойным».
Речь шла о стремлении руководства грузинской компартии во главе с Буду Мдивани добиться большей автономии своей страны в составе искусственно созданной Закавказской федерации и собственной независимости от Закавказского крайкома РКП, который возглавлял Орджоникидзе. Приехавшая для разбора конфликта комиссия ЦК во главе с Дзержинским приняла сторону крайкома, а в пылу дискуссии Серго съездил по морде одному из грузинских коммунистов. Ленин категорически осудил поведение Орджоникидзе и покрывшего его Дзержинского, усмотрев здесь проявление «великорусского шовинизма». Владимир Ильич настаивал на достижении компромисса между Закавказским крайкомом и грузинскими коммунистами, чтобы можно было «действительно защитить инородцев от истинно русского держиморды». В заметках, продиктованных 30 декабря 1922 года, он обвинил поддерживавшего Орджоникидзе и Дзержинского Сталина в «администраторском увлечении» и озлоблении против «социал-национализма» (так противники характеризовали взгляды группы Мдивани). Узнав же, что Политбюро одобрило выводы комиссии Дзержинского, Ленин просил Троцкого добиться отмены этого решения и защитить грузинских коммунистов. К тому времени в Политбюро уже сложился мощный антитроцкистский блок Сталина, Каменева и Зиновьева, о чем Ленин, вероятно, не знал. Выступление Троцкого вряд ли могло изменить положение. Узнав, что из-за болезни Лев Давидович не сможет участвовать в «грузинском деле», Ленин 6 марта 1923 года продиктовал последнюю в своей жизни записку. Она имела гриф «строго секретно» и была адресована Мдивани и его товарищам. Копии же предназначались Троцкому и Каменеву. Ленин сообщал: «Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь».
Никакой речи Владимир Ильич написать не успел. Его заступничество Мдивани не помогло. Буду и его товарищей благополучно расстреляли в 37-м. Не уцелел и их противник Орджоникидзе. Из-за конфликта со Сталиным он застрелился в том же году, опасаясь неминуемой расправы.
Грузинский конфликт, возможно, немного приблизил кончину Ленина, причем самым неожиданным образом. 5 марта 1923 года Ильич диктовал письмо Троцкому в присутствии Крупской. Надежда Константиновна не выдержала и рассказала мужу о своем столкновении с генеральным секретарем. Может быть, на этот поступок ее спровоцировал критический тон письма по отношению к Сталину. Два с половиной месяца крепилась и ничего не говорила о неприятном происшествии, чтобы не волновать больного. Личный секретарь Крупской Вера Соломоновна Дридзо в письме в журнал «Коммунист», написанном в 1989 году, со слов Надежды Константиновны так рассказывала об объяснении супругов в тот мартовский день: «Надежда Константиновна и Владимир Ильич о чем-то беседовали. Зазвонил телефон. Надежда Константиновна пошла к телефону (телефон в квартире Ленина всегда стоял в коридоре). Когда она вернулась, Владимир Ильич спросил: «Кто звонил?» – «Это Сталин, мы с ним помирились». – «То есть как?» И пришлось Надежде Константиновне рассказать все, что произошло в декабре 1921 года».