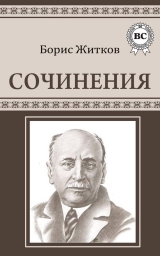
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Борис Житков
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц)
– Давай что попало, она сама разберёт, что ей надо.
Я выпросил у повара мяса, накупил бананов, притащил хлеба, блюдце молока. Всё это поставил посреди каюты и открыл клетку. Сам залез на койку и стал глядеть. Из клетки выскочила дикая мангуста, и они вместе с ручной прямо бросились на мясо. Они рвали его зубами, крякали и урчали, лакали молоко, потом ручная ухватила банан и потащила его в угол. Дикая – прыг! – и уж рядом с ней. Я хотел поглядеть, что будет, вскочил с койки, но уж поздно: мангусты бежали назад. Они облизывали мордочки, а от банана остались на полу одни шкурки, как тряпочки.
Наутро мы были уже в море. Я всю свою каюту увесил гирляндами бананов. Они на верёвочках качались под потолком. Это для мангуст. Я буду давать понемногу – надолго хватит. Я выпустил ручную мангусту, и она теперь бегала по мне, а я лежал, полузакрыв глаза и недвижно.
Гляжу – мангуста прыгнула на полку, где были книги. Вот она перелезла на раму круглого пароходного окна. Рама слегка вихлялась, пароход качало. Мангуста покрепче примостилась, глянула вниз, на меня. Я притаился. Мангуста толкнула лапкой в стенку, и рама поехала вбок. И в тот самый миг, когда рама была против банана, мангуста рванулась, прыгнула и обеими лапками ухватила банан. Она повисла на момент в воздухе, под самым потолком. Но банан оторвался, и мангуста шлёпнулась об пол. Нет! Шлёпнулся-то банан. Мангуста прыгнула на все четыре лапки. Я привскочил поглядеть, но мангуста уже возилась под койкой. Через минуту она вышла с замазанной мордой. Она покрякивала от удовольствия.
Эге! Пришлось перевесить бананы к самой середине каюты: мангуста уже пробовала по полотенцу вскарабкаться повыше. Лазала она, как обезьяна; у неё лапки, как ручки. Цепкие, ловкие, проворные. Она совсем меня не боялась. Я выпустил её на палубу погулять, на солнце. Она сразу по-хозяйски всё обнюхала и бегала по палубе так, будто она и сроду нигде больше не была и тут её дом.
Но на пароходе у нас был свой давнишний хозяин на палубе. Нет, не капитан, а кот. Громадный, откормленный, в медном ошейнике. Он важно ходил по палубе, когда было сухо. Сухо было и в этот день. И солнце поднялось над самой мачтой. Кот вышел из кухни поглядеть, всё ли в порядке. Он увидел мангусту и быстро пошёл, а потом начал осторожно красться. Он шёл по железной трубе. Она тянулась по палубе. Как раз у этой трубы суетилась мангуста. Она как будто и не видела кота. А кот был уж совсем над нею. Ему оставалось только протянуть лапу, чтобы вцепиться когтями ей в спину. Он выжидал, чтобы поудобней. Я сразу сообразил, что сейчас будет. Мангуста не видит, она спиной к коту, она разнюхивает палубу как ни в чём не бывало; кот уже прицелился.
Я бросился бегом. Но я не добежал. Кот протянул лапу. И в тот же миг мангуста просунула голову меж задних лап, разинула пасть, громко каркнула, а хвост – громадный пушистый хвост – поставила вверх столбом, и он стал как ламповый ёжик, что стёкла чистят. В одно мгновение она обратилась в непонятное, невиданное чудище. Кота отбросило назад, как от калёного железа. Он сразу повернул и, задрав хвост палкой, понёсся прочь без оглядки. А мангуста как ни в чём не бывало снова суетилась и что-то разнюхивала на палубе. Но с тех пор красавца кота редко кто видел. Мангуста на палубе – кота и не сыщешь. Его звали и «кис-кис» и «Васенька». Повар его мясом приманивал, но кота найти нельзя было, хоть обыщи весь пароход. Зато у кухни теперь вертелись мангусты; они крякали, требовали от повара мяса. Бедный Васенька только по ночам пробирался к повару в каюту, и повар его прикармливал мясом. Ночью, когда мангусты были в клетке, наступало Васькино время.
Но вот раз ночью я проснулся от крика на палубе. Тревожно, испуганно кричали люди. Я быстро оделся и выбежал. Кочегар Фёдор кричал, что сейчас идёт он с вахты и вот из этих самых индийских деревьев, вот из этой груды, выползла змея и сейчас же назад спряталась. Что змея – во! – в руку толщиной, чуть ли не две сажени длиной. И вот даже на него сунулась. Никто не верил Фёдору, но всё же на индийские деревья поглядывали с опаской. А вдруг и вправду змея? Ну, не в руку толщиной, а ядовитая? Вот и ходи тут ночью! Кто-то сказал: «Они тепло любят, они к людям в койки заползают». Все примолкли. Вдруг все повернулись ко мне:
– А ну, зверюшек сюда, мангустов ваших! А ну, пусть они…
Я боялся, чтобы ночью не убежала дикая. Но думать было некогда: уже кто-то сбегал ко мне в каюту и уже нёс сюда клетку. Я открыл её около самой груды, где кончались деревья и видны были чёрные ходы между стволами. Кто-то зажёг электрическую люстру. Я видел, как первой юркнула в чёрный проход ручная. И следом за ней дикая. Я боялся, что им прищемит лапки или хвост среди этих тяжёлых брёвен. Но уже было поздно: обе мангусты ушли туда.
– Неси лом! – крикнул кто-то.
А Фёдор уж стоял с топором. Потом все примолкли и стали слушать. Но ничего не слышно было, кроме скрипа колод. Вдруг кто-то крикнул:
– Гляди, гляди! Хвост!
Фёдор замахнулся топором, другие отсунулись дальше. Я схватил Фёдора за руку. Он с перепугу чуть не хватил топором по хвосту; хвост был не змеи, а мангусты – он то высовывался, то снова втягивался. Потом показались задние лапки. Лапки цеплялись за дерево. Видно, что-то тянуло мангусту назад.
– Помоги кто-нибудь! Видишь, ей не по силам! – крикнул Фёдор.
– А сам-то чего? Командир какой! – ответили из толпы.
Никто не помогал, а все пятились назад, даже Фёдор с топором. Вдруг мангуста изловчилась; видно было, как она вся извилась, цепляясь за колоды. Она рванулась и вытянула за собой змеиный хвост. Хвост мотнулся, он вскинул вверх мангусту и брякнул её о палубу.
– Убил, убил! – закричали кругом.
Но моя мангуста – это была дикая – мигом вскочила на лапы. Она держала змею за хвост, она впилась в неё своими острыми зубками. Змея сжималась, тянула дикую снова в чёрный проход. Но дикая упиралась всеми лапками и вытаскивала змею всё больше и больше. Змея была толщиной в два пальца, и она била хвостом о палубу, как плетью, а на конце держалась мангуста, и её бросало из стороны в сторону. Я хотел обрубить этот хвост, но Фёдор куда-то скрылся вместе с топором. Его звали, но он не откликался. Все в страхе ждали, когда появится змеиная голова. Сейчас уже конец, и вырвется наружу вся змея. Это что? Это не змеиная голова – это мангуста! Вот и ручная прыгнула на палубу: она впилась в шею змеи сбоку. Змея извивалась, рвалась, она стучала мангустами по палубе, а они держались, как пиявки.
Вдруг кто-то крикнул:
– Бей! – и ударил ломом по змее.
Все бросились и, кто чем, стали молотить. Я боялся, что в переполохе убьют мангуст. Я оторвал от хвоста дикую.
Она была в такой злобе, что укусила меня за руку; она рвалась и царапалась. Я сорвал с себя шапку и завернул ей морду. Ручную оторвал мой товарищ. Мы усадили их в клетку. Они кричали и рвались, хватали зубами решётку. Я кинул им кусочек мяса, но они и внимания не обратили. Я потушил в каюте свет и пошёл прижечь йодом покусанные руки.
А там, на палубе, все ещё молотили змею. Потом выкинули за борт.
С этих пор все стали очень любить моих мангуст и таскали им поесть, что у кого было. Ручная перезнакомилась со всеми, и её под вечер трудно было дозваться: вечно гостит у кого-нибудь. Она бойко лазала по снастям. И раз под вечер, когда уже зажгли электричество, мангуста полезла на мачту по канатам, что шли от борта. Все любовались на её ловкость, глядели, задрав головы. Но вот канат дошёл до мачты. Дальше шло голое, скользкое дерево. Но мангуста извернулась всем телом и ухватилась за медные трубки. Они шли вдоль мачты. В них – электрические провода к фонарю наверху. Мангуста быстро полезла ещё выше. Все внизу захлопали в ладоши. Вдруг электротехник крикнул:
– Там провода голые! – и побежал тушить электричество.
Но мангуста уже схватилась лапкой за голые провода. Её ударило электрическим током, и она упала с высоты вниз. Её подхватили, но она была недвижна.
Она была ещё теплая. Я скорей понес её в каюту доктора. Но каюта его была заперта. Я бросился к себе, осторожно уложил мангусту на подушку и побежал искать нашего доктора. «Может быть, он спасёт моего зверька?» – думал я. Я бегал по всему пароходу, но кто-то уже сказал доктору, и он быстро шёл мне навстречу. Я хотел, чтоб скорей, и тянул доктора за руку. Вошли ко мне.
– Ну, где же она? – сказал доктор.
Действительно, где же? На подушке её не было. Я посмотрел под койку. Стал шарить там рукой. И вдруг: кррык-кррык! – и мангуста выскочила из-под койки как ни в чём не бывало – здоровёхонька.
Доктор сказал, что электрический ток, наверно, только на время оглушил её, а пока я бегал за доктором, мангуста оправилась. Как я радовался! Я всё её к лицу прижимал и гладил. И тут все стали приходить ко мне, все радовались и гладили мангусту – так её любили.
А дикая потом совсем приручилась, и я привёз мангуст к себе домой.
Медведь
В Сибири, в дремучем лесу, в тайге, жил охотник-тунгус со всей семьёй в кожаной палатке. Вот раз вышел он из дому дров наломать, видит: на земле следы лося-сохатого. Обрадовался охотник, побежал домой, взял своё ружьё да нож и сказал жене:
– Скоро назад не жди – за сохатым пойду.
Вот пошёл он по следам, вдруг видит ещё следы – медвежьи. И куда ведут сохатого следы, туда и медвежьи ведут.
«Эге, – подумал охотник, – я не один за сохатым иду, впереди меня медведь сохатого гонит. Мне их не догнать. Медведь раньше меня сохатого поймает».
Всё-таки охотник пошёл по следам. Долго шёл, уж весь запас съел, что с собой из дому захватил, а всё идёт да идёт. Следы стали подыматься в гору, а лес не редеет, всё такой же густой.
Изголодался, измучился охотник, а всё идёт и под ноги себе смотрит, как бы следы не потерять. А по пути сосны лежат, бурей наваленные, камни, травой заросшие. Устал охотник, спотыкается, еле ноги тянет. А всё глядит: где трава примята, где оленьим копытом земля продавлена?
«Высоко я уж забрался, – думает охотник, – где конец этой горы».
Вдруг слышит: кто-то чавкает. Притаился охотник и пополз тихонько. И забыл, что устал, откуда силы взялись. Полз, полз охотник и вот видит: совсем редко стоят деревья, и тут конец горы – она углом сходится – и справа обрыв, и слева обрыв. А в самом углу лежит большущий медведь, гложет сохатого, ворчит, чавкает и не чует охотника.
«Ага, – подумал охотник, – ты сюда сохатого загнал, в самый угол, и тут его заел. Стой же!»
Поднялся охотник, присел на колено и стал целиться в медведя.
Тут медведь его увидел, испугался, хотел бежать, добежал до края, а там обрыв. Заревел медведь. Тут охотник выпалил в него из ружья и убил.
Охотник содрал с медведя шкуру, а мясо разрезал и повесил на дерево, чтоб волки не достали. Поел охотник медвежьего мяса и скорей домой.
Сложил палатку и со всей семьёй пошёл, где оставил медвежье мясо.
– Вот, – сказал охотник жене, – ешьте, а я отдохну.
Охотник и собаки
Рано утром встал охотник, взял ружьё, патроны, сумку, позвал своих двух собак и пошёл стрелять зайцев.
Был сильный мороз, но ветра совсем не было. Охотник шёл на лыжах и разогрелся от ходьбы. Ему было тепло.
Собаки забегали вперёд и выгоняли на охотника зайцев. Охотник ловко стрелял и набил пять штук. Тут он заметил, что зашёл далеко.
«Пора и домой, – подумал охотник. – От моих лыж видны следы, и, пока не стемнело, я по следам дойду домой. Перейду овраг, а там уже недалеко».
Он спустился вниз и увидел, что в овраге черным-черно от галок. Они сидели прямо на снегу. Охотник понял, что дело неладно.
И верно: он только вышел из оврага, как задул ветер, пошёл снег, и началась метель. Впереди ничего не было видно, следы запорошило снегом. Охотник свистнул собак.
«Если собаки не выведут меня на дорогу, – подумал он, – я пропал. Куда идти, я не знаю, заблужусь, занесёт меня снегом, и я замёрзну».
Пустил он собак вперёд, а собаки отбегут пять шагов – и охотнику не видно, куда за ними идти. Тогда он снял пояс, отвязал все ремешки и верёвки, какие на нём были, привязал собак за ошейник и пустил вперёд. Собаки его потащили, и он на лыжах, как на санях, приехал к себе в деревню.
Он дал каждой собаке по целому зайцу, потом разулся и лёг на печь. А сам всё думал:
«Кабы не собаки, пропал бы я сегодня».
Про обезьянку
Мне было двенадцать лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:
– Хочешь, я тебе обезьянку дам?
Я не поверил – думал, он мне сейчас штуку какую-нибудь устроит, так что искры из глаз посыплются, и скажет: вот это и есть «обезьянка». Не таковский я.
– Ладно, – говорю, – знаем.
– Нет, – говорит, – в самом деле. Живую обезьянку. Она хорошая. Её Яшкой зовут. А папа сердится.
– На кого?
– Да на нас с Яшкой. Убирай, говорит, куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.
После уроков пошли мы к нему. Я всё ещё не верил. Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет? И всё спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:
– Вот увидишь, не бойся, она маленькая.
Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки чёрные. Как будто человечьи руки в перчатках чёрных. На ней был надет синий жилет.
Юхименко закричал:
– Яшка, Яшка, иди, что я дам!
И засунул руку в карман. Обезьянка закричала: «Ай! ай!» – и в два прыжка вскочила Юхименке на руки. Он сейчас же сунул её в шинель, за пазуху.
– Идём, – говорит.
Я глазам своим не верил. Идём по улице, несём такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой.
Дорогой Юхименко мне говорил, чем кормить.
– Всё ест, всё давай. Сладкое любит. Конфеты – беда! Дорвётся – непременно обожрётся. Чай любит жидкий и чтоб сладкий был. Ты ей внакладку. Два куска. Вприкуску не давай: сахар сожрёт, а чай пить не станет.
Я всё слушал и думал: я ей и трёх кусков не пожалею, миленькая такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет.
– Ты, – говорю, – хвост ей отрезал под самый корень?
– Она макака, – говорит Юхименко, – у них хвостов не растёт.
Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименкой вошли прямо в шинелях.
Я говорю:
– А кто у нас есть!
Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто ещё ничего разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки маме на голову; толкнулся ножками – и на буфет. Всю причёску маме осадил.
Все вскочили, закричали:
– Ой, кто, кто это?
А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.
Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорей к двери. На него и не смотрели – все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос затянули:
– Какая хорошенькая!
А мама всё прическу прилаживала.
– Откуда это?
Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:
– Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!
Все ждали. А Яшка и не глянул – стал чесаться меленько и часто чёрной лапочкой.
До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам: с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.
Вечером отец сказал:
– Нельзя её на ночь так оставлять, она квартиру вверх дном переворотит.
И я начал ловить Яшку. Я к буфету – он на печь. Я его оттуда щёткой – он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда – на картину – картина покосилась, – я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу.
Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и наконец загнали в угол.
Яшка прижался к стене, оскалился и защёлкал языком – пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали.
Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами, и казалось, сейчас заплачет от обиды.
Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь! Отец сказал:
– Привязать. За жилет и к ножке, к столу.
Я принёс верёвку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел верёвку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застёгивался на три пуговки. Потом я поднёс Яшку, как он был, закутанного, к столу, привязал верёвку к ножке и только тогда размотал платок.
Ух, как он начал скакать! Но где ему порвать верёвку! Он покричал, позлился и сел печально на полу.
Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил чёрной лапочкой кусок, заткнул за щёку. От этого вся мордочка у него скривилась.
Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.
Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие чёрные ноготки. Игрушечная живая ручка! Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребёночек. И пощекотал ему ладошку. А ребёночек-то как дёрнет лапку – раз – и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится. Вот и ребёночек!
Но тут меня погнали спать.
Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я всё прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.
Утром вскочил – и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на верёвке. Верёвка есть, на верёвке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю, все три пуговицы сзади расстёгнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на верёвке, а сам драла. Я искать по комнате. Шлёпаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот на тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку – нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз – замёрзнет, бедный! И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу, в моей же кровати что-то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал и ко мне на кровать. Забился под одеяло. А я спал и не знал. Яшка спросонья не дичился, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.
Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашёл сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что, казалось, летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребёнок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь.
Стащит ножик и ну с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару.
Когда я ушёл в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса веревкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришёл домой, то из прихожей увидал, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнётся от косяка и едет до стены. Пихнёт ножкой в стену и едет назад.
Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанию. Ах ты, дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда! Он на занавески – все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился…
Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвёт лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку. А потом привязал его в наказанье на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка. А широкая шла из квартиры вниз.
Вот отец идёт утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице. Хлоп! Штукатурка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы. Глянул вверх – никого. Только пошёл – хлоп, опять кусок извёстки прямо на голову. Что такое?
А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки извёстки, разложил по краям ступенек, а сам прилёг, притаился на лестнице, как раз у отца над головой. Только отец пошёл, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу, – это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.
Но когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его всё грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая, он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схватился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрёшься о стол. Яшка сейчас лапкой заскребёт мне бок: даёт мне знать, чтоб осторожней.
Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смирно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец раздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи, прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться». Но уж все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.
Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем, и доставал конфетки. Яшка тут как тут: сидит на коленях и ждёт – ёрзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке; Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем, как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это рассмешило, он открыл крышку и поднёс портсигар Яшке. Яшка сразу запустил лапу, награбастал полную горсть, скорей в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!
Был у нас знакомый доктор. Болтать любил – беда. Особенно за обедом. Все уж кончили, у него на тарелке всё простыло, тогда он только хватится – поковыряет, наспех глотнёт два куска:
– Благодарю вас, я сыт.
Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает – говорит. Разошёлся – не унять. А Яша, вижу, по спинке стула поднимается, тихонько подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:
– И понимаете, тут как раз… – И остановил вилку с картошкой возле уха – на один момент всего. Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял её с вилки – осторожно, как вор.
А доктор дальше:
– И представьте себе… – И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился – думал, стряхнул картошку, когда руками махал, оглядывается. А Яшки уж нет – сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.
Доктор сам смеялся, а всё-таки обиделся на Яшку.
Яшке устроили в корзинке постель: с простыней, одеяльцем, подушкой. Но Яшка не хотел спать по-человечьи: всё наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь. Ему сшили платьице, зелёненькое, с пелеринкой, и стал он похож на стриженую девочку из приюта.
Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яшка в зелёном платьице, в одной руке у него ламповое стекло, а в другой – ёжик, и он ёжиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришёл, что не слыхал, как я вошёл. Это он видел, как стёкла чистили, и давай сам пробовать.
А то оставишь его вечером с лампой, он отвернёт огонь полным пламенем – лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.
Беда стало с Яшкой, хоть в клетку сажай! Я его и ругал и бил, но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит, он вас уже очень любит.
Надо ему выпросить что-нибудь – конфет там или яблоко, – сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскрёбывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков чего-то.
Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она раскрасавица. Разряженная. Вся так шёлком и шуршит. На голове не причёска, а прямо целая беседка из волос накручена – в завитках, в локончиках. А на шее, на длинной цепочке, зеркальце в серебряной оправе.
Яшка осторожно к ней по полу подскочил.
– Ах, какая обезьянка миловидная! – говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.
Яшка поймал зеркальце, повертел – прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать.
Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за причёску. Раскопал все завитки и стал искать.
Дама покраснела.
– Пошёл, пошёл! – говорит.
Не тут-то было! Яшка ещё больше старается: скребёт ноготками, зубками щёлкает.Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркале, что взлохматил её Яшка, – чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там! Яшка вцепился что было силы в волосы и на меня глядит дико. Дама дёрнула его за шиворот, и своротил ей Яшка причёску. Глянула на себя в зеркало – чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостья наша схватилась за голову и – в дверь.
– Безобразие, – говорит, – безобразие! – И не попрощалась ни с кем.
«Ну, – думаю, – держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмёт. Уж столько мне попадало за эту обезьянку!»
И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и ещё больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину. Посреди двора был сложен горой казённый уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожа держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пёс Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьёт и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится.
Я посмотрел в окно – вижу, нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду, выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелёненькое платьице, чтобы он не простудился, посадил Яшку к себе на плечо и пошёл. Только я двери раскрыл, Яшка – прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он, как зелёненькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка, – сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке, но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все ощетинились и ждали, что Каштан.
Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка, так что лап не видно было. Взвыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвёт Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошёл: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раза три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок как ни в чём не бывало. Вот, мол, я – мне нипочём!
А Каштан – в ворота от страшного зверя.
С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца – все собаки в ворота. Яшка никого не боялся.
Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти негде. А Яшка с воза на воз перелетает. Вскочит лошади на спину – лошадь топчется, гривой трясёт, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются:
– Смотри, какая сатана прыгает. Ишь ты! У-ух!
А Яшка – на мешки. Ищет щёлочки. Просунет лапку и щупает, что там. Нащупает, где подсолнухи, сидит и тут же на возу щёлкает. Бывало, что и орехи нащупает Яшка. Набьёт за щёки и во все четыре руки старается нагрести.
Но вот нашёлся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот. Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий.
И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой. Вижу, вышел на двор котище и прыг на скамью, что стояла под деревом. Яшка, как увидел кота, – прямо к нему. Присел и идёт не спеша на четырёх лапах. Прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка всё ближе ползёт. Кот глаза вытаращил, пятится. Яшка на скамью. Кот всё задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яков по скамье ползёт на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг – прыг, да не на Яшку, а на дерево. Уцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка всё тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше – привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево, и всё не спеша, целится на кота чёрными глазками. Кот выше, выше, влез на ветку и сел с самого краю. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползёт, и так уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползёт и ползёт, цепко перебирая всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого верху на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: «Йау, йау», – каким-то страшным, звериным голосом – я у него никогда такого не слышал.
Теперь уж Яков стал совсем царём во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на глазах слезы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает!
А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему ещё дали. Его запеленали и три дня не пускали на двор.







