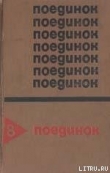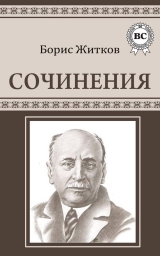
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Борис Житков
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
Пальцем помахал и пошел прочь.
Чудак!
Прихожу в одиннадцать на Угольную пристань. Фонари электрические горят, и от пристани на воду густая тень ложится – ничего не видать под стенкой. Дошел до трапа, на ступеньках сидит Сережка-Горилла. Сел я рядом.
– Что, – спрашиваю, – ты, дурак, надумал?
– Полезай, – говорит, – в тузик вон у плота, дорогой обмозгуем.
Рассмотрелся, вижу плот и тузик.
Пошел я по плоту, – не видать, где плот кончается. Ступил на воду, как на доску, и полетел в воду. Самому смешно: шинель вокруг меня венчиком плавает, и я – как в розетке.
А вода весенняя, холодная.
Я в туз. Пока вылез, хорошо намок.
Разделся я до белья – и холодно и смешно. Стал грести, согрелся.
– Ну, – говорит Серега, – начало хорошее. А сделаем мы вот что: я на «Юпитере» путевой компас из нактоуза выверну и тебе в мешке спущу.
– А как подойдем? Трап ты спросишь у охранников?
– Нет, – говорит, – там угольная баржа о борт с ним стоит, какого-нибудь дурака сваляем.
– Сваляем, – говорю.
И весело мне стало. Гребу я и все думаю, какого там дурака будем валять. Как-то забыл, что «союзники» там с револьверами.
А Сережка мешок скручивает и веревку приготавливает.
Обогнули мол. Вот он, «Юпитер», вот и баржонка деревянная прикорнула с ним рядом. Угольщица.
Гребу смело к пароходу.
Вдруг оттуда голос:
– Кто едет?
Ну, думаю, это береговой, – флотский крикнул бы: «Кто гребет?»
И отвечаю грубым голосом:
– Та не до вас, до деда.
– Какого деда там? – уж другой голос спрашивает.
А на такой барже никакого жилья не бывает, никаких дедов, и всякий гаванский человек это знает.
А я гребу и кричу ворчливо:
– Какого деда? До Опанаса, на баржу, – и протискиваю туз между баржой и пароходом.
Сережка окликает:
– Опанас! Опанас!
С парохода помогают:
– Дедушка, к вам приехали!
Залез я на баржу, с борта прыгнул на уголь и пошел в нос. А нос палубой прикрыт.
И говорю громко:
– Дедушка, дедушка, это мы. Какой вы, к черту, сторож! Вас палкой не поднять, – и шевелю уголь ногой.
Смотрю – и Сережка лезет ко мне.
Чиркнул спичку. А я стариковским голосом шамкаю:
– Та не жгите огня, пожару наделаете, шут с вами.
Сережка, дурак, смеется. А с парохода говорят:
– Да, да, не зажигайте спичек, мы вам фонарь сейчас дадим.
И затопали по палубе.
Сережка говорит мне:
– А дурак ты, дедушка, ей-богу, дурак!
Я выглянул из-под палубы. Смотрю, уже фонарь волокут.
Я скорей к ним.
К мокрому белью уголь пристал – самый подходящий вид у меня сделался, это я уже при фонаре заметил.
Сидим мы с фонарем под палубой и вполголоса беседуем.
Я все шамкаю.
– Лезь, – шепчет Серега, – в туз, а как уйдут с борта – стукни чуть веслом в борт.
Я полез в туз.
Вдруг Серега громко говорит:
– Так вода, говоришь, у тебя в носу оставлена, дедушка?
А я знаю, что он один там, и отвечаю из туза:
– В носу, в носу вода!
– Так заткни, чтоб не вытекла! Не тебя спрашивают, – говорит Серега.
На борту засмеялись. А Серега зашагал по углю в корму. Потом вернулся. Опять прошел на корму, и все смолкло.
Смотрю – один только человек остался у борта.
– Эй, – говорит, – фонарь-то потом верните.
И отошел. Стало тихо.
Я подождал минут пять и стукнул веслом в баржу.
Бережно, но четко: стук!
И тут заколотилось у меня сердце.
Я прислушивался во все уши, но, кроме сердца своего, ничего не слыхал.
Глянул вверх – через щели в барже светит фонарь.
Прошел человек по палубе.
Перегнулся через борт и спрашивает, как начальник:
– Это что за лодка?
А я чувствую, что скажу слово – голос сорвется. Молчу.
Он опять. Крикнул уже:
– Что это за лодка? Эй, ты!
Тут ему кто-то из ихних ответил:
– Это сюда, на баржу, к старику, свои приехали.
– Ага, – говорит и отошел.
Опять стало тихо. Я уж вверх не гляжу, смотрю по борту парохода.
Вдруг что-то вниз ползет серое по черному борту.
Я замер. Дошло до воды – стало.
Мешок.
Вся сила ко мне вернулась.
Не брякнул я, не стукнул. Протянулся тузом по борту вперед, ухватил мешок – здорово тяжелый – и осторожно опустил в туз.
В это время туз качнуло; глянул – Сережка уже стоит на корме.
Он по той же веревке слез, на которой и мешок опустил.
Я взялся за весла и стал потихоньку прогребаться вперед.
В это время с парохода кто-то крикнул:
– Эй, дед, фонарь давай! Заснул?
И мы слыхали, как кто-то спрыгнул на баржу.
Я чуть приналег посильнее.
Фонарь стал метаться по барже.
На пароходе закричали, заголосили.
Бах, бах! – щелкнули два выстрела.
– Эх, навались!
Мы уже огибали мол.
Сережка оглянулся и сказал:
– Шлюпка за нами – навались!
Я рванул раз, два – и правое весло треснуло, я повалился с банки.
Вскочил, смотрю – Сережка гребет по-индейски обломком весла; как он успел на таком ходу ухватить обезьяньей хваткой обломок весла – до сих пор не пойму.
Мы завернули за мол в темную полосу под стенкой и забились между большим пароходом и пристанью, как таракан в щель.
Мы видели, как из-за мола вылетела белая шлюпка.
Гребли четверо. Гребли вразброд, бестолково.
Орали и стреляли.
Через полчаса мы прокрались под стенкой к своей пристани.
Наутро пришли мы с Серегой на бульвар.
Еще пуще раздымился «Юпитер».
– Снимается, снимается анафема, – говорит Тищенко. – Капитан там аккуратист – все уж в порядке.
А тут сбоку подбавляют:
– Лиха беда начать – все пароходы вылезут. Наберут арапов, охрану поставят – и айда. Завязывай!
Тут какой-то вскочил на скамейку и начал:
– Товарищи! Не надо паники. Сотня арапов весны не делает, – и пошел и пошел.
А мы с Сережкой переглядываемся.
Снялся «Юпитер». Вышел из порта.
Ну, думаю, через полчаса пойдет капитан курс давать, глянет в путевой компас…
Погудел народ и приуныл. Сели на землю и трут затылки шапками. Всем досада.
Мы с Сережкой ушли, так никому и слова не сказали.
Зашли в трактир, чаем пополоскались.
Дружина прошла строем, что на охране парохода была.Серьезно идут, волками по сторонам смотрят.
Часа три прошло.
Вдруг вой с бульвара, да какой! Ну, думаем, полиция орудует на бульваре.
Бросились бегом.
Смотрим – все стоят, в море смотрят и орут.
А это «Юпитер» идет назад в порт. Увидал его народ, вой поднял.
А Серега мне говорит:
– Смотри же, ни бум-бум, чтоб никто ничего!
Я так до сего времени и молчал.Ну, теперь уж и сказать можно…
Черная махалка [27]
Целую неделю подговаривал меня Васька Косой пойти ночью в море из Фенькиных сеток рыбу красть.
– Вот, – говорит, – как будет поздний месяц, и сорвемся ночью. Моментом дело. Раз и два! По воде следу нету.
Я все мычал да гмыкал.
И вот раз приходит он ночью. Я на дворе спал. Толкнул меня в плечо:
– Гайда, пошли! – Тряхнул за плечо и на ноги поставил. Чего ему: здоровый черт, саженный!
И вот пошли мы берегом, низом. Я, значит, и Косой.
Меня, мальчишку, он вперед пустил, а сам – за мной.
Ночь – ни черта не видать.
Песок холодный, ракуша битая в ногу впивается.
А он еще сзади шипит гадюкой: «Тише!.. Чтоб как по воздуху!»
Чтоб тебя, дьявола, самого на воздух подняло.
Эх, знал бы я, какое дело из этого выйдет, не пошел бы я с Косым ни в жизть!
Ногу тут я об камень ссадил, аж на землю сел. Качаюсь и шепотом вою. А Косой надо мной стоит, пяткой в самое рыло тычет:
Вставай!
Пятка заскорузлая, корявая.
А когда шаланду стали спихивать, у меня опять сердце упало: что же это мы такое делаем?
Штиль на море, будто и вода притаилась и только шепотком в берег хлюпает. Месяц поздний торчит из моря, как красный штык. Мне страшно стало; я берусь за шаланду и не дергаю. Не хочу, не поеду я из Фенькиных мережей камбалу трясти!
Косой будто знал, что я думаю, и бубнит малым голосом:
– Фенька прорва, раскоряка анафемская! Она мужа-то своего, Ивана, отравила… Черт бы с ним, с Иваном, туда ему, гаду, и дорога, да он у меня сорок пять сеток в море снял. Покарай меня господь!.. А ну, берись!
Дернули. Чуть вдвинулась шаланда в море. А Косой опять:
– Пудами, рванина недомытая, камбалу на базар возит, а кинула хоть раз тебе, мальчонке голодному, хоть кусок? А ну, разом!
Дернули, аж на полсажени сразу шлюпку посунули.
Ждем – и наверх, на обрыв, смотрим: чтоб с Особого отдела патруль не засыпал. Тогда был приказ, чтоб ночью не выходить в море никак. А с патрулем собака; уж это хуже нет!
Посмотрели – никого.
И так это Косой мне Феньку обложил, что я хоть вторые сутки не ел, а шаланду дернул, как большой.
Выкопал Косой из песку весла – это он с вечера приготовил. Сели, гребем, как по воздуху: не стукнем, не плеснем.
Прошли каменья и подались прямо торцом в море.
– Поднавались!
Напер я на весла, а тут снова меня мутить стало. Куда ж это мы едем, на какое дело? «Ну, ничего, – думаю, – не найдем мы ночью Фенькиных сеток – и красть не придется». И подналег даже.
А потом думаю: «Махалки все ж у ней высокие, побольше сажени. А Косой – черт приметливый – непременно увидит». И опять страх войдет.
И я гребу слабей. А Косой:
– Навалися, пролетария!
«Нет, – думаю, – флажки у ней на махалках черные, не найти ночью и Косому. Никому не найти!» И гребу смелей, все стараюсь в уме Феньку обкладывать.
– Отравила? – говорю.
– Ладно, греби, греби, мильтон какой сыскался!
«Теперь я мильтон выхожу!»
Я стал со зла крепче грести.
А Месяц вышел и красным глазом на все это дело смотрит.
С час, должно, так гребли.
И вдруг я чуть весла не бросил – прямо тут надо мной кивает черным флагом саженная махалка. Молчит и шатается.
– Хватайся! – кричит Косой.
А мне за нее и взяться страшно. Как живая, как оскаленная.
– Эй, ты! Дуроплюй!
Косой притабанил [28] и выхватил махалку из воды.
И вот, когда он махалку схватил, тут у меня как что внутри как будто стало и закрепло. «Шабаш, – думаю. – Теперь шевелись!» И я встал на ноги и уж вертел шаланду веслами, как живой, пока мы по сеткам шли.
А Косой стоит на корме в рост, перебивает мережи и шлепает камбалу на дно. Плюхает здоровые рыбины, а я сам, для чего – не знаю, все считаю:
– Раз, два… три… восемь…
Все шепчу, как в жару весь.
Пуда три, как не больше, с одной ставки сняли. Кончили.
Тут с меня все соскочило. Сел на банку и как гребану к берегу! А Косой:
– Куда тебя, черта! Вон она, вторая ставка! Вон махалка маячит!
У меня уже руки ходуном пошли и всего трясти стало, а он – гляжу – взялся за весла, гребанул, как юлу, шаланду вывернул и нагребается к сеткам.
– Садись, – кричит, – на весло!
– Чтоб нас к черту не снесло! – Это я для храбрости сказал.
Косой заругался.
– Греби, холера! – орет на меня.
Я тянусь, аж душа вон.
На второй ставке Косой опять сети перебирает. Смело взялся, как за свои. А я подгребаю. Тут я заметил, что пошел ветер. И вдруг мне показалось, что сейчас светать начнет, сейчас Фенькины хлопцы придут на желтой шаланде, на ихней, на здоровой, на три пары весел, и нас на месте нахлопнут.
Я тычу шаланду кормой уж как попало, лишь бы скорей. Добрались до второй махалки: черным шестом она из темноты на нас выходит.
Как живая, смотрит, замахивается.
Флажком по ветру треплется, змеится. Я и глядеть на нее боялся. Будто стережет!
А Косой ругается, что рыба мелкая пошла.
Я ему ласково говорю:
– Бросьте, Василий Семеныч, не стоит… Если, говорите, мелочь пошла, так господь с ней.
А он мне и брякнул:
– И трети ты своей не получишь, коли дело мне гадишь!
Бросил сетки – и за весла.
У нас дома голод, позагоняли на толчок что было. «Хоть бы дома накормить бы всех один только раз, коли уж на такое дело пошел!» Гребу я скорей от этой махалки, от проклятой. Черт с ней, с рыбой, с третью моей, – только бы, думаю, теперь на берег и домой. Буду, думаю, людям переметы [29] живлять и день и ночь за хлеба кусок, только бы все это добром кончилось! Гребу и зарекаюсь, чтоб за такие дела не браться.
Косой вдруг говорит:
– Ты что? Богу молишься?
Я и не знал, что это я громко… Думал, про себя зарекаюсь.
– Не будешь? А не навязывайся!
А я разве навязывался? Сам же он неделю целую мне в уши тарахтел: «Мамка твоя голодная, ты голодный, вот так, – говорит, – пролетарий и пролетает. В трубу, значит… Тряхнем Феньку что надо! И черт святой знать не будет, где концы».
А теперь – «не навязывайся»! И так обидно мне стало! «Скорей бы только, – думаю, – на берег, и я – ходу, и чтоб не видеть никогда его».
А он вдруг поднял весла, нагнулся ко мне, рожа зверская.
– Ты, – говорит, – только дохни кому! Ты забудь, как меня и звать-то! Да ты знаешь, кто я?!
Как присунется ко мне мордой самой. Глаз косой.
– Да ты знаешь… Я ведь не я, а я вот кто!
Такой он мне сразу страшный показался. И вправду не он, а другой. «Вот он, – думаю, – какой он настоящий-то! Ночью-то в море, да один на один!..»
Я и весла бросил. Он как гаркнет:
– Греби!
Я без памяти греб и не знаю, где у нас берег был, и откуда ветер, и сколько времени прошло.
Вдруг он стал легче грести, я тоже. Разворачивает шаланду.
Смотрю, под бортом у нас садок плавает здоровый. Пудов на девять рыбы. Подошли аккуратно. Я шаланду на веслах придерживаю.
Он стал рыбу в садок пересыпать. Тихонько, без шуму. И я держусь, чтобы о садок не стукнуть. Пересыпал он рыбу – и чисто у нас в шаланде, ничего как и не было. Тут я огляделся, вижу: мы под берегом. Берег не наш, чужой.
Спустились мы в берег, дернули шаланду раз и два. У меня с голоду, с работы и со страху ноги подкашиваются. Рву руки – шаланда чуть подается. Косой ругается во всех святых и угодников…
Вдруг смотрим: и справа и слева по человеку стоит. С винтовками. И откуда и как они подошли? Я как увидал – все у меня внутри стало, как пустой мешок я сделался. Я и сел на борт – ноги не держат.
Они стоят, и мы не шевелимся.
Косой вдруг говорит так это ласково:
– Закурить у вас, землячки, нельзя?
Они молчат, как неживые. Я уж подумал: есть они или нет?
Потом Косой говорит мне громко, чтоб слышали:
– Ну, отдохни трошки, хлопчик! Сморился, бедный? А ну, дернем еще?
Я встал, хватаюсь за что попало, не дергаю, а, прямо сказать, держусь за шаланду, чтоб только на песок не сесть. Болтаюсь, как рыба на крючке. Шаланда – ни с места.
– Подсобите, товарищи, шаланду вытаскать, – говорит Косой.
Смотрю, те двинулись с двух сторон. Ничего не сказали, взялись, дернули.
– А вот спасибочки вам, – говорит Косой, да и хотел повернуть.
А те ему:
– Стой!
И стали они шаланду осматривать, все пересмотрели. А у нас ничего: весла одни. Ни снастей, ни крючков, ничего как есть.
Один, что повыше, говорит:
– Откуда?
Косой запел:
– С моря. С вечера перемет поставили, вот пошла погода – так мы проверить…
– Кто ж это в летнее время перемет с ночи ставит?
– Брось, товарищ, наливать! Приказ знаете?
– Да что же приказ, приказ? – кричит Косой. – Мы ведь самая пролетария, горькими нашими мозолями…
– А у садка чего вы ковырялись?
– Проверить же, на месте ли, а ведь знаете же… – гудит Косой.
А те говорят:
– Пойдем вот на кордон, там проверим. А ну, айда!
Пошли.
Один впереди, другой сзади, а в середине мы с Косым. И ни ног у меня, ни духу. И только махалку я эту черную вспоминаю, как она кивала на нас.
Вышли на обрыв и пошли по тропинке над кручей. Я только заметил, что чуть светать стало.
Ничего я уж не понимал, что Косой мелет. Только те не отвечали, а все покрикивали: «Айда, айдате!»
Вдруг Косой дернулся и прыг под кручу.
Тот, что был сзади, вскинул винтовку и бах! бах! вдогонку, вниз, и стал спускаться с обрыва.
А другой схватил за ворот меня. А я – не то бежать, а идти не знал чем. И сел я на землю. Пришли еще красноармейцы с кордона, стали облаву делать, а меня повели на пост, где их казарма и все.
Живо по коридору протолкали к начальнику.
Сидит за столом, важный, в кожаном. На столе наган. Сбоку телефон в ящике. Посмотрел на меня – глаза, как гвоздики, – и спрашивает:
– Это вот что с ним был?
И прямо уперся в меня:
– Как звать?
Я думаю: «Врать или нет? Сейчас, – думаю, – узнают – и к мамке с обыском. Знаю ведь! Чуть что – сейчас обыск и пойдут тягать. Пусть, – думаю, – сгноят меня, а не скажу правду!»
– Ты не верти пуговицу. Говори, как звать!
Я вдруг заорал.
– Васькой, Васенькой, – кричу, – Васильем, Ва-си-ли-ем! – на разные голоса, чтоб поверили.
А меня Петькой Малышевым зовут.
Начальник выскочил из-за стола, как тряхнет меня за шиворот:
– Не врать мне!!
Я вижу, самое остается только реветь, все равно давно хотелось, и я ударился в слезы.
И таким я горьким воем завыл – голоса своего не узнал. Бить меня всего начало, сам не рад, что реветь пустился. Как сорвался.
Ночевал у них в казарме. Утром проснулся, не шевелюсь. Но знаю, что сейчас спрашивать опять будут… И про Косого… Вспомнил, как он в море-то себя показывал, – ну как я про него скажу?
Пусть бы мне кто тогда сказал, что мне надо делать!
Лежу и слышу – идет разговор промеж красноармейцев:
– В Чеку его, в Особый отдел, там, брат, узнают в лучшем виде.
А другой:
– Ну да, очень просто, что с монитором шпионаж возили! Это что к садку подъезжали – так это для понту, глаза отвести!
И вижу я, что все так выходит, что и не придумаешь, что им врать. И правду скажи – тоже веры не дадут.
А тогда эти мониторы офицерские – верно, что в наши берега ходили. Очень даже близко. Что же мне делать? Так бы вот лежал и не шевелился… До самой до смерти моей!
Слышу – затопали, выходить стали, и тишина настала. Полежал, полежал, а в голове все кубарем, кувырком все кружит, и махалка эта черная, проклятая, так и кивает, кланяется.
И вдруг как будто что взвинтило меня.
Вскочил я, сел на койке. Осмотрелся: лежит на койке красноармеец одевши, ногу свесил и на меня глядит, улыбается. Смешной я, значит, был. Хороший, к черту, смех!
– Васька! – говорит.
А я зыркаю: кого это он кличет?
Он засмеялся, встал.
– Ну, все равно, – говорит, – как там тебя. Чай пить будешь? Я тебе подлопать дам.
Дает мне чашку каши:
– Наворачивай!
А сам сел рядом на койку.
Я думал, что мне не до каши будет, а ковырнул раз и не приметил, как кончил. Красноармеец принял чашку.
– Боишься, – говорит, – за батьку?
– Помер, – говорю.
– Нет, – говорит, – он утек, не нашли его.
Я даже не понял, что это он про Косого.
– Не батька, – говорю, – он мне и не дядька, никто он мне!
– Значит, он тебе вроде хозяина выходит?
И стал он закуривать и мне кисет сует, как большому. Я уж курил раза два. Взял я, а скрутить не умею.
– Эх ты, курец! – говорит и слепил мне цигарку.
Курим, а он говорит:
– Сказывать не будешь? Уговор, значит, держишь? Молодчина!
Мне вдруг обидно стало на Косого, я и говорю:
– А он свой-то уговор… треть мою… черта, говорит, ты получишь.
– Это уж евоное дело.
А я:
– Пудов, – говорю, – пять, не меньше, рыбы было, камбала – во, – говорю, – колесо – не рыба!
– На кухне, – говорит, – она у нас, в обед поешь, как в отдел не сведут.
И так слово по слову я ему все рассказал, как было. А он говорит, что уговор держи, дело святое.
– Хитрый, – говорит, – знал, кого с собой взять. Кто ж, – говорит, – он такой?
– Не знаю я, кто он, не знаю, ненастоящий. Черт он, вот кто!
А его смех взял.
– Какой, – говорит, – с чертом уговор может быть! Однако, – говорит, – дело твое. Думай, братишка, как тебе лучше.
И встал.
А что мне думать? Ничего я не знаю.
Налил он чаю холодного, а я и смотреть на чай не хочу. Не до чаю мне!
Думаю – и ничего в голове, одна эта махалка черная кивает, и ничего больше.
И вдруг я как сорвался.
– Что же делать-то мне, дядя, – говорю, – дорогой ты мой? – И вот-вот опять зареву.
– А ты прямо скажи: такой, мол, я и такой-то, а дела наши вот какие были. Мамка голодная дома пухнет, а он мне треть сулит. Я и пошел на дело. Застращал он меня в море, а кто он – я правильно сказать не умею. И квита. На этом и стой. Что с тебя взять, с мальчишки!
И отошло все сразу – и махалка и Косой черт.
Вскочил я.
– Веди к начальнику, – говорю.
Встал я перед столом и срыву так и кричу:
– Петька я Малышев! Живу на Слободке, в Пятой улице! А дела наши вот какие!
И все, как было, вывалил.
А начальник смеется:
– Чего же ты вчера Ваньку-то валял? Сразу бы и говорил.
Взялся за телефон.
– Иди, – говорит, – обожди в казарме.
К вечеру отпустили. Потом раза два тягали, спрашивали. Я все на своем стоял:
– Петька я Малышев, а дела наши вот…
Так оно потом и присохло.
Только как приснится мне черная махалка, потом на целый день балдею.А с красноармейцем я и сейчас друг.
«Мария» и «Мэри»
Это было в Черном море в ноябре месяце. Русская парусная шхуна «Мария» под командой хозяина Афанасия Нечепуренки шла в Болгарию с грузом жмыхов в трюме. Была ночь, и дул свежий ветер с востока, холодный и с дождем. Ветер был почти попутный. Тяжелые, намокшие паруса едва маячили на темном небе черными пятнами. По мачтам и снастям холодными струями сбегала вода. На мокрой палубе было темно и скользко. Впрочем, сейчас и ходить было некому. Один рулевой стоял у штурвала и ежился, когда холодная струя попадала с шапки за ворот. В матросском кубрике в носу судна в сырой духоте спало по койкам пять человек матросов. Кисло пахло махоркой и грязным человечьим жильем. Мальчишку Федьку кусали блохи, и ему не спалось. Было душно. Он встал, нащупал трап и вышел на палубу. Он натянул на голову рваный бушлат [30] и зашлепал босиком по мокрым доскам. Слышно было, как хлестко поддавала зыбь в корму. Федька хорошо узнал палубу за два года и в темноте не спотыкался. Море казалось черным, как чернила, и только кое-где скалились белые гребешки.
Федька заглянул в люк хозяйской каюты.
Там вспыхивал огонек папиросы.
– Эге! – крикнул Нечепуренко. – Кто це? Хведька? А ну, ходы.
Федька спустился в каюту.
– Хлопцы огонь задули? Ну-ну! Жгуть дурно керосин, не в думках, что в деревне люди с каганцами живуть.
Огня не было не только в кубрике, но не были выставлены и отличительные огни по бортам: справа зеленый и слева красный. По этим огням суда ночью узнают друг друга и избегают столкновений.
– Як не спишь, – продолжал хозяин, – то уж не спи: тут могут пароходы встретиться. Поглядывай в море.
Федька подошел к рулевому.
– Что трясешься? – спросил рулевой. – Ямы боишься?
– Та смерз, – сказал Федька. – А кака та яма?
– Не знаешь?
Федька много слыхал россказней про яму, не верил им, но все-таки любил послушать. А ночью так и побаивался: а вдруг в самом деле есть?
– Нема никакой ямы, – сказал Федька, – ты ее видал?
– А вот и видал: там повсегда зыбь. Ревет! – аж воет. Я раз с греками плавал, видал, как судно туда утянуло. Хоп, и амба!
– Брешешь? – испугался Федька.
– Вот чтоб я пропал! Пароходы затягает.
– А где ж она?
– Аккурат посередь моря. Греки знают.
– Да врешь ты! – отмахивался Федька.
– Верное слово. Вот чего Афанасий не спит? – добавил рулевой вполголоса. – Накажи меня бог, ямы боится.
– Федька! – крикнул из каюты хозяин. – Смотри огни! Уши развесил.
Федька стал вглядываться в темноту, и действительно далеко впереди, справа, ему показался белый огонек. А сам прислушался, не гудит ли впереди яма.
Английский грузовой пароход «Мэри» с полным грузом русского хлеба шел, направляясь вдоль западного берега Черного моря, в Босфор, чтоб оттуда идти дальше в Ливерпуль.
Зеленый и красный огни ярко светились по бортам: там горели сильные электрические лампы. Еще один белый огонь горел на мачте. Этот огонь на мачте носят пароходы в отличие от парусных судов, которым пароходы всегда должны уступать в море дорогу.
Пароход был недавно построен, все было новенькое, и исправная машина работала как часы. На носу судна стоял вахтенный «баковый» и зорко смотрел вперед. Тут же висел большой сигнальный колокол, которым баковый давал знать вахтенному штурману, когда появится на горизонте огонь: ударит раз – значит огонь справа, два – слева, три раза – прямо по пути парохода.
Молодой помощник капитана, штурман Юз, был на вахте и ходил взад и вперед по капитанскому мостику.
Вдруг он услышал три спешных удара в колокол с бака. Он глянул вперед: почти перед самым носом парохода слабо мигал зеленый огонек.
– Лево на борт! – крикнул Юз рулевому, и пароход резко покатился влево. Реи парусника едва не задели пароход.
– Проклятые! Дикари! Четвертый раз! – ворчал про себя Юз. – На курс! – скомандовал он рулевому.
Рулевой повернул штурвал, закляцала рулевая машина, и пароход пошел по прежнему направлению.
Капитан Паркер сидел на кожаном диванчике в своей каюте, которая помещалась тут же у капитанского мостика. Две электрические лампочки горели над полированным столиком, на котором стояла бутылка виски [31] и сифон содовой воды. Капитан курил из трубки душистый английский табак и записывал в свой кожаный альбом русские впечатления. Он боялся, что за длинную дорогу забудет и не сумеет толком рассказать своим ливерпульским друзьям про Россию.
«На улицах громко говорят, кричат, – писал он, – на тротуарах толкаются и не извиняются…»
Бах, бах, бах! – опять раздались три удара с бака.
Капитан Паркер надел фуражку и выскочил из каюты.
– В чем дело, Юз? Опять? – спросил он помощника.
– Право, право, еще право! – командовал Юз.
Красный огонек совсем близко проскользнул мимо левого борта.
– Что они, издеваются? – сказал Паркер.
– Мы ведь должны уступать паруснику по закону, – ответил Юз.
– Но ведь закон, мистер Юз, запрещает ходить в море без огней, как пираты. Или вы считаете правильным, когда огни внезапно появляются за три сажени? – назидательно сказал капитан.
– Что же, бить? – спросил Юз.
– Надо быть твердым, когда ты прав.
– Конечно, следовало бы проучить, – слабо заметил Юз.
– Ну, а раз так, то не меняйте в таких случаях курса, Юз, – ответил Паркер.
Капитан круто повернулся и ушел к себе в каюту.
Артур Паркер представил себе, как его пароход, гладко выкрашенный в красивый серый цвет, горит яркими электрическими огнями, чистый, сильный, гордо идет среди этих замухрышек-парусников.
Джентльмен в толпе дикарей.
Он вспомнил, как в русском порту его два раза толкнули на улице.
Черт возьми! Он не успел опомниться, как уже обидчик куда-то исчез.
Никак не подворачивалось удобного случая, чтобы проучить эту публику. Артур Паркер представлял, как он будет рассказывать про это в Ливерпуле и как все будут ждать, что он сейчас скажет, как он сумел показать этим дикарям, с кем они имеют дело. А сказать было нечего. Паркер сильно досадовал на себя.
«Вот и с этим парусником упущен случай. Этот разиня Юз! Надо было просто – трах! Довольно миндальничать – носите огни в море… Какой был удобный случай!» – досадовал капитан.
Паркер снова вышел на мостик. Он надеялся все-таки, что вдруг представится еще такой же случай, и не рассчитывал на Юза.
– Они, кажется, вас выдрессировали, Юз, – едко сказал он помощнику, – вы ловко обходите этих господ, юлите, как лакей в ресторане.
Юз молчал и смотрел вперед.
– Дядьку, – крикнул Федька хозяину, – вже блище огонь, пароход аккурат на нас идет!
Нечепуренко высунулся из каюты.
– А таки здоровый пароход, – сказал он, помолчав, – должно, с Одессы, с хлибом. А ты где, Федька, закинул той старый фалень? С него ще добры постромки выйдуть.
– Дядьку! Ой, финар давайте! – кричал Федька. Он не спускал глаз с парохода, и ему ясно было, что если пароход через минуту не свернет, то столкновение неизбежно.
Рулевой не выдержал и стал забирать лево.
– Що злякавсь? [32] – крикнул Нечепуренко. – Держи, бисова душа, як було! На серники, – обратился он к Федьке.
Федька вырвал из рук хозяина коробок спичек и бросился в каюту, нащупал на стене фонарь, чиркнул спичку – красный. Надо правый, зеленый. Впопыхах дрожащими руками Федька чиркал спичку за спичкой, они ломались, тухли, он не мог зажечь нагоревшей светильни. Горит! Федька с маху захлопнул дверцу – фонарь мигнул и потух.
– Не сдавайсь под ветер! – слышал он, как кричал наверху хозяин рулевому.
Федька снова чиркал спички, чувствовал, что теперь уж каждая секунда стоит жизни. Наконец он выбежал с зеленым огнем на палубу и направил фонарь к пароходу.
Пароход был совсем близко, и Федьке казалось, что прямо в упор глядят красный и зеленый глаза парохода. Он услышал, что там спешно пробили три удара в колокол.
– Так держать! – крикнул Нечепуренко злым голосом.
– Так держать! – раздалась жесткая команда по-английски на пароходе.
Не меняя курса, «Мэри» шла прямо на парусник.
– Лева, лева! – завопил Нечепуренко.
Но было уже поздно. Федька видел, как с неудержимой силой на них из темноты летел высокий нос парохода, не замечая их, направляясь в самую середину судна. Ему стало страшно, что пароход прямо раздавит его, Федьку. Он выпустил на палубу фонарь, опрометью бросился к вантам и, как обезьяна, полез на мачту.
– Гей, гей! – в один голос крикнули хозяин и рулевой, но в тот же почти момент оба слетели с ног от удара: пароход с полного хода врезался в судно.
Раздался страшный хрустящий удар. Федьку тряхнуло, и он едва удержался на вантах. В двух аршинах от себя он ясно увидал серый корпус судна; закрыл глаза, сжался в комок и изо всей силы уцепился за ванты. Что-то грохнуло, ударило, мачту покачнуло, и, когда Федька открыл глаза, он увидел удаляющиеся огни парохода, а внизу – он ничего не мог понять – вода была в двух аршинах под ним. Он вскарабкался выше и с ужасом видел, что вода поднимается за ним. Он стал на салинг и обхватил стеньгу, не спуская глаз с воды. Черная, слепая зыбь ходила там внизу, но теперь она не шла выше, как будто бы мачта перестала погружаться. Но Федька не верил и не отводил глаз от воды.
Капитан Паркер молчал и глядел вперед, как будто ожидая еще чего-то. Ему казалось, что это еще не все. А «Мэри» все удалялась от места крушения. Команда выскочила на палубу, все тревожно спрашивали бакового, что случилось.
«Все правильно, да, да, все правильно…» – думал Паркер. Он сам не ожидал, что так все это будет, и теперь испуганная совесть искала оправданий.
– Капитан, там ведь люди остались? – взволнованным голосом сказал Юз.
– Да, да… – ответил Паркер, не понимая слов помощника.
– Право на борт! – крикнул Юз рулевому. – Обратный румб!
– Есть обратный румб, – торопливо ответил рулевой.
– Да, да, обратный румб, – сказал Паркер, как будто приходя в себя.
Команда без приказаний готовила шлюпку к спуску.
«Мэри» малым ходом пошла назад к месту крушения. Матросы толпились на баке и, перебрасываясь тревожными словами, напряженно вглядывались в темноту ночи.
– Здесь, должно быть, – сказал Юз.
– Стоп машина! – скомандовал Паркер.
«Мэри» медленно шла с разгона. Но никто ничего не видел. Паркер скомандовал, пароход делал круги; наконец всем стало ясно, что места крушения не найти, не увидать даже плавающих обломков в темноте осенней дождливой ночи.
– Найти, непременно найти, – шептал Паркер, – всех найти, они тут плавают. Они хорошо умеют плавать… Мы всех спасем, – говорил он вслух, – не так ли, Юз?
Юз молчал.
– Да, да, – отвечал сам себе капитан.
И он крутил, то увеличивая ход, то вдруг останавливая машину. Так длилось около часу.