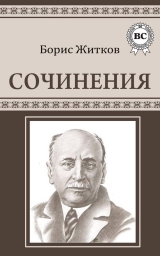
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Борис Житков
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
Теперь в Париже газеты старались одна перед другой: спешили выпустить отдельными листками телеграммы профессора Арно.
– Раскрытие тайны сто двадцать шесть эл! – кричали мальчишки и рассовывали прохожим листки. – Сообщение профессора Арно! Все о дирижабле – пять сантимов, полное описание!
А в кают-компанию «Пьеретт» собрались все пассажиры, и профессор Арно не успевал отвечать на вопросы.
– Вы спрашиваете, почему мы не задержались на берегу?! Правда, мы получили вашу телеграмму, что вы нас ищете. Мы могли принимать телеграммы, но не могли посылать!
– Значит, вы все, все слышали?
– Да, мы похожи были на погибающего, у которого отнялся язык. Но мы получили вашу телеграмму, когда уже решили лететь по ветру и были далеко над океаном.
– Ах, это ужасно! – закричала какая-то дама. – Снизу вода, кругом воздух!..
– А посередине люди, сударыня, – продолжал дедушка Арно, – люди, которые потеряли весь балласт, весь бензин, газ, но не потеряли присутствия духа.
– И даже веселости, благодаря дедушке, – вставил Леруа.
– Ну, и как же, как же? – не терпелось пассажирам. – Вы все-таки падали?
– О, да ведь у нас хватило все-таки соображения. Мы мальчишками все пускали змейки, и мы решили заставить наш корабль лететь, как змей. Ветер сильный и ровный. Но к чему привязать веревку? В море? Вот мы сделали из досок щит, привязали груз снизу и бросили его на веревке в море. И не один, а много. Это была большая работа!
– Чтоб облегчить корабль? Зачем же делать щит? – спрашивали со всех сторон.
– Нет, нет, терпение, – говорил Арно, – щиты становились в воде отвесно, гребли воду и задерживали полет дирижабля, а дирижабль мы привязали косо, как змей, – вот как он сейчас летит перед пароходом, только вместо парохода были щиты.
– Все-таки это ужасно, – говорила дама, – я не могла бы…
Но она не знала, чего она не могла бы.
А на палубе приятель Рене – кочегар допрашивал матросов дирижабля:
– Ну, а как уж все выкинули, а он все в море падает, тогда что?
– А мы застропили корабль на манер змейка, ну, как колбасу летучую, привязали к плавучим якорям, – объяснили матросы дирижабля.
– Ну, а если бы сорвало? – спросил кочегар.
– Если бы, если бы! Ну, все каюты поломали бы, все выкинули бы, на одной доске остались бы… Да, было что выкинуть! Да вот капитана выкинули бы, Жамена!
Все рассмеялись и оглянулись, ища глазами Жамена.
– Не видать, прячется все, – сказал высокий матрос, – а то ведь так сказал нам, что мы всех ученых на ключ запереть хотели. А чудак дедушка! Там, на этих кораллах, такую Сорбонну [47] устроил, с ним не скучали. Про все рассказал.
– Как про все? – удивился кочегар.
– Теперь я все знаю, – уверенно сказал матрос, – и что коралл строят эти… червячки такие, и что жемчуг в ракушках на дне водится, и вот муссон…
Матрос запнулся.
– Да очень просто, – вмешался моторист с дирижабля, – в Азии сейчас жара, а в море прохладней, ну, и дует, как со двора в дверь… Ну, знаешь, по ногам тянет.
– Это ты врешь, – сказал кочегар.
– Идем к деду! – закипятился сразу моторист.
– Идем, идем! – тащил матрос.
Все втроем пошли искать старика-профессора.
А у Арно была уже опять своя аудитория в кают-компании, – теперь пришлось перенести лекции на палубу.
На четвертый день открылись индийские берега.
Когда наши воздухоплаватели садились на пароход, чтобы ехать домой, во Францию, Жамена не было с ними. Он так и остался в Индии и, говорят, теперь служит в какой-то английской конторе в Бомбее.
Дяденька
Дело было давно – лет тридцать назад.
Подрос я, и пришло время меня на работу посылать.
Если в пекарню меня отдать, так мамка боялась, что там простуда: жара да сквозняки. В кузницу – четырнадцати лет – еще молодой говорят. А в типографию и слышать не хотела: все наборщики, говорит, пьяницы. И каждый день одни эти разговоры: куда да куда. Хоть обедать не садись. Как будто я в чем виноват!
Вот раз пришел жилец наш Онисим Андреевич и говорит, что довольно канитель эту тянуть. С самой весны, говорит, языком бьете, а толку никакого. А я его вот раз-два – и на место поставлю. «Хочешь, – говорит, – пароходы строить?»
Еще бы, кто не хочет! Пароходы-то!
Мамка опять: в воду там свалится, утонет, и еще что-то будет. А Онисим Андреевич был немного выпивши и заругался. Говорит, чтоб завтра утром к заводу приходил, у него там знакомый есть.
Всю ночь думал: вот пароходы строим; мачты сейчас ставить, трубу. Главное, думал, трубу – в ней вся сила. Вот чудак был!
Утром, чуть свет, – к заводу.
Там ходили в контору, туда-сюда; теперь-то я все знаю, а тогда страшно показалось. Двор большой, прямо поле целое, по нему все рельсы, рельсы, и ходят вагончики, а на них краны подъемные. Много их бегает. Подымет цепочкой груз и тащит. Я все на них смотрел и о рельсы спотыкался.
А дальше, у самой реки, чего-то нагорожено, высоко-высоко, все железным переплетом, как будто дом какой решетчатый. Это самый эллинг-то и есть, где пароходы строятся.
И оттуда такая трескотня, как будто все время пальба идет из пулеметов, и только слышно: дзяв! дзяв! – бахает чем-то по железу.
Пошли туда, а там леса поставлены, вот как дом в пять этажей строят. Леса эти около судна нагорожены. А судно из ржавых листов, толщенных, и листы эти к железным ребрам рабочие крепят. А по лесам на досках все мастеровые, на полках, как мухи. Мне сразу показалось, что все с пистолетами, только пистолеты на толстых веревках. Теперь-то я знаю, что это воздушный молоток, и не на веревке, а это трубка к нему идет, и по ней сжатый воздух гонят от насоса. А в стволе воздухом работает самый молоток: мечется взад и вперед, и если к чему ствол приставить, так бьет шибко, дробно. А тогда мне показалось, что пистолеты.
По лесам сходни, переходы, напихано с яруса на ярус, а мы все выше, выше лезем; кругом так гудит, в уши бьет, прямо как тебе по голове кто барабанит. Перелезли на самое судно, на железную палубу. И все железо, железо кругом. И такой грохот, что я думал – не может быть, чтобы это целый день, это, должно, только сейчас так расшумелись. Нельзя этого стука выдержать. Потом оказалось, что все время так.
Подводят меня к железному столику, вроде тумбочки. Вижу, наверху уголь горит, а между ножками гармоникой мехи, и ручка сбоку. Мне этот, что привел меня, показывает на ручку – дергай, значит. Я хотел спросить, что потом делать, и голоса своего не слышу: кричу – и как немой.
Такой грохот, аж стонет железо.
Смотрю, тут двое мальчиков стоят и чего-то греют. Закопченные такие, черные. Толкают меня, чтоб я за ручку дергал. Я начал дергать, мехи заработали, уголь горит; они там что-то работают, а кругом такой гром, похоже, что не строят, а ломают со всей силы, и что вот-вот все завалится, и я сам не знаю, на чем стою и куда в случае чего бежать.
А сам качаю, качаю.
Вдруг один мальчишка меня щипцами в плечо. Я еще сильнее ручку дергать, а он опять щипцами – это надо было, чтоб я полегче, а то уголь вон с горна улетает, – этот столик горном называется. Потом мальчишки вытащили щипцами из огня заклепки – аж белые – и потащили куда-то. А я все стараюсь.
Какой-то дядя проходил – как толкнет меня в затылок: что-то показывает. Ничего не понять – грохот: звенит, бахает кругом. Я сильней качать. Он сорвал с меня картуз. Я за картузом и пустил ручку. Он тогда показывает, чтоб потихоньку. Тут мальчишки снова толкают, тычут чем зря, а я ничего не понимаю. Даже слезы. Ну, это я больше от дыма – очень едкий. Прямо хоть брось. Так я до обеда мучился.
Вдруг все сразу замолкло, и тихо-тихо стало. Я даже испугался, не будет ли чего сейчас. А мальчишки мне кричат: «Через тебя пять заклепок перепалили!»
Я тут первый раз услыхал, что у них голос есть. Все пошли вниз, и я за народом.
Мальчишки ко мне, кричат грубым голосом: «Ты заклепки не перепаливай, дяденьке скажем, клепальщику, он тебя научит. У нас раз – и готово». И показывают мне дяденьку. Здоровый, страшный такой мне показался, в бороде.
В столовой все клепальщики отдельно сидят и через стол орут, как с того берега. От этой работы они все на ухо туги, и гам такой стоит, как будто драка идет. А это просто обедают. И, раньше чем соседу сказать, в плечо его – раз! Смотрю, мой сидит, все лицо в гари, и ржа в бороде от железа. Глядит волком. Вынул бутылку, хотел пробку выбить, потом сразу трах горлышком об угол, отбил, выпил половину и соседу ткнул: пей!
А я поневоле около мальчишек держусь, один не найду дорогу на работу. Они говорят: «Идем, до гудка надо, чтоб горно развести». Дорогой они кричат: «У нас, знаешь, не в слесарной. У нас разговору нет. Один, – говорят, – тоже коники строил. Работали в самом дне, в клетке. Так клепальщик раз его по башке ручником – и готово. Так его там и бросили. А чего, – говорят, – на дурака смотреть!»
И все мальчишки курят и через каждое слово ругаются.
Когда я с работы домой пришел, мамка мне говорит, а я ничего не слышу, как будто от соседей: еле-еле.
Потом, как стал я дальше в завод ходить, сам стал заклепки греть. Это гвоздь такой, только толстый, и тупой, как обрубленный, и шляпка толстая.
Нагрею заклепку, несу в щипцах дяденьке, кину – она по железной палубе покатится, он ее подхватит щипцами и в дырку, что сквозь листы. Шляпку припрет колом железным, здоровым, а с другой стороны клепальщик сейчас ее, пока горячая, воздушным молотком, этим пистолетом, – трах, трах, тах, тах! – и сплющит; головку с той стороны сделает, и готово. Давай другую, и пошел. Так листы скрепляют.
Я и курить и ругаться выучился и тоже стал все срыву: трах, бах и долой. Дома мамка раз плакала. Я пришел с работы, она мне скорей умыться, а вода здорово горячая была; я – хлоп! – таз перевернул. Сел за стол, как был: даешь борща!.. Дала. Ничего. И не гудела. А если что говорить станет, сейчас шапку – и за ворота, а то завалюсь спать.
Раз стал форточку отпирать – нейдет, разбухла, что ли? Я взял полено – раз! – и выставил. Онисим Андреевич заходил, посмотрел. «Клепальщик, – говорит, – натуральный». А я и рад.
Нет, верно, у нас разговор такой: ткнул, пихнул, ударил.
Не помню, с чего это пошло. Стал на меня вдруг дяденька гудеть. Все ему не так. На работе там разговору никакого не может быть, разве только пинком или тычком, а на дворе он орет: «Я тебе, такой-растакой, морду набью и за ворота! Ковыряешься, – говорит, – как жук в навозе. Пойду мастеру скажу, тебя враз с работы долой!» Каждый день у нас так.
А дальше все хуже; уж и видеть меня не может. Прямо зверем. Жена у него умерла. Я ее, что ли, убил? Чего ты меня-то ешь? И что я больше стараюсь, то хуже. То ему рано заклепку даешь – гонит, кулаком машет, то опоздал. Заел прямо.
А работали мы тогда в самом низу, в самом что ни на есть дне. Туда добраться, как под землю: все с палубы на палубу, все железо, все острое, угольники ребром торчат. Лезешь – темно, как в ящике. Вот с верхней палубы спускаешься по лесенке, а на второй палубе уже темно. И тут же сейчас люк один был такой, что если попадешь, так лететь десять саженей, и прямо на ребра железные. Он только одними рейками и был огорожен. Так, на деревянных стоечках, и рейки-то на живинку гвоздиками пришиты. Как спустишься в темноту, идешь и руку впереди держишь; нащупал рейку около самого этого люка проклятого и сейчас бери влево и иди уж по борту, тут не споткнешься. Так меня и дяденька учил ходить.
Так вот, работаем мы с ним в самом низу. Он опять меня шпыняет. Даю ему заклепку, он мне ее назад швыряет – значит, пережжено. Я другую – он опять. Да что это, думаю, зверем каким? Третью несу. Он поймал заклепку да за мной. А там внизу, что в коробке, дым от горна, как в трубе, все судно гудит, как палят в тебя со всех сторон. Я сам беситься от этого стуку стал. Я ему опять грею, он к горну пришел, надавал мне по шее и сам стал греть. Ух, обозлился я. Нет, верно, заклепки я правильно грел. Вот, думаю, это потому, что я сдачи ему дать не могу, он и разворачивается. И стал думать, что я ему сделаю, когда вырасту. Было б что под рукой, так, кажется, раз…
А в обед он опять мне кулаком грозит. Орет, глухая тетеря, на весь завод: «Сейчас к мастеру пойду, чтобы тут тобой и не воняло! У меня, – кричит, – знаешь: раз, и готово!»
После обеда мне вперед надо было идти, горно разводить. Я спустился в люк, во вторую палубу, руку впереди держу и иду. Нащупал рейку… и ничего, как будто и не думаю. Взял ее рукой и держу. Вдруг я ее – раз! – и готово. Ей-богу, она еле держалась. Оторвал рейку я, одним словом, и в сторону ее, прочь со стоек. Пусть теперь он пойдет, не найдет рейки – раз! – и готово. Да я так-то и не думал, а злился только. Стал в темноте, в сторонке, и жду. Вот уж гудок, пошла работа, все судно загудело.
Вижу, дяденька в просвете люка, что вверху, показался. Потом полез по лесенке, и больше не видно. Темно там, и не слышно ничего – так грохочет кругом. А я стою и жду, дух зашибло во мне. Сейчас… сейчас… И вдруг захотел крикнуть со всей силы: «Дяденька, дяденька, стой!» Да ведь не слышно, а подскочить не успею все равно, и ноги как примерзли. Я к лесенке наверх и побежал вон с судна. А потом думаю: а вдруг он и прошел, как-нибудь да и прошел? И побежал опять туда, где мы работали. Иду и говорю: «Дай бог, чтобы был, ну, дай, дай бог, чтоб был!» И боюсь идти, а ноги сами так и тащат.
Наши там, а дяденьки нет. И вот клепальщик показывает рукой: борода – значит, дяденька-то – где? Идет, что ли? Я головой помотал и прочь, и бежать, бежать! Думаю, лежит он теперь там, в трюме, разбитый, – не может быть, чтобы живой. А сам думаю: «Ведь могла же рейка сама упасть, еле ведь держалась. И без меня могла упасть». Бегу, а сам вою. И бегу, где б народу меньше. И кому сказать? Полдвора перебежал и вижу – по рельсам кран ползет и листы несет, а на кране машинист. Я кричу ему. Не помню уж, что кричал. А он не слушает, смотрит, куда листы положить и чтоб не переехать кого. А я рядом бегу, падаю, и опять бегу, и кричу, и вою.
Он остановился, опустил листы и потом ко мне: «Чего там?» – говорит. Я вою – он ничего понять не может. Слез с крана. Я кричу: «Упал дяденька, – говорю, – с палубы в трюм, там лежит!»
Тогда он в машине что-то сделал. «Сейчас», – говорит. Тут уж я заревел и хотел бежать. А он кричит: «Стой! Как же найдем без тебя?» Побежал я за ним. Он там к мастеру; все смотрят. Мастер кого-то позвал, чтобы воздух застопорить.
Сразу все остановилось – тихо. Вот страшно стало! «Коли стонет или кричит, услышим». Свечку принесли. Я смотрю: как я рейку оторвал, так она там и лежит. «Тут», – говорю.
Все собрались кругом. Меня спрашивают: «Ты видел?»
А я весь трясусь, и зубы трясутся.
Тут веревку принесли и говорят: «Спуститься надо, сначала посмотреть, есть ли там он».
А я кричу, как лаю точно: «Я, я, меня спустите!»
Привязали меня, дали свечку. Я в этот пролет – как в гроб спускаюсь. Думаю: если он живой, буду его целовать, дяденьку милого моего, лишь бы хоть чуточку живой только. И смотрю все вниз, а что на веревке я, это я и забыл, и что высоко. Свечка мало светит. Я до самого дна дошел, и нет его, нет там дяденьки. Я стал кричать: «Дяденька, а дяденька!» Гудит в железе мой голос. Я на веревке походил туда-сюда – нет, и не видно, чтоб был.
Глянул вверх – чуть светлый круг видно, люк это проклятый. Стали меня подымать. А там уж свет электрический протянули, и полна палуба народу, и все на меня смотрят, а я ничего сказать не могу, как закаменел.
И вдруг смотрю: стоит среди людей мой дяденька, живой, совсем живой, и все на меня смотрят. Я как брошусь к нему и тут заорал со всего голоса; кричу: «Дяденька, миленький, родненький!» И заревел.
А он нагнулся, гладит меня и совсем добрый-добрый, гладит меня и орет хрипло: «Чего ты, шут с тобой? Да милый ты мой!» – и даже на руки поднял.А это он тогда минул люк стороной и пошел за инструментом, там и завозился – оттого его тогда внизу с нашими и не было. Стали работать, хватились, а меня тоже нет. Потом, когда воздух стал, наши подождали-подождали, да и вылезли поглядеть, что случилось, чего это весь завод стоит. А тут я. Ну, вот и все.
Метель
Мы с отцом на полу сидели. Отец чинил кадушку, а я держал. Клепки рассыпались, отец ругал меня, чертыхался: досадно ему, а у меня рук не хватает. Вдруг входит учительша Марья Петровна – свезти ее в Ульяновку: пять верст и дорога хорошая, катаная, – дело на святках было.
Я оглянулся, смотрю на Марью Петровну, а отец крикнул:
– Да держи ты! Рот разинул!
Мать говорит:
– Присядьте.
А Марья Петровна строго спрашивает:
– Вы мне прямо скажите: повезете или нет?
Отец в бороду говорит:
– Некому у нас везти! – И стал клепки ругать крепче прежнего.
Марья Петровна повернулась – и в двери. Мать накинула платок и, в чем была, за ней.
Я тоже подумал, что стыдно. Вся деревня знает, что мы новую пару прикупили, двух кобылок, и что санки у нас есть городские.
Мать вернулась сердитая.
– Иди, запрягай сейчас, живым духом! Я держать буду. – Оттолкнула меня и села у кадушки.
Вижу, отец молчит. Я вскочил и стал натягивать валенки. Живой рукой запряг. Торопился, а то вдруг отец передумает?
Запряг я новых кобылок в городские санки, сена навалил в ноги, сел на облучок бочком, форсисто, и заскрипел санками по улице прямо к школе.
День солнечный был, больно на снег глядеть – так блестит; парой еду, и на правой кобылке бубенчики звенят. Только кнутовищем в передок стукну – эх, как подымут вскачь! – молодые, держи только.
Чертом я подкатил к учительше под окно. Постучал в окно, кричу:
– Подано, Марья Петровна!
Сам около саней рукавицами хлопаю – рукавицы батькины, и руки здоровые кажутся – как у большого.
Марья Петровна кричит в двери – из дверей пар, и она – как в облаке:
– Иди погрейся, – кричит, – пока мы оденемся.
– Ничего, – говорю, – мы так, нам в привычку.
Топаю около саней, шлею поправляю, посвистываю. А что? Пятнадцать лет, мужик уже скоро вполне.
Вот вышли они: Марья Петровна и Митька. Она своего Митьку завязала – глаз не видать. Весь в платках, в башлыке, чужая шуба до полу, еле идет, путается и дороги не видит. Учительша его за руку тянет. А ему тринадцатый год. Летом мы с ним играли, подрались; я ему, помню, накостылял. Ему стыдно, что его такой тютей укутали, разгребает башлык варежкой, а я нарочно ему ноги в сено заправляю, прикрываю армяком.
– Так теплее будет.
Вскочил на облучок, ноги в сторону, обернулся:
– Трогать прикажете? – И зазвенел по дороге. Скрипят полозья – тугой снег, морозный.
Пять верст до Ульяновки мигом мы доехали. Марья Петровна Митьке все говорила:
– Да не болтай ты – надует, простудишься!
А я на кобыл покрикиваю.
В Ульяновке они у тамошней учительши гостили. А я к дядьке пошел.
Еще солнце не зашло, присылает за мной – едем.
Ульяновка, надо сказать, вся в ложбине. А кругом степь; на сто верст одни поля.
Дядька глянул в дверь и говорит:
– Вон, гляди, воронье под кручу попряталось, вон черное на самом снегу умостилось – гляди, кабы в степи-то не задуло. Уж ехать – так валяй вовсю, авось проскочишь.
– Ладно, – говорю, – пять верст. Счастливо! – И отмахнул шапкой.
Пока запрягал, пока учительша Митьку кутала, смотрю – сереть стало. Только я тронул, а дядька навстречу идет, полушубок в опашку.
– Не ехать бы, – говорит, – на ночь-то! Остались бы до утра.
А я стал кричать нарочно, чтобы учительша не услыхала, что дядька говорит:
– Хорошо, я матке поклонюсь. Ладно! Спасибо!
И стегнул лошадей, чтобы скорее от него подальше.
Выбрались мы из низинки. Вот она, ровная степь, и дует поземка, по грудь лошадям метет снег. И на минуту подумалось мне: «Ай вернуться?» И сейчас как толкнул кто: мужик бы не струсил; вот оно, скажут, с мальчишкой-то ездить – завез, и ночуй. Пять верст всего. Я подхлестнул лошадей и крикнул весело:
– А ну, не спи! Шевелися!
Слушаю, как лошади топочут: дробно бьют, – не замело, значит, дороги. А уж глазом не видать, где дорога: метет низом, да и небо замутилось. Подхлестнул я лихо, а у самого в груди екнуло: не было б греха.
А тут Марья Петровна сзади говорит из платка:
– Может быть, вернемся, Колька? Ты смотри!
– Чего, – говорю, – там смотреть, пять верст всего. Вы сидите и не тревожьтесь. – И оправил ей армяк на коленях.
Тут как раз от Ульяновки в версте выселки, пять домов на дороге. И вот я туда, а тут сугроб. Намело горой. Я хотел свернуть, вижу – поздно.
Ворочать буду – дышло сломаю. И я погнал напролом. Сам соскочил, по пояс в снегу, ухаю на лошадей грубым голосом. Они станут, отдышатся и опять рвут вперед.
Летит снег; как в реке, барахтаются мои кобылки. Собака затявкала на мой крик. Баба выглянула – кацавейка на голове. Постояла – и в избу.
Гляжу: мужики идут не торопясь по снегу. Досадно мне стало. Выходит, что я сам не могу. Я толкал что есть мочи сани, нахлестывал лошадей, спешил стронуть до мужиков, но лошади стали. Мужики подошли.
– Стой, не гони, дурак, выпрягать надо.
И старик с ними. Хлибкий старичок. Выпрягли лошадей. Учительшу и Митьку на руках вынесли. Вывернули сами – вчетвером-то эка штука!
– Ночуй, – говорит, – здесь, метет в поле.
– Ладно, – говорю, – учительша пусть как знает, а я еду, некогда мне вожжаться. – И стал запрягать. Руки мерзнут, ремни мерзлые – колодой стоят. – Еду я – и край! – говорю.
А старик:
– Добром тебе говорю – смотри и помни: звал я тебя, не мой грех будет, коли что.
Я сел на козлы.
– Ну, что, – кричу, – едете? – И взял вожжи.
Марья Петровна села. Я тронул и оглянулся. Старик стоял среди дороги и крикнул мне:
– Вернись!
Я еле через ветер услышал. Без охоты лошади тронули. Ой, вернуться!
– А, черт! Пошла! – И ляпнул я кнутом по лошадям. Поскакали. Я оглянулся, и уже не видно ни домов, ни заборов – белой мутью заволокло сзади.
Я скакал напропалую вперед, и вот лошади стали уже мягко ступать, и я увидел, что загрузает нога. Я придержал и с облучка ткнул кнутовищем в снег.
– Что? Что? – всполохнулась Марья Петровна. – Сбились? Этого я и боялась.
– Чего там бояться? Вот она, дорога.
А кнут до половины залез в снег.
– А ну, задремали! – И дернул вожжи. Лошади пошли осторожной рысцой.
И вот вижу я, что валит уж снег с неба, сверху, несет его ветер, кружит, как будто того и ждала метель, чтоб отъехал я от выселков. Вот, как назло, заманила и поймала. И сразу в меня холод вошел: пропали! Поймала и знает, где мы, и заметет, совсем насмерть заметет, и спешит, и воет, и торопится…
– Что? Что? – кричит учительша.
А я уже не отвечаю: чего там что? Не видишь, мол, что? Заманила метель в ловушку. Да я сам же, дурак, скакал прямо сюда. Конец теперь!
И вспомнился старичок, как он на дороге стоял, на ветру его мотало.
– Вернись!
И вдруг Митька взвыл, ревом взвыл, каким-то страшным голосом, не своим:
– Назад, назад! Ой, назад! Не хочу! Не надо! Назад! – И стал червем виться в своих намотках.
Мать его держит; он бьется, вырывается и ревет, ревет, как на кладбище, рвет на себе башлык.
Учительша ему:
– Митя! Митя! Да в самом же деле, да что же это? Митечка!
И кричит мне:
– Поворачивай, поворачивай!
У меня руки ходуном пошли. Я задергал вожжами. Ветер сечет, слезит глаза, забивает снегом. Мне от слез горько и от этого реву Митькиного, а она еще в голос молится. А куда его поворачивать? Всюду одно: снег и снег. Дыбом его подняло и метет и крутит до самого неба.
И вдруг учительша нагнулась ко мне, слышу, в самое ухо кричит:
– Пусти лошадей, пусть они сами вывезут, пусть они сами.
Я бросил вожжи. Лошади шагом пошли.
А учительша причитает:
– Лошадушки! Милые! Милые лошадушки! Да что же это? Господи!
Я отвернулся от ветра, глянул: они с Митькой от снега белые-белые, как из снега вылеплены. Посмотрел – и я такой же. И представилось мне, что занесет нас, заметет, и потом найдут нас троих замерзшими, так и сидим в санях съежившись. И не дай бог я живой останусь – вот оно, заморозил, погубил. И опять старик причудился: «Звал я тебя, не мой грех, коли что». А теперь уж все равно никуда не приехать.
И вдруг я увидел, что наехали мы на колею. Глянул я – от наших саней, от подрезных, колея. И увидел я, что кружат лошади. Да куда они вывезут? Неделю они у нас, ездил батька раз всего в волость за карточками. Я вырвал клок сена, свил жгутом, слез, втоптал в снег. И вот опять наехали мы на колею, и вот он, мой жгут, торчит, и замести не успело; тут мы на месте крутимся. И понял я вдруг, что можно сто верст в этой метели ехать, ехать, и никуда не приедешь, все равно как не стало на свете ничего, только снег да санки наши.
– Ну, что? Ну, что? – спрашивает учительша.
– Кружат, – говорю, – никуда не идут, не знают.
И она заплакала. И вот тут меня ударило: что я наделал! Погубил, погубил, как душегуб. И захотелось слезть и бежать, бежать, пусть я замерзну, пусть заметет с головой, черт со мной совсем!
И вдруг Марья Петровна говорит:
– Ничего, мы тут ночевать будем. Авось как-нибудь. Уж вместе, коли что…
И спокойно так говорит. И вот тут как что в меня вошло. Остановил я лошадей. Слез.
– Полезайте, – говорю, – вы, Марья Петровна, с Митькой вниз. Я вас укрою. Полезайте, дело говорю. – И стал сено разгребать. Как будто и не я стал, все твердо так у меня пошло.
Смотрю, она слушает, лезет и Митьку туда упрятала. Скорчились они там. Я их сеном, армяком подоткнул кругом, и сейчас же снегом замело их сверху, только я знаю, что они там и тепло им, как будто дети мои, а я им отец. И как будто в ум я пришел. Дует ветер мне в ухо, перетянул я шапку на сторону и вспомнил: ведь в левое ухо мне дуло, как я из выселков ехал. Дуть ему теперь в правое, и выеду я назад; не больше версты я отъехал, не может быть, чтобы больше; здесь они должны, заборы эти, быть. Я погнал лошадей и пошел рядом. Иду правым ухом к ветру. Слышу, кричит что-то Марья Петровна из саней, еле слыхать, как за версту голос. Я подошел:
– Вам чего? Подоткнуть?
– Не отходи от саней, Коленька, – говорит, – не отходи, милый, потом залезешь, погреешься. Гукай на лошадей, чтобы я слышала.
– Ладно, – говорю, – не беспокойтесь.
«Ничего, – думаю, – живые там у меня».
Вижу, лошади стали: по самое брюхо в снегу. Я пошел вперед.
Сам все на сани оглядываюсь – не потерять бы. Лошади головы подняли, глядят на меня бочком, присматриваются. Вижу, там снегу больше да больше. Я тихонько стал сворачивать по ветру. Думаю: сугроб это, и я объеду. И только я снова на выселки сверну – опять намет. И вижу: не пробиться к выселкам. А если влево за ветром ехать, то должна быть Емельянка, и туда семь верст. И вот пошел я за ветром и вижу: меньше снегу стало, – это мы на хребтину выбрались – сдуло ветром снег.
А я все так: пройду вперед и вернусь к лошадям. Веду под уздцы. Пройду, сколько мне сани видны, и опять к лошадям, веду их. А как иду рядом с лошадью, она на меня теплом дышит, отдувается. И уж опять нельзя идти по ветру – снегу наметы впереди; прошел я – и по грудь мне. Только я уж знаю, что мы хребтиной идем, а вот тут овраг, а через овраг Емельянка. Лошадь мне через плечо голову положила и так держит, не пускает. Я все в уме говорю: «Тут, тут Емельянка» – и нарочно себе кнутом показываю, – чтобы вернее было, что тут.
Иду я рядом с лошадью, и вдруг мне показалось, что мы уже век идем, и нигде мы, и никакой Емельянки нет, и совсем мы не там, и что крутим, неведомо где. А тут Марья Петровна высунулась.
– Где, где ты, Коля, Коленька? Что тебя не слыхать? Голос подавай! Иди погрейся, я побуду.
– Что? Что? – кричу я. – Сидите, ничего мне.
А она машет чем-то.
– Надень, надень башлык, Николай!
Мне даже и не показалось чудно тогда, что она меня Николаем назвала. Это с Митьки башлык.
И опять ударило меня: «Ведь не доедем до Емельянки! Погубитель я ваш!»
Я не хотел башлыка брать, мне надо первому замерзнуть. Пусть я замерзну, а их живыми найдут.
А она кричит:
– Бери, а то брошу!
И вижу, что бросит.
Я взял, обмотался. Отдам, как замерзать буду. И решил повернуть на Емельянку, попробовать. Теперь она уж чуть сзади должна быть. Сунулся и залез в снег, как в воду. Вдруг стало мне холодно, всего трясти стало, прямо бить меня стало, не могу ничего; думаю, раздергает меня по клочкам этой тряской. Вот, думаю, как оно замерзают. И кто знал, что так мне пропасть придется? И очень так просто, и хоть просто, все равно назад ходу нет. Я пошел в другой бок. Все на санки оглядываюсь, а лошади на меня смотрят. Вижу, меньше тут снегу; стал ногой пробовать. И вдруг пошла, пошла нога ниже… и весь я провалился, и лечу, ссовываюсь вглубь – и тьма. И я уже стою на чем-то, и тихо-тихо, только чуть слышно, как шуршит метель над головой. Как в могилу попал.
Я пощупал – узко и острый камень вокруг. И понял, что я в колодец провалился. Роют у нас люди колодцы в степи по зароку. Узкие, как труба, и кругом камнем выкладывают, чтобы не завалились.
Меня все трясло, все разрывало холодом, и я решил, что все пропало, и пусть я здесь замерзну, пусть меня снегом завалит. Заплачу и помру тут, а они как-нибудь, может, и доживут до утра.
Скорчился и сижу. Не знаю, сколько я сидел так. И перестало меня бить холодом, стало тепло мне в яме… И вдруг хватился я! Так и привиделось, как они там в санях, и заметет их снегом – и лошадей и санки, и там Митька и Марья Петровна. Вылезти, вылезти! И стал я карабкаться по камням вверх, ноги в распор, руками скребусь, как таракан. Вылез с последним духом и лег спиной на снег. Воет метель, пеной снег летит.
Я вскочил, и ничего нет – нет саней. Я пробежал – нет и нет. Потерял, и теперь все пропало, и я один, и лепит, бьет снегом. Злей еще метель взмылась, за два шага не видать.
Я стал орать всем голосом, без перерыву; стою в снегу по колено и все ору:
– Гей! Го! Ага! – Выкричу весь голос и лягу на снег, пусть завалит и – конец.
Только перевел дух и тут над самым ухом слышу:
– Ау, Николай!
Я прямо затрясся: чудится это мне… И я пуще прежнего с перепугу заорал:
– Го-го!
И тут увидел: сани, лошади стоят, снегом облеплены, и Марья Петровна, стоит белая, мутная, и треплет ей подол ветром. Я сразу опомнился.
– Полезайте, – говорю, – едем.
– Не уходи ты, – кричит, – не надо! Лезь в сани как-нибудь. – И сама, вижу, еле стоит на ветру.
– Залезайте, едем. Я знаю, близко мы.
Она стоит.
– Полезай, – говорю я, – там и Митьке теплей будет, а я в ходу, я не замерзну. – И толкаю ее в сани.
Пошла. Я опять тронул. И стало мне казаться, что верно близко и вот сейчас, сейчас приедем куда-нибудь. Гляжу в метель и вижу: колокольни высокие вот тут, сейчас, сквозь снег, перед нами, высокие, белые. Все церкви, церкви, и звон будто слышу, и вдруг вижу, впереди далеко человек идет. И башлык остряком торчит.
Я стал кричать:
– Дядька! Дядька! Гей, дядька!







