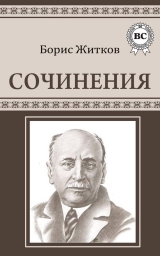
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Борис Житков
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
– На курс, – вполголоса сказал Юз, подойдя к рулевому, и дал полный ход машине.
«Мэри» пошла опять своей дорогой на юг.
– Ведь за три сажени показались огни, Юз, не правда ли? – сказал Паркер.
– Не знаю, капитан… – ответил помощник, не повернув головы.
Паркер ушел в каюту.
Теперь он думал: «Там остались в море люди… их спасут. Ну, может быть, одного… он расскажет… а если все утонули, парусника не так скоро хватятся».
Он старался себя успокоить, вспоминая рассказы товарищей моряков, какие он слышал. Как-то все выходили с победой, и было даже весело и смешно. Он попробовал весело подумать, но случайно увидал свое лицо в зеркале, и ему стало страшно. Ему показалось, что теперь не он ведет пароход, а Юз везет его, Паркера, туда, в Константинополь. Ему казалось, что самое главное – вырваться из этого проклятого Черного моря. Прошмыгнуть через Босфор, чтобы не узнали. Проклятый серый цвет – все пароходы черные. Если б черный!.. Ему хотелось сейчас же вскочить и замазать этот предательский серый цвет.
Вдруг Паркер встал, вышел и быстро прошел в штурманскую рубку, где лежали морские карты. Через пять минут он подошел к Юзу и сказал:
– Ложитесь на курс норд-вест восемьдесят семь градусов.
«Мэри» круто повернула вправо.Когда Паркер ушел, Юз глянул в карту: они шли к устью Дуная.
Русский пассажирский пароход возвращался из Александрийского рейса. Не прекращавшийся всю ночь сильный восточный ветер развел большую зыбь. Низкие тучи неслись над морем. Насилу рассвело. Продрогший вахтенный штурман кутался в пальто и время от времени посматривал в бинокль, отыскивая Федонисский маяк [33] , и ждал смены.
– Маяка еще не видать, – сказал он пришедшему товарищу, – а вот там веха какая-то.
– Никакой тут не должно быть.
– Посмотрите, – и он передал бинокль.
– Да, да, – сказал тот посмотрев. – Да стойте, на ней что-то… Это мачта, право, мачта.
Доложили капитану, и вот пароход, уклонившись от пути, пошел к этой торчавшей из воды мачте. Скоро вся команда узнала, что идут к какой-то мачте, и все высыпали на палубу.
– Побей меня господь, на ней человек, чтоб я пропал! – кричал какой-то матрос.
Но с мостика в бинокль давно уже различили человека и теперь приказали спустить шлюпку. Это трудно было сделать при таком волнении, и шлюпку чуть не разбило о борт парохода. Но всем наперерыв хотелось поскорее подать помощь и узнать, в чем дело. Даже бледные от морской болезни пассажиры вылезли на палубу и ожили. Пароход стоял совсем близко, и всем уже ясно было видно, что на салинге торчавшей из воды мачты стоял мальчик.
Все напряженно следили за нырявшей в зыби шлюпкой. Подойти к мачте так, чтоб кому-нибудь перелезть на нее, нельзя было, а мальчик вниз не спускался: видно было, как кричали со шлюпки и махали руками.
– Умер, умер! – говорили пассажиры. – Застыл, бедняга.
Но мальчик вдруг зашевелился. Он, видимо, с трудом двигал руками, распутывая веревку вокруг своего тела. Потом он зашатался и плюхнулся в воду около самой шлюпки, едва не ударившись о борт. Его подхватили. Федька был почти без чувств; с трудом удалось вырвать у него несколько слов: «Ночью… серый… нашу «Марию»… с ходу в бок…» Он скоро впал в беспамятство и бессвязно бредил. Но моряки уже поняли, что случилось, и в тот же день из порта полетели телеграммы: нетрудно было установить, какой серый пароход мог оказаться в этом месте в ту ночь.
Дней через пять после крушения «Марии» черный английский пароход пришел в Константинополь и стал на якоре в проливе. Штурман отправился на шлюпке предъявить свои бумаги портовым властям. Через час к пароходу пришла с берега шлюпка с английским флагом.
– Я британский консул, – сказал вахтенному матросу высадившийся джентльмен, – проводите меня к капитану.
Капитан встал, когда в дверях каюты появился гость.
– Я здешний консул. Могу с вами переговорить? Вы капитан Артур Паркер, не так ли?
– Да, сэр…
Капитан покраснел и нахмурился. Он волновался и забыл пригласить гостя сесть.
– Откуда вы идете? – спросил консул.
– Мои бумаги на берегу.
– Мне их не надо, я верю слову англичанина.
– Из… Галаца, сэр.
– Но вы шли из России? – спросил консул. – У вас был груз для Галаца?
– Ремонт, – сказал Паркер. – Он с трудом переводил дух, и консулу жалко было смотреть, как волновался этот человек. – Маленький… ремонт, сэр… в доке.
– И там красились? – спросил консул.
Паркер молчал.
Консул достал из бумажника телеграмму и молча подал ее Паркеру. Паркер развернул бумажку. Глаза его бегали по буквам, он не мог ничего прочесть, но видел, что это то, то самое, чего он так боялся. Он уронил руку с телеграммой на стол, смотрел на консула и молчал.
– Может быть, вы отправитесь со мной в консульство, капитан? Вы успокоитесь и объяснитесь, – сказал наконец консул.
Паркер надел фуражку и стал совать в карманы тужурки вещи со стола, не понимая, что делает.
– Не беспокойтесь, за вещами можно будет послать с берега, – сказал консул.
На палубе их встретил Юз. Он уже знал, в чем дело.
– Простите, – обратился он к консулу, – они все…
– Спасся один только мальчик, он дома и здоров, – ответил консул, – их было восемь…
Паркер вздрогнул и, обогнав консула, не глядя по сторонам, быстрыми шагами направился к шлюпке. Теперь он хотел, чтобы его скорее арестовали.На другой день черная «Мэри» вышла в Ливерпуль под командой штурмана Эдуарда Юза.
Вата
Это наконец нас стало заедать. Вот смотрите, приходите в порт, вот он, таможенный досмотр, ходит и поглядывает, во все уголки нос засовывает:
– Что у нас тут? А под койкой что? А в вентиляторе что?
И вот ничего не находит.
А тут, смотрите, один нашелся такой скорпион, то есть досмотрщик, что ничего ему не надо искать, прямо:
– Вот эту доску мне оторвите!
– Как так рвать? А назад кто ее пришивать будет?
– А если ничего там нет, то все в прежний вид приведу я. А как обнаружено будет к провозу недозволенное, то сами должны понимать… – И пальчиком стукает. – Вот в этом самом месте.
Чиновник, что с ним ходит, брови поднимает, ему в глаза засматривает: так ли, мол? Как бы сраму не было?
А этот скорпион долбит пальчиком:
– Небеспременно здесь.
Рвут доску – и как чудо: в том самом месте штука шелка.
Потом идет тихонечко в кочегарку, сразу в угольную яму.
– Вот тут копайте.
А в этих угольных ямах угля наворочено гора, и раскидывать его некуда, да и темнота, только лампочка электрическая коптит. А он, как конь, ногой топчет этот уголь:
– Здесь копайте.
Роют.
– Ну, – говорят, – ничего там не сыщешь, тебя туда, черта, закопаем живого.
В этот уголь чиновник поневоле лезет. Назло ребята пыль поднимают, уголь швыряют лопатами, как от собак отбиваются. Гром стоит – ведь железо кругом. Коробка это железная – угольная-то яма. Называется только так. Чиновник чихает, платочком рот прикрывает. А скорпион все ниже лезет и лампочку на шнурке тянет.
– Зачем левей берешь, нет, ты вот здесь, здесь копай. Ага! Это что?
И лапами, что когтями, – цап! Пакет. Наверх, на палубу. Тут распутывать, разворачивать – бумажки. Каки-таки бумажки? Хлоп – и жандарм тут.
– Эге-с! – говорит жандарм. – Понятно-с. Механика сюда! Капитана! Акт писать: найдены зарытыми бумажки, а бумажки насчет того, чтобы царя долой, фабрикантам по затылку, и вообще неприятные бумажки. А пришли из-за границы.
Потом слух проходит, что дознались: бумажки за границей печатались, даже журнальчик среди бумажек нашли. Даже кипку изрядную. Журнальчик-то на тоненькой бумажке отпечатан. Тут всю машинную команду перетрясли. Водили, допрашивали.
Двоих так назад и не привели.
А скорпион этот уже гоголем ходит. То есть как это сказать? Он до сих пор змеей смотрел, а уж теперь прямо аспидом. Идешь мимо, а он дежурным на переезде стоит и провожает тебя глазами, как из двустволки целит. И видать, дрейфит, как бы кто ему не угораздил булыжником в башку. Оружие им полагалось по форме всего «селедка» – одна шашка. Но этому, слышно было, выдали револьвер, чтобы держал в кармане на случай чего. И все это знали.
Чиновник при всех ему говорил:
– С тобой бы, Петренко, клады в лесах искать. С тобой и рентгена никакого не надо. Как это ты? А?
– Это, ваше высокородие, нюх и практика.
Однако взяли двух. Но мы-то с Сенькой остались на пароходе. На берегу мы с ним имели совет меж собой. Ясно, что глаза скорпионовы с нами плавают, кто-то смотрит, слушает и заваливает публику. И мудреного тут нет ничего. У кочегаров и матросов на носу общие помещения – кубрики: кочегарский и матросский. По борту – койки в два этажа и по переборке такие же. Посреди стол. В углу икона, а над койками карточки, картинки разные. Все вместе едят, вместе спят. Тут чуть что пошептал, сейчас всем видать и все слыхать. Протрепались ребята или без оглядки языком били, только это уже факт, что есть засыпайлы какие-нибудь меж своих же. А вот кто? Стали план разбивать: кто бы это был и как его узнать? А на пароходе стало совсем паршиво: все друг на друга волком. Всякий думает: «Это ты засыпал». Да и верно. У одного два несчастных фунта чаю цейлонского и то нащупал этот скорпион. Его ребята угощать пробовали. Откупорят заграничную бутылку, ему стакан. Выпьет, губы оботрет: «Доброе вино! А в сундучке у вас как?»
Но нам с Сенькой было задание – держать связь с заграницей, доставлять журнал. А тут на! Провалили, и двое людей засыпалось. Это с какими глазами мы туда выставимся! Хоть списывайся на берег да на другой пароход. И тут наши товарищи, здешние, стали срамить; нас с Сенькой такая досада взяла, что тех двух арестованных, кочегаров этих, даже и не жалели. Ругали прямо.
А в комитете нам сказали:
– Товарищи дорогие, мы уж и не знаем, как вам и доверять. То есть ребята вы, может, и верные, но нам сейчас швыряться сотнями номеров нельзя. Время горячее. Это не шутки. Не коньяк в пазухе проносить. Мы другой путь будем искать.
И все на нас глядят, и каждый думает, что мы с Сенькой шляпы и свистунки.
– Вы, – говорят, – товарищи, обдумайте.
Тогда я говорю:
– Этот рейс мы не беремся: действительно, надо все проверить. И мы скажем, а когда скажем, то уж… одним словом, скажем.
Чего тут было говорить? Пошли мы, как оплеванные. Но про доносчика этого решили, что выловим и тогда уж его, гада, просто в ходу за борт – брык… и в дамках. Мало что, упал человек за борт. Ночью. Бывает же такое.
Всех мы перебрали с Сенькой, всех обсудили. Да нет, все будто одинаковые. На всякого можно подумать. И вот что выдумали. Выдумали мы уже в море, когда снялись, а совсем уговорились в персидском порту, в Бассоре. Принимали мы там хлопок. Это как бы побольше кубического метра тюк. Он зашит в джут. И затянут двумя железными полосами, как ремнями. Вата, а в таком тюке четырнадцать пудов ее. Это ее прессом так прессуют, что она там, в этом пакете, как камень. Даже не мягкая ничуть.
И вот наш план.
Будем говорить в кубрике за столом вдвоем по секрету. И смотреть, чтобы только один человек мог нас слушать. И начисто никто больше. И говорить будем, как вроде секрет меж собой. Так к примеру: «Так ты не забыл, значит, как это место (тюк, значит) пометил?» А другой должен говорить: «Нет, на каждой стороне красная точка в пятак». – «А сколько там номеров?» – «А две сотни газет положено, так сказывали».
А при другом говоришь, что не точка, а кресты по углам черные. И для каждого разные марки. И, чтобы не спутать, Сенька все себе запишет где-нибудь.
Нас на погрузке ставили трюмными; это значит стоять в трюме и глядеть, чтобы грузчики правильно раскладывали груз. Грузчики – персы – по-русски ни дьявола не смыслят. Значит, что я ни делаю, рассказать они не могут. А потом я над ними вроде распорядитель всех делов. Сенька у себя во втором – тоже. Каждый взял по ведру с краской и кисточку. Это мы наперед приготовили. И жара там, в Бассоре, немыслимая. Краска стынет, как плевок на морозе. Вот я делаю вроде тревогу, персы на меня смотрят. Я сейчас с ведерком и мечу красным тюк. Они думают, что это надо по правилу. Уважают, я, значит, приказываю: осторожно, не размажь и кати его туда. Они слушают. Уж к обеду мы все марки наши поставили – 27 марок по числу людей. Теперь осталось 27 разговоров устроить. И чтобы виду не показать, что мы это «на пушку» только.
Первый раз чуть все не пропало. Сенька – смешливый. Я при Осипе так серьезно начинаю:
– А ты, – говорю, – помнишь, какую ты марку ставил?
И вижу – Сенька со смеху не прожует. Меня, дурак, в смех вводит, вот-вот и у меня клапана подорвет. Не могу на него глядеть. Говорю ему.
– Ты выйди на палубу, – говорю, – погляди, француз нас догоняет, Мессажери.
Он еле до порога добежал. Ну, что ты с таким станешь делать? Я уж думал, пропало наше дело.
Потом ему говорю:
– Если ты мне на разговор смешки начнешь и комики разные строить, то чтобы мне сгореть, я тебя тут же вот этой медной кружкой по лбу. Разобрал?
Опять, что ли, с Осипом наново начинать? Оставили его напоследок. Взяли Зуева. Он все папиросы набивал. Сядет с гильзами и штрикает, как машина. Загонял потом их тут же промеж своих, кто прокурится. Он себе штрикает, а мы вроде не замечаем. Начали разговор.
Сенька со всей, видать, силой собрал губы в трубку и не своим голосом, как удавленник:
– Красным крестом метил.
Ходу нам до дому месяц, и за месяц мы всех 27 человек разметили на все наши 27 марок и всех записали.
Потом я Сеньку спрашиваю:
– На кого думаешь?
– На Осипа, – говорит. – Он аккурат присунулся ближе, как ты сказал, что двести номеров. А ты на кого?
А я сказал, что Кондратов. И потому Кондратов, что он сейчас же встал и отошел. Только услышал, что кружком мечено, и сейчас же запел веселое, вроде нигде ничего, и вон вышел.
Простак, гляди какой!
– На Осипа, – говорю, – думать нечего. Он человек семейный, ему подработать без хлопот, да вот сахару не ест, домой копит.
А уж к порту подходили, я уж совсем смешался, на кого думать. Семейный, а может быть, он самый и есть предатель, этим и подрабатывает. Другой вот: Зуев; чего он веселый, надо не надо? Чего он ломоты эти строит? Так его и крутит, будто штопор в него завинтили. Из кочегаров двое тоже были у нас на мушке. Потом нам стало казаться, что на нас все по-волчьи глядят. Может, меж собой рассказывали про наш разговор? Уж не знали, как до порта дойдем.
Однако ничего. Опять чиновник к нам, опять этот самый скорпион, жандарм, все, как полагается. Но только началась выгрузка, видим, бессменно скорпион стоит и каждый подъем глазом так и облизывает. Мы тоже поглядываем. Грузчики на берегу берутся по четыре человека, таскают эти тюки и городят из них штабель. Вдруг этот скорпион:
– Эй, эй, неси прямо в проходную таможню! Неси, неси, не рассказывай.
Хорошо я заметил, а то сами бы мы проморгали, – с красным крестом на углу.
Я в заметку – Зуев.
Но уже по всему пароходу шум: понесли тюк хлопка в таможню. Сейчас уж чиновник пришел на пароход, приглашает немедленно нашего старшего помощника – капитан в городе был, на берегу. Еще двоих понятых из команды. Боцман говорит мне: «Ты пойдешь». И еще кочегар один. Приходим. Комнатка небольшая, всего одна скамейка по стене. Два окошка. В окошки люди пялятся. Посреди этот тюк. Чиновник стоит, губки облизывает. А скорпион весь на взводе. Шепчет чиновнику грозно что-то в ухо. Чиновник уж перед ним девочкой так и ахает.
– Ах, скажите, пожалуйста, да уж знаю, знаю, насквозь видишь, рентген!
Ждали жандарма. Вот и жандарм. Послали кочегара за кусачками. Живо смотался, принес. Наш старший помощник говорит:
– Пишите акт, что вот кипа хлопка в четырнадцать пудов, что по вашему требованию, что вы отвечаете.
Чиновник со смешком:
– Па-ажалуйста, сделайте ваше любезнейшее одолжение.
Тут же на скамейке папку расстелил и пишет.
– Откупоривай, – говорит помощник кочегару.
– Есть! – И кочегар – хлоп-хлоп! – перекусил обручи. Кипа, как живая, поддала спиной и распухла.
– Режь!
Полоснул кочегар по джуту, раскрыл: белая вата плотно лежит, будто снег, лопатой прибитый.
– Начинай, – шепотком говорит чиновник.
И начал скорпион сдирать слой за слоем эту вату. Чиновник тут же крутится. В окна столько народу нажало, что в комнате темно стало. Жандарм два раза ходил отпугивать. А ваты все больше да больше. Копнет ее скорпион, ломоток один, а начнет трепать, – глядишь, облако выросло. Чиновник уж весь в пуху, пятится. Дорогие мои! Скорпион еще и четверти кипы этой не отодрал – полкомнаты ваты, и уж окно загородило. Он уж в ней по брюхо стоит, как в пене, и уж со злости огрызается, рвет ее клочьями, ямку посередке копает.
Кочегар говорит:
– Пилу, может, принести?
Чиновник как гаркнет:
– Вон отсюда, мерзавец!
А наш старший:
– Это как же? Занесите в акт: оскорбили понятого.
Мы уж к двери пятимся, вата на нас наступает. Чиновник видит: костюм уж не уберечь, там же роется.
Их уж там видно стало, как во сне, потонули вовсе. А старший наш кричит:
– Ничего не видать, может, обман, может, еще подложите чего?
Уж и взбеленился чиновник, выбегает оттуда: домовой не домовой – чучело белое, вата на нем шерстью. Эх, тут как заорут ребята:
– Дед-мороз!
Он назад. Они там с досмотрщиком вату топчут, примять хотят, да где! Она пухнет, всю комнату завалила, а полкипы еще нет.
Выскочил таможенный чиновник:
– Мерзавец! – кричит. – Запереть его там.
И побежал домой. Мальчишек за ним табун целый. Я на пароход. К Сеньке. «Где Зуев?» – «Сейчас был». Мы туда-сюда, нет Зуева. Так больше и не видал его никто. Сундучок его сдали в контору. И за сундучком никто не пришел.
Николай Исаич Пушкин
Стоят на пристани пассажиры, ждут парохода.
– Вон, вон, кажется, «Пушкин» идет.
Отвечают портовые люди:
– Правильно, это Стратонов.
Пассажиры:
– «Пушкин» ведь?
– Ну да: Николай Исаич.
Пассажиры переглядываются – вот неучи какие моряки: не знают, что Пушкин – Александр Сергеич. Николай Исаич Пушкин! Вот дураки-то.
А Николай Исаич стоит на мостике «Пушкина», глядит в бинокль и рявкает из бороды:
– Права… еще права. Так, так держать!
И знает Николай Исаич, что весь «Пушкин», от верхушки мачты до днища, – все это он – Николай Исаич. И что когда посадит он «Пушкина» на мель, никто не скажет: «Пушкин» напоролся, а прямо будут говорить:
– Николай Исаич на мель сел. Стратонову скулу помял… пять футов воды в трюме.
Сам все эти пять футов воды ртом бы выпил, и пусть бы обе скулы, всю бы морду ему разворотили, с радостью дал бы Николай Исаич, лишь бы не было такого греха.
И так вот всякий капитан.
Потому и говорят: «Ерохин снялся; Федор с моря идет».
А в «Федоре» этом – десять тысяч тонн, и на носу накрашено: «Меркурий».
Я сам это понял только тогда, когда первый раз посадил парусник. Дело было просто. Шел я в свежую погоду у Тендры, ночью. Помощник мой вахту стоял. Вот по времени должна уж быть Тендра. А это, надо сказать, песчаная коса, ее и днем-то за двести саженей можно не увидеть. Я вышел и слышу: не та зыбь, метет прибой, россыпи слышно.
Я говорю помощнику:
– Сейчас в Тендру вопремся, уваливайтесь под ветер.
А он говорит:
– Приведите к ветру, лот брошу.
То есть чтоб я поставил судно против ветра, а он смерит, сколько глубины!
А привести к ветру – это выходит с ходу еще сажень двадцать пролететь к берегу.
– Приведите! – кричит помощник.
– На вашу голову?
– Ладно. – И побежал он с лотом на бак.
Я привел, и еще ходу не потеряли, как ткнуло в грунт и дрогнуло все судно. Подняло зыбью и ударило дном. У меня душа оборвалась.
Потом на берегу спрашивали:
– Ты под Тендрой сидел?
– Да, понимаешь, помощник…
Все усмехаются, отворачиваются. Никто настоящего слова не сказал. Отец только мне сказал это слово, да его не напечатают. И верно. А помощнику что? Сидел-то ведь не он, а я.
И с тех пор я уже накрепко понял: не судно ходит, а капитан. Не судно гибнет, а…
Вот тут-то я вам и расскажу недавний случай с моим другом-приятелем. Дело было так.
Ледокол промышлял во льдах в Белом море. Промышлял, то есть у него на борту было душ полтораста промышленников, и ледокол лазил меж льдов по свободной воде, шел туда, где залег зверь. Капитан был молодой, лет тридцати пяти мужчина. Промышленники его любили за то, что с ним пойдешь – всегда удача. Зверя было «балго», и набили на льдине тюленей – беда сколько. Били и отстать не могли, в раж вошли люди от крови и от удачи. Такая жара пошла, что капитан сам не выдержал, сбежал на лед и садил багром тюленьи головы.
– Эх, здорово капитан завел, – красные, в поту и в крови, хвалили капитана промышленники.
А с запада потянул ветерок. Капитан уж на месте и торопит ребят:
– Ну, кончай! Кончай!
Да как бросишь? В десять лет раз, старики говорят, такая удача! Не бросать же, коли само счастье в руки лезет. Отвернись от него, так и оно отворотится. А вест свежает. Свежает вест, давит на лед, и вот двинулась льдина, и дрейфует (дрейфовать – идти без машины, силой ветра) ледокол у кромки со льдом вместе. Помалу дрейфует к востоку.
Темнеть стало. Ай, и капитан, ну и капитан – прямо счастью в карман вперся! Еще полчасика!
– Все на борт, снимаюсь!
Двинул капитан вдоль кромки: узкой полосой шла, как река в ледяных берегах, свободная вода.
– Умаялись, ребята, вари чего там на ужин.
А капитан дал полный ход: надо уйти из этой щели, а еще не известно, как там лед впереди. Часом бы раньше…
– А ну, смотайся в машину, скажи там, чтоб шевелили, сколько духу.
И стал капитан серьезным. Ходил по мостику и слышал, как внизу гомонят ребята, какого-то Митьку дразнят: вгорячах себе в валенок багром засадил. До Митьки тут! Ходу, ходу еще! Вон лед прямо по носу. Нет, это не поворот в канале, а затор. А может, слабый лед? И капитан заметил, как помощник косым взглядом глянул на него. Капитан подошел к телеграфу и два раза повернул ручку на весь размах и поставил на «полный» – значит, дай самый полный. Слышно было на мостике, как прозвонил крутым раскатом телеграф в машине. Пароход летел прямо в затор, сейчас, сейчас вонзится. Пароход ударил лед пологим форштевнем (выступающее ребро на носу), выскочил, задрался нос, и сразу смолкли голоса под мостиком. Ледокол влез носом на лед и стал, тужился машиной. И капитан и помощник, сами того не замечая, напирали на планшир мостика, тужились вместе с ледоколом. Нет! Стоп!
– Назад!
Машина стала, и снова заурчало в брюхе парохода. Ледокол слез, скатился форштевнем; соскочил со льда и присел на минуту нос. Лед не поддался. Два раза еще ударил в лед капитан и запыхался, помогая пароходу. Он знал, что назад выхода нет и развернуться в узком канале нельзя. А внизу опять гудят, орут, как на ярмарке.
– Митька-то, в валенок!.. Ах, чтоб тебе!
И кто-то кричит:
– Значит, дрейфуем, вались спать, ребята!..
Капитан сам знал, что придется дрейфовать к осту вместе со льдом в этом узком канале, в ледяной коробке. И знал капитан, знал по счислению, что там, справа к осту, – «кошки Литке». Пошел в штурманскую, глянул на карту, глянул во всю силу. Да, вот ровно на ост – «кошки Литке». И сейчас отлив, малая вода.
А вест свежал и свежал. Стало темно, промышленники уж глухо гудели под палубой, и только две папироски остро горели у правого борта. Двое курили и сплевывали за борт.
Если б можно было ходить пешком по дну, хотя бы в водолазной одеже, то чего бы человек не увидел! Как леса, стоят на камнях водоросли, и в них, как птицы, реют рыбы. Вот, как пустыня, лежит песчаная отмель, и камни, как ежи, сидят, поросли ракушей. А дальше горы. Горы стоят, как пики, уходят ввысь, и, если взобраться на них, уж рукой подать до неба – до водяной крыши, что дышит приливом и отливом каждые шесть часов.
И такие горы стоят на дне Белого моря. Их нащупал Литке, нанес на карту, и с тех пор называются «кошки Литке». И в полную приливную воду может над ними пройти пароход, но в отлив напорется и раскроит себе брюхо.
Эти самые «кошки» и были по правому борту ледокола, и был отлив, то есть была «кроткая вода»; когда кончится отлив, должен начаться прилив.
Капитан знал это. Знал, что в узком канале он будет дрейфовать до самых «кошек»; что если он брюхом упрется в «кошки», то через минуту лед слева подойдет к борту вплотную, напрет, напрет неодолимо, как если бы берег, сам материк надвинулся на него, напрет в борт и положит ледокол мачтами на воду, и тогда – аминь. Звать по радио на помощь? Кто же пробьется к нему, когда он, ледокол, не может выбиться? Только раззвонить по свету… чтоб люди смеялись и враги радовались. И он знал, что вот скоро-скоро царапнет дном.
Приказал держать полный пар и ушел в каюту. Посидел на койке, все смотрел свои большие руки.
«Положит набок пароход… положит…»
Где «кошки»? И спиной чувствовал, что там, сзади него, под водой, подо льдом, стоят эти «кошки» и ждут. Сколько до них? Нельзя знать, тут дело не в саженях. Поглядел в альманах (астрономический справочник). И без карандаша в уме считалось само до секунды – сейчас идет прилив, – только начался. И капитан натуживался, помогал подниматься воде, каждый дюйм воды будто сам своей натугой подымал. На пароходе было тихо, и только слышно было под низом, как гудит динамо, качает свет. Свежий вест драил по мостику. А ухо было все внизу, там, у дна, где должны царапнуть камни. Капитан перестал глядеть на часы и считать дюймы, а слушал.
Вот! Чиркнуло. На пароходе спокойно, никто не слышал. Капитан вытянул ящик и вынул кольт.
Камни теперь пойдут выше и выше… Но бежит вода на помощь, оттуда, из океана, через горло Белого моря. Поспеет ли?
Ух, заскребло как, заскрежетал кто-то зубами. И пошатнуло ледокол. И вон голоса на палубе. Помощник прошагал мимо двери, но не стукнул в дверь… Опять! Покренился чуть… Пронесло… Кричит кто-то на палубе:
– На лед, да и пойдем, еще как пойдем-то, куда с добром. Телеграмму даст… Всех снимут. Да к маяку зашагаем, что по земле. Погоди скакать, трап спустим.
Гудят, топают. Теперь даже весело кричат. Все на палубе… Механик около дверей говорит:
– Так вы спросите, тушить, что ли, котлы? А то я на лед, и марш.
И голос помощника:
– Спрашивайте сами… А я спрашивать не стану. Вона сколько уж народу на льду-то.
И оба отошли через минуту.
Опять! Опять! И в ответ загудело на палубе, но капитан слышал только, как силится, скребется он дном по каменьям. Капитан взял в руку кольт. Нет, поддувает, поддувает вода… а в упор к борту стоит лед.
Нету! Нету! Уже пять минут, может быть, нету… Капитан взглянул на часы. Если еще пять минут не будет…
И не было. Капитан глянул на себя в зеркало. Он был красен весь, лицом и шеей, в один ровный багровый цвет. Не узнавал красного человека и от глаз не мог оторваться: сам на себя смотрел.
Потом, не брякнув, сунул кольт в ящик и аккуратно притворил. Вышел на мостик. Всходила красная луна.
– Определиться? – спросил помощник.
– Всех я вас уж определил, кто чего стоит, – сказал капитан и сам взял секстант (астрономический прибор) из штурманской.А утром стал бриться и увидал, что виски седые.
«Мираж»
Прежде я напишу о «Мираже». У меня сейчас воспоминанья о нем, как о таинственном чуде. Он пришел в ночь перед гонкой, стал поодаль от других на якоре. Он стоял и не глядел. Все яхты глядели, подмигивали блеском меди, болтали на ветре полуспущенными парусами, другие грозили бушпритом – казалось, высунулся он вперед не в меру. На всех хлопотали около снастей, перекрикивались. «Мираж» стоял, строго вытянувшись обтянутым обводом борта, с тонкими, как струны, снастями; казалось будто он подавался вперед, будто, стоя на якоре, шел.
Ничто не блестело. Ни одного человека на палубе. Это никого, как видно, не удивляло; казалось, такой пойдет без людей. Я не мог отвести глаз: он был без парусов, но он стоя шел. Я все смотрел на эти текучие обводы корпуса – плавные и стремительные. Только жаркой, упорной любовью можно было создать такое существо: оно стояло на воде, как в воздухе.
– Видал ли? – Мой хозяин подтолкнул меня локтем и кивнул на «Мираж».
Я должен был вести его яхту. Дело шло не только о чести: полуторатысячный приз. Один только: первый.
– Что думаете? – шепотком спросил хозяин и метко в меня прищурился сбоку. Потом вытащил свой золотой хронометр. – Там поговорим, – и застучал английскими ботинками по каменному трапу к шлюпке. Подстелив под белые брюки платочек, сел в корму.
Даже сажень отойдешь от берега, и вас охватывает вода. Вы чувствуете ласковую мягкость под ногами, там, под дном шлюпки, плотный запах морской воды, яркие зайчики на зыби – глянуть и отвернуться. Мне стало весело от воды с солнцем, я уж не думал о призе, о конкурентах, мне просто хотелось выйти поскорей в море, в веселый ветер, в живую зыбь и вот поглядеть бы, как этот «Мираж» будет делать свое дело.
На яхте боцман пришивал к парусу наш гоночный номер: белый квадрат с цифрой 11. Мне не о чем было хлопотать: команда «надраена». Все маневры она производила без запинки ночью. Снасти первейшего качества. Гоночные паруса пойдут в работу нынче всего третий раз. Я смотрел на «Мираж» и случайно увидел, что наша шлюпка подошла к одной яхте. Мой белый хозяин что-то говорил через борт и отвалил дальше. Что за визиты? До гонки оставался час. Ровно в десять – пушка и старт. Старт «хронометрический». Это значило, что каждому отметят время, когда он вышел и когда пришел. Выходить можно в любой момент в течение десяти минут. Затем дается второй выстрел из пушки, и после «старт закрыт». То есть, если ты прошел старт после второго выстрела, то не считаешься участником гонки. На старт уже вышел буксирный пароход. Там судейская комиссия, дамы с зонтиками и оркестр музыки. Этой музыки не любили – она принижала: балаган или карусели?..
Я сказал ставить грот, и парус стал медленно подыматься. Смятую пока парусину бойко принялся трепать ветер. Мне надо было теперь смотреть, чтоб парус стал в меру туго. Я стоял, задрав голову. Мачта чуть забила в небо, и белый, как сливки, парус вырастал и оживал. Я хотел забежать и глянуть с носа на все это дело, как тут за мной прислал хозяин – просят в каюту.
В кают-компании сидело трое: двое наших и один иногородний. Хозяева яхт. Они были тоже в белых костюмах.
Мой хозяин брезгливо и зло насупился на меня.
– Мы останемся с носом. – У него вздернулся ус. Он сделал пальцами нос. – И они тоже. – И он направил нос поочередно на каждого. – Я предлагаю – «коробку». Бросьте, это вполне законно. Первый старт проходит «Мэри», – он ткнул на иногороднего. – «Миражу» выскочить первому мы не дадим. Затем «Зарница» и «Джен». Теперь пусть они, – хозяин мой ткнул толстым пальцем в стол, будто поймал блоху, – а тотчас следом мы. Стойте! Стойте! Мы потому, – он стал грозить мне пальцем, он уж весь вспотел от азарта, – потому, что у нас паруса больше всех и на попутном ветре мы ему закроем ветер. Он вправо, – хозяин оскалился от улыбки и мотнул задом вправо, – а там «Зарница»! Он влево – а это тебе собака? – и он ткнул на гостя. – То есть «Джен», я говорю, собака? И вот выкуси, вы-ку-си! – И хозяин сложил шиш и, вывернув локоть, завил шиш под самую палубу. – И вполне, вполне законно! Раз ты такой ходок, вырывайся своим ходом-то знаменитым!







