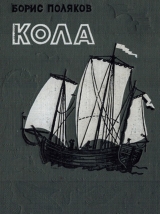
Текст книги "Кола"
Автор книги: Борис Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Если понял, Проней, иди. Горечь за сына уснет навек в твоем сердце. Судьбой доволен твой сын. Этим будешь и ты жить. А не понял – ничего больше в жизни понять не сможешь. Иди, я много тебе сказал.
– Но ты не сказал, как поступать мне? – с последней надеждой спросил Проней.
И впервые ему улыбнулся великий нойда, как малого, тронул его за плечо рукой.
– Поступай, как велит твое сердце. И мир будет в твоей душе. Иди, устал я.
...Проней очнулся, ощутил, что продрог, набил чайник снегом и полез в кувас. Уселся удобно, приладил чайник на крюк, подбросил на угли смолья и сучьев. Сухие, они занялись огнем, и сразу стало тепло... «Поступай, как велит твое сердце».
В ожидании чая, в безделье, хорошо ему думалось. Завтра к вечеру он придет в Колу. Отнесет письмо в ратушу, отдаст самому начальнику – светлым пуговкам. Все как велено. А потом, пожалуй, навестит сына. Давненько они не виделись. Представлялось, как встретят Пронея: сын ему поможет снять малицу, распряжет на дворе оленя. Сноха высушит Пронею тоборки [11]11
Тоборки – обувь из оленьих шкур.
[Закрыть]. Угостят его чаем с архангельскими баранками. Хозяйка уважительная у сына. В застолье с ней приятно. Есть жены – чавкают за едой, как белье полощут в проруби. Эта ест аккуратно. Сама – чистотка, обрядная. Да что там! Ладней всех в Коле она. Пригожа, да удала, да бойка. Балясница, а не пустомеля. Как зачнет песню веселую – загорится вся. Не зря полюбилась сыну. Наряд дома она.
Проней долго силился вспомнить песню, что пела тогда сноха. Слова простые, а душу ему задели. Пригожий напев. Проней и сам в удовольствие спел бы эдакую. Эх, он певал в молодости, бывало.
Однако древний запрет гласил: старикам саамам петь нельзя. Им надо грехи замаливать. И Проней подосадовал на себя, покашлял, поправил огонь под чайником: не любил он запреты переступать.
Но песня, помимо воли его, уже жила в нем. И вся природа его родины, с угрюмыми голыми скалами, низким и редким лесом, озерами тихими, долгой полярной ночью, была в этой песне. И Проней ничего не мог тут поделать. Нарушая строгий запрет, он осторожно стал петь.
Поджав под себя ноги, покачиваясь, он смотрел на огонь и пел. Слов еще не было. Только напев одиноко качался вверх, вниз, хриплый, еще нестойкий. Беспредельная тоска и грусть уходили в черную ночь из груди Пронея.
Он пел о том, что пришла его осень. Черная, темная осень пришла к нему. Лето его позади. А будет еще зима. Долгою и холодною будет его зима.
Пел, что худо рыбам в озере подо льдом, худо зверю живется ночью. Худо лесу притихшему, озяб лес. И хотелось песней утешить их: вернется к ним еще лето. Не вечна скованность холодом и темнотой. Все проходит. Когда взойдет солнце, оживет тундра.
Он пел благодарность громадным и черным скалам, простору тундры и снегу за то, что есть они. Благодарил он суземок, давший ему великое счастье жить в нем и видеть его.
И напев, так долго искавший слов, наконец нашел их.
Спасибо тебе, суземок великий, —
тихо, дрожащим голосом пел дед Проней. —
Спасибо, суземок, за жизнь твою.
Насыщен годами я.
Спасибо тебе за оленя дикого,
За рога его красивые.
Сыт я, человек!
Лай, лай, моя собачонка,
Кипи, кипи, мой чайничек...
45
В кабинет без стука вошел тихо лопарь, привалился плечом к косяку и стоял там, не шевелясь, с любопытством и осторожностью рассматривал Шешелова и кабинет.
Он был старый уже, лопарь. Пожалуй, старее Шешелова. Низкорослый, с руками длинными, в малице. А тело под ней, видать, иссохло: просторна малица. Глаза от мороза и ветра припухшие. И скулы тоже обветрены, обострились. Как он двери впотьмах нашел? Во всей ратуше ни души.
В свете свечей они с минуту рассматривали друг друга.
– Здравствуй, – лопарь кивнул ему головой, будто старому другу, с приветливою улыбкой. А голос надтреснутый от простуды, хриплый. – Ты кто?
– Здравствуй, – Шешелов усмехнулся. – Я городничий.
– Городничий, – повторил лопарь одобрительно. – Это так, хорошо, – пожевал в раздумье сморщенными губами и отвел взгляд, потеряв интерес к Шешелову. – Начальник, однако, нужен. Самый большой.
Шешелов понял: эстафетою пришла почта, и лопарь искал писаря. Но писарь болел. Дарьи не было дома. Шешелов один сидел в кабинете у печки и грелся, собираясь идти гулять. Почту самому получить нужно.
– Я и буду начальник. Самый большой в Коле.
Шешелов встал, поправил под поясом свой халат:
– Ты, верно, письма привез?
Лопарь обшарил взглядом его халат недоверчиво, склонив голову набок, глаза сощурились хитро.
– А где пуговки? – спросил вкрадчиво, будто во лжи уличил ребенка.
– Какие пуговки? – не понял Шешелов.
– Светлые, – лопарь показал на себе рукой. – В один ряд.
– А, – Шешелов не сдержал улыбку. – Мой мундир?
– Пуговки, – уточнил лопарь уважительно. И смотрел на Шешелова лукаво, будто спрашивал взглядом: ну, дескать, будешь ли ты и дальше обманывать?
– Я могу надеть свой мундир, – рассмеялся Шешелов. – Там есть пуговки. В один ряд.
– Надень, – подумав, сказал лопарь. – Начальнику – светлые пуговки есть два письма.
– Мне для этого нужно идти наверх, одеться.
Лопарь проследил за движением его руки и, видимо, понял.
– Иди, – согласился он дружелюбно. – Я посижу. – И опустился прямо на пол, доверчиво поделился: – Устали ноги.
– Сядь вот сюда, – Шешелов указал на стул.
– Нет. Тут хорошо. Ты иди. – И лопарь снял шапку, обнажил седую, в жидких, скатавшихся прядях волос голову.
Приход лопаря развеселил Шешелова. Давно он мундир с таким желанием не надевал. О пришедших письмах не думалось. Забавляла возможность вернуться в свой кабинет в мундире с пуговками.
И одетый уже, идя вниз, глянул на себя в зеркало. Да, конечно, лопарь старше его, намного старше. И усмехнулся, застегивая мундир: начальник – светлые пуговки.
Письма были помяты, затасканы, печати на них потрескались. На одном узнал почерк князя, руки дрогнули: наконец-то! Отбросил губернское, а это вскрывал, ломая печати. Предчувствие роилось недоброе. Не впустую говорят люди: нет вестей – добрая весть. И поймал на себе взгляд, неприятно задела пришедшая мысль: «А ведь он изучает меня». Не по себе стало. Письмо опустил, распрямился.
– Ты что?
При свете свечей он стоял у стола, в мундире: чиновник восьмого класса, городничий и дворянин. Случай с пуговками забылся.
Лопарь поднялся с полу тяжело, спешно, суетливо стал надевать шапку.
– Прощай, однако.
Глаза пугливыми стали, ушли в себя.
– Постой.
Шешелов достал из стола целковый, пошел к лопарю. В дверях уже успел затолкать в его ладонь деньги.
На душе гадко стало. Снова не так поступил. Где же Дарью черт носит? Самовар бы поставила. Никак чаю вовремя не попьешь. Опять один в кабинете. Хоть заорись – один. Во всем доме. В городе. На земле один!
И увидел письмо на столе, укорил себя: побоялся, лопарь испуг на лице заметит. Пнул с досады попавшийся на дороге стул. Черт бы взял и письмо, и князя! Такая минута ушла из жизни! За годы в Коле он их на пальцах может пересчитать!
«Посылая Вас в должность кольского городничего, – писал князь, – надеялись мы не ревизора иметь на окраине государства, а преданного слугу Царя и Отечества...»
Слова письма плохо осознавались. Они безлико шагали в строках, как солдаты в шеренгах. Но они несли Шешелову разгром. Это он понял и читать перестал. Да, да, не обмануло предчувствие: нет вестей – добрая весть. И старался себя успокоить, растирал рукою под сердцем. «Ну что же ты, что? Давно ведь это написано, давно уж. И читать надо». Трудно придвинул кресло к столу, опустился в него.
«...Слухи лживые о земле Вы не только впредь не будете собирать, но, как вредные для пользы Государя Императора, всячески пресекать без пощады должны...»
Прозрачный намек князя о возможном возвращении Шешелова в столицу пропустил: так это, князь шутить изволит. Не в первый раз. Отложил письмо, вытянул ноги, грузно осел в кресле.
Вот и все. Метанья его окончены. Все просто. Князь всегда знал, что делать. Теперь ему бы от Шешелова письмо: злые распространители слухов – отец благочинный и мещанин Герасимов – наказаны. Не следует ведь гнушаться мер тиранических, если они монарху на пользу.
Долго сидел в кресле бездумно, руки обвисшие, ничего не хотелось.
Второе письмо кричало знаками восклицания. Победа! Победа! Нахимовым при Синопе потоплен турецкий флот! Бебутов разбил турок под Баш-Кадыкларом! Радость из письма накатывала. Перед глазами названия потопленных кораблей, цифры убитых, плененных, захваченной артиллерии. Победы были большие, и Шешелов, сам солдат, забыл лопаря, письмо князя, свое положение. Война разгорается? И заспешил: взял свечи и в комнате писаря долго рылся в шкафу, искал карту. Она нашлась, маленькая, общая. Ни Синопа, ни Баш-Кадыклара на ней не значилось. Он вернулся в кресло и закурил. Достал папку с вырезками и полистал их. Что-то такое, призывающее к войне, здесь было, он помнит. Да, вот...
Уж не пора ль, перекрестясь.
Ударить в колокол в Царьграде?
Еще:
В возобновленной Византии
Вновь осенят Христов алтарь.
Пади пред ним, о царь России,
И встань как Всеславянский царь!
Шешелов закрыл папку с вырезками, отбросил. В душе воспротивился и победам, и восторженным крикам. Среди бела дня разбойник ломится в дом, громко крича, что пришел грабить. Эта возня на юге еще с лета ему не нравилась. «Что в Дунайских княжествах нам, русским, надо? Турки правильно объявили войну. Кому по душе что на его пасеке хозяйничает медведь?»
И сравнивал на маленькой карте границы Российской и Турецкой империй. «Но турки-то, объявляя войну, что своей головою турецкой думали? Два таких поражения с разницей в один день. Что же это – судьба Оттоманской Порты предрешена? Понт Эвксинский – Русское озеро? Славянские земли под флаг России? Русские пушки на берегу Дарданелл?»
Радости не было. Это дорого обойдется. Кровь, кровь и кровь. Столько будет крови пролито! Не возрадуешься победам.
И почувствовал нарастающую тревогу. Будто давно когда-то задолжал он беде, да так всю жизнь и не расплатился. А теперь сама она вот-вот явится, и отсрочки уже не будет: плати!
Тревога шла от лежавших на столе писем. Не в силах справиться с предчувствием надвигающейся беды, Шешелов поднялся из кресла. Захотелось немедленно чем-то занять себя. Далее так нельзя. Он не может быть один в доме. Да, он собирался идти гулять. Вспомнив об этом, он заспешил. Надевая шубу, с трудом попал в просторные рукава, задул торопливо свечи, ощупью стал спускаться по лестнице.
Шел черным ходом, где ближе. В сенях споткнулся, уронил коромысло, бадью и что-то еще, громыхающее из Дарьиного хозяйства. С облегчением открыл дверь на улицу. Пошел по угадывающейся тропе мимо дома почтмейстера, казначейства, к заливу, прочь из крепостных стен.
Скрипел под ногами снег. Шешелов обогнул кирпичную церковь и деревянную громаду собора. Пустынно стояли божьи дома, заснеженные и тихие. Чернея, дремали глазницы окон. А у дальних ворот крепости призывно горели окна неспящего кабака. Отчаянно захотелось туда, даже шаги замедлил. А что, в самом деле? Сесть на широкой лавке среди людей, положить на толстый стол локти и велеть подать себе штоф. Можно выпить и сыграть в карты. Послушать пьяный, ни про что, говор, самому рассказать побывальщину из солдатской жизни. Можно пьяно и горестно помолчать над рюмкой или, черт возьми, спеть, распрямившись, положив на соседово плечо руку.
Нет, никто его там не ждет. И ускорил шаг. Писарь может туда, Герасимов. Даже поп. А Шешелов – как ворона белая. И в Архангельск сразу же донесут: городничий, мол, в кабаке хлещет горькую. На старости из ума выжил.
За крепостью темень, ветер пронизывающий. Шешелов запахнул шубу, прислонился к столбу за башней. Здесь меньше дует, но все равно худо и одиноко. А все письмо князя. Единственный раз хотел сделать сам, во что верил. Это же ведь земля.
Перед ним, будто строем, прошли чиновники: оплывший судья, молчащий исправник, любопытствующий почтмейстер, нечистые на руку таможенники. Шешелов помнит: однажды он позволил себе при них вслух подумать. При первом же посещении Архангельска губернатор обмолвился: имеет-де он, Шешелов, склонность либеральные идеи чиновникам преподносить. Мягко эдак сказал. Это, мол, может его сиятельству не понравиться. Шешелов понял: князю уже донесли.
С тех пор его отношения с колянами определились: он не любит их, они не любят его. Менять ничего не нужно.
Глаза к темноте привыкли. В неприветливо-черном небе теряли очертания горбы варак. По берегу Колы, перевернутые, лежали под снежными шапками раньшины, шняки, карбасы. Чернотою пугала вода залива. Ветер и здесь, в углу доставал, забирался под шубу. Спине стало зябко. А старый лопарь, тот самый старик, среди снегов и болот жизнь провел. Шешелов глубже запахнул шубу, в который раз уж покаялся: лопаря зря обидел. Его чаем надо было бы напоить, проводить, посветить в сенцах. С ним про ноги больные надо было поговорить. Они оба старые, нашлось бы чем поделиться. Дернул черт трогать письма. «...но, как вредные для пользы Государя Императора, всячески пресекать без пощады должны...» Князь не только ему, наверное, написал. Молчать, молчать больше надобно.
Шешелов вышел из своего угла и пошел к крепостным воротам. По Коле блуждал долго. На улицах темень, ветрено. К рождеству намело снегу, стало убродно. Неприятно на улицах. Но и в дом идти не хотелось. Две недели болеет писарь. Дарья, как только с утра протопит печь, к нему уходит. Шешелов остается один. В кабинете ратуши и наверху, в комнатах, не может сыскать удобного себе места. Неприкаянно чувствует себя всюду. Тишина гулкая, мысли дурные лезут. С замиранием вслушивается он в шорохи и часто, взяв свечи, обходит дом, всматриваясь в углы. Господи, с ума можно так сойти!
Когда же кончится эта зима и самое в ней ужасное – темень? Когда, наконец, поправится писарь? Отчет за год в губернию им не сделан, а тут еще письма эти.
В одном окне ратуши он заметил свет. Узнал кухню и обрадовался приходу Дарьи, заспешил домой. Он не пойдет к себе в темные и пустые комнаты. Он будет пить чай у Дарьи на кухне. Сидеть у горячего самовара и слушать ее. Сейчас он готов что угодно слушать.
В кухне тепло. Печь протоплена и закрыта. Приятный дух печеного хлеба. На столе шаньги с подсахаренной морошкой. Шешелов любит такие. Он запивает их густым, горячим чаем. Он так устал и продрог.
– А послушай-ка, батюшко, что стану тебе смешное сказывать.
Из цветной бумаги Дарья клеит игрушки. Она разглаживает рукой бумагу, приноравливается ножницами и вырезает. Рождество завтра. Лежат в сторонке сказочные богатыри, кораблики с парусами, медведи, олени, охотники-лопари, солдаты с ружьями. Почему для елки она клеит солдат? И здесь солдаты – игрушки? Опять чепуха лезет.
– Девушки вечор кольские на посиделки собрались. Наряды себе готовить на рождество. А чтобы парни не заходили к ним, девушкам-то, их родители в дом тот старушку глухую приставили. Для присмотру, значит...
Голос у Дарьи певучий, приветливый, никакие тревоги ему неведомы. Говорит она в удовольствие, неторопливо:
– Старушка хоть и глухая, а расторопная. Смекнула она, что девушкам под присмотром быть неохота, и говорит, желая задобрить их: «Вы, – говорит, – девки, как станете очень смешное сказывать – толкните и меня в бок. Чай, и я посмеюсь. Смолоду очень была я до смеху охочая».
Из-за самовара Шешелову хорошо видна Дарья. Кольцо обручальное, старенькое, серебряное, на левой руке. Сколько ей лет? Она не моложе его. Хлопочет, хлопочет, не посидит. Подвижность завидная. А руки, как и у него, пергаментные. Иссохла кожа.
– Ну, сидят девушки, шьют-вышивают, песни поют. Про беседника да про миленочка. Старушка кудельку прядет, радуется: парней и духу нет – так она зорко доглядывает. Только это порадовалась она, смотрит – оживились девушки, улыбчивые все стали. Прямо на месте не усидят. И невдомек ей, что парни в окно с ними знаками переговариваются. Стала тут бабушка приглядываться, хитро так, будто принюхивается. Вот-вот обнаружит парней, прогонит. А Нюшка, племянница кузнецов Лоушкиных, девка бедовая да озорная, возьми тут и потолкай в бок бабушку-то. Старушка не подумала, что это лукавство девушкино, вздернулась и давай хохотать. Громко эдак. Ну прямо уняться никак не может. Тут и девки и парни за окном тоже давай смеяться. Так вот и просмеяли бабушку.
От горячего чая и шанег Шешелов согрелся. В кухне пахло теплым покоем жилья, сытостью, чистотой. Пол свежемытый, на нем узорные половики... Молодежь просмеяла бабушку. Огонь свечи отражается в самоваре, колышет по углам тени. В окне чернота. Темень налипла на стекла.
А где-то земля без снега. Ночи теплые и короткие. Шелестит зелень. Звезды яркие, низко. За утром – день с солнцем и зноем. Пыль из-под ног застилает глаза, скрипит на зубах, сушит глотку. Хочется пить. Ужасно хочется пить. Трещат ружейные выстрелы, бухают пушки. Следует убивать, убивать. Следует быть убитым. Кому-то нужна победа, кому-то глоток воды. У всякого свои беды. У кого суп жидкий, у кого жемчуг мелкий... Молодежь просмеяла бабушку. Почему Дарье не приходят такие мучительные, как ему, мысли?
– Что, Дарья, думаешь: вдруг да война случится? – спросил тихо и сам испугался сказанного. Опять в груди защемило предчувствием надвигающейся беды.
– Что, батюшко, думать? Люди сказывают, происходит она уже.
И вздохнула, руки на миг остановились:
– Про войну лучше слушать, чем знать ее. Я в первый год замужества овдовела. Бог на войне муженька прибрал. Не знаю, где и могилка.
– На французской?
– До нее еще. Года за три.
– Какая же это война была?
– Кто ее знает, какая. Сколько свет стоит божий, все война. Убивают люди людей, убивают.
– С кем же тогда воевали?
– На кораблях с войной приходили какие-то немцы. Аглицкие, сказывают. Это у них кафтаны-то красные?
– У них.
– Вот, они воевали Колу. И Матвей наш тогда охромел.
– Он на войне охромел? – Шешелов сам почувствовал, как уважительно переспросил. Будто добрую весть про близкого человека еще раз хотел услышать.
– Да ведь как сказать – на войне? Ходил на купеческом судне он. Помощником у Герасимова. Купец-то архангельский с норвегами торговал. Судно-то и заполонили эти самые, аглицкие. Посередь пути, в море заполонили.
– Как же он охромел?
Дарья поправила на голове платок, умостилась удобно, сказала словоохотливо:
– А вот, коли охота есть, слушай. Сказывать стану.
В каком же году это было? В десятом, к осени ближе. Шли на лодье они в Норвегию с хлебом. А тут в аккурат корабли аглицкие стали русские суда сыскивать. Которые грабили да сжигали, а которые, с хлебом к примеру, в Англию уводили.
Шли они, значит, шли, – Герасимов кормщиком, а Матвей у него помощником, – и все диву давались: ни единого суднышка не было им навстречу. Не чума ли уж в Норвегах случилась? Так они про себя думали. Об аглицких-то разбоях они тогда и не ведали и не знали. Да. Идут они у Норвегии, смотрят – три больших корабля стоят в тихой бухточке. Без парусов, и, видать в трубу, оснастка не купеческая у них на мачтах. Да и стоят в таком месте, где никто никогда не стаивал.
И опять они подивились да и прошли мимо. А потом уж смотрят: корабли из бухты повышли, паруса на себя подняли и ну догонять лодейку. Резво эдак бегут. Тут и Герасимов с Матвеем все поняли. Они тоже стали свою команду на мачты слать: чтобы там парусов добавить. Лодья стала даже зарывать носом. А аглицкие давай тут палить из пушек: стойте, дескать, однова, мол, нагоним.
Оно бы, конечно, поближе к ночи, может, и продержались бы. Но тут днем все случилось. День стоит в середине августа еще долгий. И через сколько-то там часов нагнали аглицкие лодейку. Подошли прямо к борту и давай на палубу прыгать. При ружьях, саблях, при пистолетах. Матвей тут было силе повоспротивился, но его повалили и ногами поиспинали. Потом всех повязали и в трюм закрыли, а сами стали лодьею управлять: команда, значит, аглицкая и офицер при них. И пошли в Англию.
Ну, шли они, шли, а тут падера случись ночью, ветер сильный да волны. А Матвей, еще перед самым аглицким нападением, ножи у всех своих пособрал и припрятал в трюме. Ну и ночью тогда они путы все на себе посрезали и изловчились из трюма выбраться. Лодью, значит, себе вернуть. А тут часовой на палубе, да с ружьем. Он взял да и стрельнул в Матвея...
Матвей-то проворный смолоду был. Коль прежде бы, до побоев, он непременно сумел бы ружье перенять. А тут бит сильно был перед тем. Вот и не увернулся...
– И попал часовой? – не утерпел Шешелов.
Дарье было, похоже, о чем помолчать. Она погодя лишь вздохнула, но ответила так же ровно:
– Попал.
– И что потом было?
– Что потом? – Дарья будто из забытья Шешелова переспросила. – Ну Герасимов тут же был, еще коляне бежали. Смяли они этого часового. Подняли и кинули за борт в темень. Настолько были ожесточены. Матвей-то после рассказывал, что хоть и корчился сам по палубе в бессознательности почти, но слышал, как страшно кричал часовой. Такого крика Матвей больше в жизни своей не слыхивал. И теперь еще Матвей помнит, как тот крик умолк за бортом.
46
Дарья закончила свой рассказ, а Шешелову все слышался крик – не бедолаги, выброшенного за борт, а немощный крик Матвея. Коптила свеча. Писарь, угрюмый и дерзкий, увиделся Шешелову сейчас иначе. Но ведь известно: в рассказах не без прикрас. Дарья знает о скрытой их неприязни. И, может, хочет только хорошее рассказать о Матвее.
– Почему, Дарья, думаешь, что так было?
– А как же, батюшко? Так и было. Тут ведь, господин мой, сколько годков-то минуло? Почитай, сорок с лишком. А на судне кольские были не один Матвей да Герасимов. Каждый свое опосля рассказывал. – И опнулась чуть, помолчав, согласилась охотно с ним, однако не отступила от своего. – Может, оно и вправду не так что было, откуда мне знать.
– Что же потом стало?
– Потом? Что стало – пленили они матросов вражьих. И офицера ихнего. Всех пленили, окромя того, что за борт кинули. Ну, и как шли к норвегам с грузом, так и пошли туда. В Норвегах, по тамошнему начальству, передали англичан. А потом в Колу вернулись. Игнату после уж награда от царя вышла. Как старшему, значит, крест ему.
– Почему же в Норвегию пленных сдали?
– А куда же их? Мы ведь в соседях живем. Им не с аглицкими, с нами дружить сподручнее. По-соседски и сделали.
– Что же Матвей? Тогда и охромел он? – Шешелов впервые назвал по имени писаря.
– Тогда и есть, батюшко, охромел. – Она подрезала у свечи фитиль, встала, прибрала на столе игрушки, тронула самовар. – Остыл. Подогреть, может? Шаньги еще горячие.
Шешелов не возражал. Уходить из кухни ему не хотелось. Дарья налила воды в самовар. Разжигая сухую лучину, досказывала:
– Не пофартило Матвею в жизни. И умен, и душой добрый, и работящий – а не пофартило.
– Что же так?
– Видишь, смиренья в нем не было. Такой уродился уж. Все хотел от сердца да сгоряча вершить. И стерпеть лишний раз не мог. Вот судьба и ломала его. – В голосе Дарьи сочувствие и теплота неприкрытые.
Спросил о мелькнувшей догадке с улыбкою:
– Никак, ты его любила?
Дарья поставила трубу на самовар, отерла о фартук руки.
– А что, барин, сказать? Жалела, дело прошлое.
– Что же замуж не вышла за него? – пошутил Шешелов.
– Не пошла что? – засмеялась, вскинув молодо головой. – А не сватался!
Любила. Шешелов почувствовал себя неловко от зависти. Вслух сказал:
– Я не знал, что с Герасимовым они друзья.
– Были, – так же охотно откликнулась Дарья, – были друзья большие.
– Рассорились?
– А вот с землицей как канитель вышла, так промеж них будто кошка прошла какая.
– С какою землицей? – насторожился Шешелов.
– С тою же все, у Бориса и Глеба.
– Что же там вышло? – Шешелов сразу вспомнил границу, писаря, карту, приход к нему Герасимова и благочинного, свое письмо в Петербург. – Расскажи-ка мне, Дарья.
– Что рассказывать тут? Старые помнят, а молодым не хотят говорить, вроде бы совестно. Как пошли, значит, слухи, что продали ту землю, коляне очень уж взгорячились. Ни исправник, ни городничий не могли унять их. А Матвей прямо звал пойти миром да столбики-то граничные на прежнее место поставить. Было в Коле шуму! Охотников идти немало набралось: у многих там свои тони были. Исправник кое-кого в холодную посадил, чтобы смуты не вышло, а коляне пуще того взъярились. Тут и норвегов уж стращать стали: мы, мол, их, растак-перетак, вздуем, мол, по-соседски. Пошто лопарей забижать стали да управство свое чинить? Исправнику грозились холодную разнести.
А Герасимов стал колян отговаривать. Негоже, мол, с соседями затевать ссору. Нам, дескать, жить-торговать с ними надобно. Земли, мол, и моря тут много, всем хватит. Вот против Матвея и оказался он. Ближе вроде бы к городничему да к исправнику.
– Может, он думал, что та земля норвежцам принадлежит?
– Может, батюшко, может. Только и он тоже знал: церковь наша на той стороне осталась. – В ее голосе послышался упрек. – Ее люди ведь строили православные, на своей земле.
– И что же дальше?
– Исправник да городничий смуту увидели в словах Матвея. Вот и решили суд стариков устроить. Чтобы они приструнили его как следует.
– Одного?
– Одного.
– Почему же Матвея?
– Уважение он у колян имел. Не меньше Герасимова. Думали так, видно: коли Матвея-то усмирить, остальные подавно отступятся да утихнут.
– И судили его?
– Э, барин, не нами сказано: прожить ее, матушку, не поле стать перейти. Судили. – И вздохнула. – Покривили тогда старички душою. – Перекрестилась суетливо на образа. – Царство небесное им.
...Вдоль стен на широких крашеных лавках сидят старики: в лучшей одежде, благообразные, трезвые. На столе скатерть белая, чистоту суда означающая, тут же крест и икона, свеча зажженная.
Суда стариков не особенно-то боялись. Так себе он, для острастки больше. Если случай не по убийству, поджогу или краже посудины, чем ведал суд государев, – споры мирские вершил суд стариков. Не строго судили старые. Что грех на душу брать, коли одна нога в могиле?
Виновного приговаривали обычно к штрафу для потерпевшего, дело старались к миру свести, окончить магарычом.
Редко суд стариков присуждал к наказанию строжайшему – плетьми. Но если случалось эдакое, терял стеганец уважение колян надолго.
Матвей шапку снял, перекрестился на образа, поклон поясной старикам отвесил и стал посередь избы, поднял голову: не крал он, не сильничал. Говорил лишь – вернуть надо людям, что подло отнято. Так в этом греха никто не усмотрит. Про то вся Кола гудит.
Одно лишь Матвея чуть озадачило: сычом нахохлился у входа исправник, человек на суде стариков лишний – власть государева не мешалась во власть мирскую, – но подбадривал себя, усмехался – ты, ужо, не пуп земли на суде этом.
За старшего у стола Сиволобый. Старик крепкий еще, набожный, крутого нраву. Семья его душ в пятнадцать. Старшие сыновья лавку рыбную держат в Архангельске. Ныне, сказывают, уговаривает он стариков раскошелиться, большой колокол для собора миром приобрести.
Сиволобый поднялся из-за стола медленно, заговорил строго:
– Прослыл ты, Матвей, смутьяном. В кабаке и на берегу колян мутил, подбивал их войною к норвегам идти и земли, что у церкви Бориса и Глеба, отнять силою. Так ли было?
Матвею обычаи ведомы, уваженье к седине с детства. А тут нее головы убеленные, почтение особое полагается.
Однако строгость удивляет его. Что это Сиволобый так? Оттого, что виновным признать не смогут, построжиться захотел?
Ответил ровно, как полагается, со смирением:
– Не совсем так, почтенные старики. Не мутил я людей грабить и воровство чинить. Про войну слов совсем не сказывал. Звал я столбы новые пограничные водворить на прежнее место. Землю, что тихо отдали, так же тихо вернуть. Такие речи, было, держал я...
– Известно тебе, что та земля отдана волею государя нашего?
– Известно, – наклонил Матвей голову. – Но, облагая колян налогом, государь с той земли получал доход, а теперь лишился его. Если же кто, лишая себя дохода, и других при этом лишает, значит творит неведомое ему.
Сзади, у дверей, с лавки вскочил исправник. Голос злой, зычный:
– О государе как говоришь? Пороть! Пороть его!
Матвей оглядываться не стал. Судом, как стеной, от исправника загорожен – не выдадут! Про себя усмехнулся лишь: «Тут без тебя есть кому прикрикнуть!»
Старики на лавках молчали. Сиволобый сдвинул брови, посуровел взглядом:
– На иконе и кресте этом ты, Матвей, покайся в содеянном и от помыслов откажись своих. Мы примем твое покаяние, грех с души снимем.
Матвей мял в руках шапку, про Сиволобого думал: «Глядите-ка как выстебенивает! Что это на него нашло?» Вслух сказал:
– Не могу я покаяться, граждане старики. Нет грехов на моей душе. Все вы знаете – та земля исстари принадлежала русским лопарям. И коляне владели там. Купчие давности лет по триста с лишком в сундуках у многих лежат и подтверждают мои слова... Так за что же вы меня судите?
Старики глядели в пол.
Непонятно Матвею молчание ихнее. Будто он в пустоту говорит.
И не успел еще осознать, что происходит совсем не то, чего он ожидал, как Сиволобый опять поднялся:
– Смута, что учинил Матвей, может конец худой иметь в Коле. Без вины кровь людская прольется, вдов и сирот прибавится. Не можем мы допустить такое. И, чтобы Матвею и другим неповадно было смутьянничать, присудим, граждане старики, к плетям его, наказанию принародно.
«Так, – отметил Матвей, – начал гладью, а кончил гадью». И по тому, как не колеблясь сказал Сиволобый слова такие и как не воспротивились старики, Матвей вдруг с ужасом понял: присудят! Как? Старики! За землю, которой не только они – прадеды их владели?
Вспомнил на миг, как Дарья напутствовала: "Дам тебе шкурку ужа заговоренную – надень на шею. В суде скажи про себя трижды: в земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки – помоги уйти! Ужом уйдешь от суда". Не послушался, просмеял Дарью. А теперь поздно, не убежишь. Да и куда? Без Колы жизнь Матвею немыслима. И он хочет еще раз объяснить старикам, пронять их, наконец.
Но не знал Матвей, что с каждым из них, да так, что другие про то не ведали, говорил до суда исправник.
Одному с улыбкой напомнил грехи старые, другому польстил и всем одно советовал: не покается Матвей – присудить к плетям его. Оттого и сидел соглядатаем: не покачнутся ли старики? Оттого и старики будто воды в рот набрали...
И Матвею не раз потом в долгой жизни являлся кошмаром сон. Из-за стола поднимается Сиволобый и медленно превращается в дым, покачиваясь, растет им до потолка, и оттуда, сверху, раскатом разносится его голос:
– Кайся!
Он протягивает к Матвею руки, и они тоже растут, влажно берут Матвея за плечи, горло, сжимают с силою лешего и давят так книзу, что нет сил стоять.








