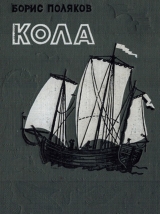
Текст книги "Кола"
Автор книги: Борис Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Судно ползло заметно медленнее.
– Ишь, тяжело, – ворчал хозяин. – Течение с Туломы встречь пошло. – И говорил рулевому: – Правее, правее держи, варнак. Тут глубину знать надо. Не смотри, что широко. Не ровен час, в малую воду на мель выскочишь, будешь кукарекать, а то и судно мне загубишь.
Взяли правее, шли близко к скалам. Какие они, однако, костлявые! Что как суденко бортом об них? Хозяин говаривал, тут акулы. А о них Андрей за дорогу наслушался...
Кузьма Платоныч успокоился, продолжал:
– Летом, Андрей, в Коле остаются только те мужики, что суда чинят или дома. Остальные все на промысле. Домой только осенью возвращаются: отогреться, отлежаться да праздники по завету отцовскому честно справить. Наступает у них тогда ликованье. И песни, и сказки, и ребята со звездою ходят, и ряженые... Коль улов прибыльный, зимуют весело. А весной опять в море. Оно хотя и горе, а без него-то вдвое...
За мысом, казалось, был тупик. На пути встала гора, и к ней сошлись оба берега, закрыли проход по заливу. Гористый правый берег косился на залив густою тенью, а дальше на воде, прямо в глаза – много солнца. Но Андрей рассмотрел: под горой прилепился незнакомый город. Он сверкал куполами церквей, сползал почти до самой воды угрюмой, как и всё вокруг, крепостью, вставал на пути: не объедешь, не обойдешь.
– Ну, вот и подходим. Даст бог, сгрузим почту да вас, грешных, и сами отдохнем. А поутру уж, если ветер будет, дальше пойдем, к норвегам...
Смольков изогнул в повороте голову, смотрел на хозяина снизу вверх, вмешался заискивающе:
– Часто, поди, туда ходите?
– В Норвег-то? Часто... – И подумал о чем-то. – Не ходи мы, так им хоть с голоду помирай...
– Как это? – удивился Смольков.
– А так. Хлеб им возим, пеньку, лесок да то-се по мелочи. Мы-то их побогаче живем...
– А ваши матросы сказывали: там богаче живут.
Лицо хозяина посуровело. Надвинул на глаза кожаный картуз, смотрел вперед, на город, хмыкнул:
– Есть и живут. Кто умом наживной да к делу пришивной. А у кого свыку нет или сам ошкуй, тому нелюбо везде. И в Коле вон, кто умеет покрут обряжать иль с умом торговать – тоже живет. – И голос стал строже. – Что тебе на других глазеть да в чужом кармане деньги считать? В Коле и тебе место сыщется. Видел я, какого ты из полена медведя резал. Руки умелые, на них и надейся...– И опять подобрел лицом. – Коляне тоже зимой, да и летом, на промысле, час есть свободный, любят поделушки резать: зверье какое, птиц ли, утиц или чаек. Режут из дерева, гнут из прута да раскрашивают. Баско выходит. Вешают потом в чистых залах или украшают ворота, палисадники да мезонины. – И повернулся к Смолькову: – Вот и ты на хлеб заработаешь, не умрешь с голоду...
Матросы убирали паруса. Хозяин следил за ними, говорил рулевому:
– К причалу-то бортом, бортом правь. – А сам то и дело на берег поглядывал.
На берегу редкой толпой бабы и ребятишки, а на отрубистом причале одинокий старик.
Сухой и высокий, стоит неподвижно, опираясь на трость, ждет судно.
– Игнат Василич Герасимов, – промолвил хозяин. – Уважаемый человек в Коле. Видать, о сыне справиться вышел. Сам уже не стал в море ходить, постарел. А смолоду моряк ходовый был. Страсть как Север любил. Тут кругом и земель и морей таких нет, где б не бывал он. Все скрозь прошел. Сыном теперь живет. Вся забота об нем. Чтоб моряком был. Сын-то его образованный. В Кеми шкиперское училище кончил. Важнецкий парень, рисковат только. Раз гляжу, загрузился – до трети мачты бочонки стоят. Бывает, и топит таких-то...
Судно постепенно теряло ход, причал наползал медленно, полоса воды до него становилась все уже. Хозяин сложил руки трубкой, крикнул:
– Игна-а-т Васи-и-лич! – Над головою махал картузом.
Старик на причале ожил, тоже снял шапку, ответно кланялся.
Заспанные, на палубу вышли конвоиры, оправляли себе мундиры, чистили их, осматривали ружья. Пошептались в сторонке и подошли. Старший, деланно хмуря брови, заторопил:
– Собирайтеся живо. Напрохлаждалися тут, будя...
За дорогу конвой не докучал, и, попривыкнув, Андрей подчас забывал о нем. А сейчас будто увидел, как голос конвоира враз отделил его от всех, словно стену поставил. Андрей вздохнул, понуро побрел за Смольковым в трюм взять зипун и котомку.
Когда поднялся обратно, на палубе было суматошно. Шхуну вязали к причалу, по трапу уже шел хозяин. У матроса кожаный мешок с почтой, он торопился следом. Андрей, спускаясь по шаткому трапу, вспомнил, как в Архангельске нес мешок. Теперь спина зажила. На миг показалось, будто чего-то недоставало. Тряхнул за плечами котомкой: все на месте. Но потеря была ощутима: исчезло что-то невосполнимо нужное, к чему приросло сердце. Он мучительно пытался вспомнить что и никак не мог.
Шаткость прошла. На причале скользкие бревна пахли рыбой. Старик и хозяин обнялись, поцеловались трижды. Держась руками, разглядывали друг друга.
– Не стареешь ты, не стареешь, Игнат Василич...
Андрей видел, как приятно смеялся хозяин, решил:
«Пойду попрощаюсь. За доброе обхождение поклониться не грех». Но конвоир преградил путь и угрожающе тряхнул ружьем:
– Куда?! Давай, давай, пошел сюда вот...
Он резко толкнул Андрея, и тому снова, как совсем недавно еще, захотелось рвануть ружье, забросить его подальше и бежать. Бежать куда глаза глядят, куда несут ноги. Бежать, лишь бы не слышать погоняющих окриков, не чувствовать себя в стаде, шарахающемся от свиста кнута, улюлюканья загонщиков и лая собак.
Смольков двумя руками нахлобучивал шапку, поспешно заверял конвой:
– Идем, милыя, уже идем...
Андрей обреченно пошел за Смольковым. Смешанная с завистью к старику на причале, шевельнулась ревность к хозяину и упрек: «Что ж не попрощался-то?»
6
Их вели берегом у воды, вдоль крепости. Стены ее из толстых, в обхват, бревен, темно позеленевшие, от земли поросшие мхом. Конвоиры держали ружья на изготовку, шли торжественно. Коляне уступали дорогу, провожали кто откровенно любопытным, кто сострадательным взглядом. Мальчишки останавливались, притихшие, в глазах любопытство и недоумение. А те, что поменьше, босоногие и грязноносые, в длинных рубахах, бежали следом и радостно кричали: «Рестантиков ведут! Рестантиков ведут!»
Смольков не обращал на это внимания. Он шел суетливо, предсказывал:
– Не горюй, Андрюха. Скоро уж. Вот сведут к исправнику – и караул долой. Без них ходить будем. Определят на квартиру, и смотреть за нами никто не будет...
Хозяин шел где-то следом. Андрей слышал, как он осторожно говорил старику:
– Рассказывали мне, очень уж грузит Кир шхунку-то. Отчаянный он у тебя.
– Грузит, грузит, – соглашался старик. – Оттого и часу спокоя нет. Киру-то все по-своему надо. Оно и дай бог, чтоб получилось, только ведь спокойнее, когда без риску-то...
– Это смолоду. Пообвыкнет – будет, как все, беречься.
Матрос с почтовым мешком обогнал их, свернул к крепостной башне и скрылся в ее чреве. На башне искусно вырезанный деревянный герб царский: во всю стену орел о двух главах. Под орлом ворота в башне раскрыты настежь. За ними тень сумрачная, подземельная. Андрей чуть замедлил шаг. В спину уперся штык, и конвоир прикрикнул:
– Ну-ну, проходи!
От боли Андрей отпрянул, – обернувшись, схватил за штык, резко дернул его к себе. Конвоир споткнулся и выпустил ружье. Онемело прирос взглядом к Андрею, хватая воздух пустыми руками, будто что-то искал впотьмах, и испуганно зачастил:
– Ты пошто, ты пошто?!
Второй конвоир оторопело моргал глазами. Не зная, что делать дальше, Андрей опустил ружье.
– А пошто ружьем балуешь? – хозяин со стариком стали рядом. Голос у Платоныча строгий. – Скотину и то добрый хозяин не бьет...
Старик, смеясь, посоветовал:
– Мушкет-то бросить в залив, наперед знать будет...
Кузьма Платоныч забрал ружье, вернул его конвоиру.
Андрею сказал строго, медленно:
– Горька твоя доля, а в искушение впадать не надобно. – И спросил конвоира: – Куда вы теперь с ними?
Солдат, получив ружье, обрел независимость и дар речи:
– Знамо куда, к исправнику.
– Прости, Игнат Василич, пойду с ними. Как бы не вышло чего.
– Зайдешь погостить-то?
– Зайду, непременно зайду, – заверил хозяин.
7
Городничий Шешелов ждал почту. Нетерпеливо ходил он по кабинету, поглядывал на ворота крепости, на дом почтмейстера, видел, как туда пронесли кожаный мешок, как его заносили в дом. Прислонив к холодному окну лоб, он стоял и барабанил пальцами по стеклу, потом позвонил в нетерпении и послал Дарью за почтой, отыскал костяной нож, сам подвинул кресло к теплой печке-голландке, ближе к свету и сидел, подкладывая в топку поленья, смотрел на огонь.
Дарья принесла полную кису и неторопливо вынимала из нее обернутые книги, журналы, а он ревниво следил за аккуратными движениями ее рук. Хотелось, чтобы скорее она ушла, а он остался бы тут один и все посмотрел сам.
Дарья кончила выкладывать книги и протянула ему тощий конверт с печатями губернской канцелярии.
Шешелов положил его на край стола и отпустил Дарью. Посмотрел и отодвинул пакет еще: настроение испортилось.
Все это повторялось с каждой почтой. Он ждал книг и боялся казенных пакетов. Ему претили эти большие, заляпанные сургучом конверты. Они лишали его покоя.
Грузный, медлительный, сидел он в кресле, смотрел на книги, на огонь камелька, гадал, что может быть в конверте. Вскрывать его не хотелось. «Какой-нибудь пустяк, – уговаривал он себя, – сначала надо посмотреть книги».
Он взял первый журнал. Пробежал взглядом заголовки. «Стихи князя Кропоткина». «Проезд через Закавказский Край» – барона фон Корфа. «История величия и падения Цезаря Биротто» – роман господина Бальзака. Шешелов, перелистывая страницы, смотрел картинки, предвкушал, как в долгие зимние вечера будет все это читать, мысленно путешествуя по огромной земле. «Страсть к составлению торговых компаний обуревает теперь Париж...» «Двигательная электромагнитная сила господина Якоби... нужно найти устройство, чтобы снаряд давал ток сильный, ровный и продолжительный. Профессор господин Якоби решил эту трудность...». «Шведский город Гётеборг построен из камня, вывезенного из Шотландии. Все старинные здания Петербурга сложены из голландского кирпича. После сожжения Москвы в 1812 году кирпич всей Европы отправлялся в эту древнюю столицу. В Вильно часть соборной церкви построена из черного шведского гранита. Улицы Одессы мостятся итальянским камнем. В Лондоне делают шоссе из камня, вывозимого из Китая как балласт...»
Закрыл журнал, увидел на столе серый конверт. О, эти губернские конверты! Вечно они обязывали, требовали, грозили. И он не мог отделаться от ощущения, будто в них спрятано что-то мерзкое. Подумал, что сегодня, пожалуй, пакет можно и не читать. И завтра тоже. Он повременит еще неделю, больше. Он не будет знать, что там написано.
И по-детски обрадовался своей хитрости. Он насолит им. Он займется своими книгами.
8
После обеда Смольков повел Андрея показывать Колу. На пустынных улочках трава начала густо желтеть, казалась теплой и мягкой. Светило низкое солнце. Город был тихим и дремлющим. У редких прохожих в глазах немой вопрос. Смольков предупредительно снимал шапку, кланялся, желал здоровья. Кланялся и Андрей; отойдя, незаметно оглядывался: приставив ладонь к бровям, коляне смотрели им вслед. А Смольков ретиво шагал, не останавливаясь, уверенно вел Андрея.
– Куда ты гонишь? – не утерпел Андрей.
– Иди, знаю куда веду... Ахнешь.
Смольков опять старшим сделался. Его сметливость, умение обращаться с незнакомыми людьми, бывалость поражали Андрея. Про себя лишь дивился: настолько преобразился Смольков, даже походка другой стала. Надо его держаться, думал, из тюрьмы вызволил, чуть ли не жизнь спас. А как с исправником разговаривал – по-благородному! Деньги на житье не просил – требовал! Ничего не боится. С квартирой уладил, хозяйку так умаслил, что накормила и баню пошла топить.
Из переулка вышли две девки. В красных сарафанах, с ведрами на коромыслах, они весело болтали о чем-то своем. Смольков ускорил шаг, расправил на рубахе опояску, заигрывая, спросил:
– Куда это вы с пустыми ведрами?
Девки остановились. Глаза с неостывшим смехом, любопытные. Сами характером неробкие.
– В Колу, топить пошли!
– Жемчуг черпать!
Андрей подходил за Смольковым. Отличались здесь девки. Вот и эти: одежда вроде будничная, а с достатком, нарядная.
Смольков не умолкал:
– Или в колодцах воды не стало?
– Заходите, угостим вас!
– Скотину поим из колодцев, подселенная она там.
– А неленивые из Колы пьют!
Они говорили Смолькову в тон, бойко, и Смольков, не смущаясь нарядности девок, пересмеивался с ними, браво расправив узкие плечи, лихо заломив шапку. Андрей ждал поодаль, в разговор не встревал. Смольков подошел возбужденный, похвастал:
– Девки, они, брат, всегда мои были. Добуду мандолину – сам увидишь!
– Что это они разряжены, вроде праздник ноне престольный?
– Не из бедных, видать. Вишь дома-то вокруг какие...
Дома и вправду больше двухэтажные, из бревен толстых, крыши тесовые. Окна что в горнице, почти везде одинаково светлые, крашеные. На окнах цветы – фуксии да герани, занавески чистые. Ровно баре живут. В родных местах Андрей видал такие дома только у первых богатеев.
– Вольные, – сказал Смольков, – граница рядом.
А там, – махнул рукой в сторону, – там еще богаче живут. Там совсем воля...
Андрей присматривался к городу. Да, хороши дома. Ворота с навесами. Под навесом крест – почитают бога. Нет, не все дома одинаковы. Есть вон и победнее, с подслеповатыми оконцами, а вон и тесницы на крыше зеленеют от мха. Вдоль домов мостки деревянные, заборы тесовые. А лесу кругом не видно. Где же они его берут? Холмы – вона какие! Покатые да большие, а поросли только кустарником. И сколько шли по заливу, тоже лесу почти не видели. На князьке у домов, на амбаре ли, к высоким шестам петухи, человечки, кораблики прилажены. Искусно вырезанные, разукрашенные, с вертушкой.
– Для чего это? – спросил Андрей.
– Флюгарки. – Смольков знал все. – Ветер показывают. Морем тут кормятся.
– Знатно живут, и бар тебе никаких. А ведь тоже Россия.
Смольков почему-то рассердился:
– Они не указ нам и не ровня. У нас судьба на бумаге записана, а бумага лежит на полке. Пока не трогают, и нам хорошо. А поднимут да поглядят в нее, и пойдет раб божий Андрей Широков обратно. Да не в солдаты, нет, брат, на каторгу.
– Чего это они их поднимут? – с недоумением отозвался Андрей. – Я свое получил.
– Не все, Андрюша, – тихо-тихо сказал Смольков. – Спросят: зачем лгал, зачем напрасную клятву давал? Или забыл, как сюда попал?
Андрей замолчал. Ну зачем же так? Ничего он не забыл. Говорить расхотелось.
Они миновали окраину, домишки тут были и вовсе бедные, неухоженные да маленькие, и город остался позади. За луговиной поднималась гора. Смольков повернул по тропе вверх. Вся земля, как бородавками, валунами усыпана, везде песок да камень. Никудышная земля, к хлебопашеству негодная. И чем живут люди? Разве рыбой одной сыт будешь?
У Смолькова развязалась обора от лаптя. Андрей вспомнил, как исподволь рассматривали их девки, ненароком задерживали взгляд на износившихся лаптях и серых онучах, прятали за веселым говором любопытство. Нет, не мог Андрей, как Смольков, чувствовать себя на равных и шутить с ними.
Смольков наверху поджидал Андрея. Он тяжело дышал, на сухих щеках разлился румянец.
– Гляди, Андрюха.
Андрей подошел к Смолькову и оглянулся. Никогда он не видел такого раздолья сверху. Бледной синевой растекся залив. А сопки, покатые и крутые, насколько глаз хватало, шли и шли к заливу, громоздились, теснили друг друга, то обнаженные, то усыпанные кустарником, в неярком солнечном свете играли первым золотом позднего лета.
Река справа и река слева. Внизу, под ногами, сгрудился город. Крепость раскинула стены-плечи, смотрела башнями на залив, отгораживала от него большой собор девятнадцатиглавый, каменную церковь поменьше и казенные дома. Теснились улицы, к крепостной стене жались дома, и только здесь, у подножия, на луговине было просторно.
– Да-а... – вымолвил Андрей.
– Что я говорил?
Смольков подошел ближе, и так стояли они плечо к плечу, удивленные, зачарованные, глядели молча. Поверху тянул ветер. Медленно плыли облака.
– Диво-то какое...
Андрей вдруг почувствовал, что и залив, и город этот, и слова Смолькова слились воедино, перемешались, и в душе зарождалось что-то, неведомое доселе. Оно ощутимо росло внутри, комком поднималось к горлу и требовало новых и необычных слов. Он глотнул воздуха и облизал сухим языком губы:
– Вот она, мать-Россея, в красоте какой начинается... Шапку охота снять, поклониться. Дивная сторона. Помнишь, на судне хозяин говаривал?..
Смольков отошел от Андрея, сел на камень. И Андрей удивился – Смолькова как подменили, он смеялся:
– Врет половину того хозяин, а ты слушаешь. Сторона! Дерево путевое не растет. Ты больше своим умом живи. Они все хитрые, в душу хотят залезть, выведать, а ты распустил слюни: Россея! Не начинается она здесь, а кончается...
Не отрываясь Андрей следил за игрой облаков. Ему казалось, что вот-вот он постигнет что-то невидимое, но важное и большое, как этот мир.
– Ты еще не знаешь,– не умолкал Смольков, – красивых мест на земле – ой сколько! Рос-сея!..
Показалось, Смольков криком спугнул, помешал понять это новое, необычно важное. Непрошеная обида захлестнула Андрея, он повернулся к Смолькову:
– Ты-то отколя все знаешь?
Смольков осекся и помягчал голосом.
– Откуда? Верные люди поведали, что да как. Я напредки много повыспросил. Узнал и про Колу-город, и дорогу дальше, и гору эту, Соловарака называется. Я, может, больше твоего хозяина знаю, только молчу. И ты, Андрюха, таись. Умней других не будь. Не любят люди этого. Ты голову-то ниже, ниже клони, не гордись. Потом благодарить меня будешь...
Смольков сидел на камне, заматывал на ноге онучу, на Андрея он не глядел. А голос у него опять ровный, тихий.
Он съехал с камня, вытянул ноги, сидел, привалясь к валуну, щурился на залив.
– Поведу я скоро тебя, Андрюха, в зарубеж, к норвегам. Никакая власть там достать не сможет. А людей там отродясь не пороли – закону такого нету. И работает там на медных заводах много беглых россейских. Живут не таясь, вольно...
Он говорил то же, что и в Архангельске, но теперь это звучало совсем иначе. И Смольков был другим: бывалым, знающим, сильным. Нет, не надолго держит Андрей обиду на Смолькова. Слушает Андрей, и дух у него захватывает. Еще недолго, и он, Андрей Широков, крепостной, с колыбели предназначенный в солдаты, будет вольным, себе хозяином. Неужто он сможет жить, не таясь от людей?!
9
Шешелов проснулся по-стариковски рано. Он хорошо провел вечер и даже сейчас был еще во власти прочитанного. Умиротворенный, словно после рождественской заутрени, он блаженно потягивался в постели. Хороший день. Он и сегодня будет перелистывать и читать полученную почту. Уже который год он вырезает и собирает интересные сообщения, тщательно сортирует их, подшивает, хранит! Он доволен своей коллекцией. В ней копятся сведения, которым сможет позавидовать энциклопедия. Вчера был первый вечер, а впереди, в долгую зиму, у него будет много-много таких вечеров. Этих газет, журналов и книг хватит до следующей почты, а потом...
Холодком кольнуло воспоминание о пакете. Недовольный, он поворочался в постели, полежал, стараясь вернуться к прерванным мыслям, но покой был нарушен. Зябко поеживаясь, он высунул из-под одеяла босые ноги, нашарил в темноте оленьи пимы, решил вставать.
Он разбудил в соседней комнате Дарью, велел согреть чай и спустился вниз, в городскую ратушу. В кабинете зажег свечи, прислонился к неостывшей печке, стоял, наслаждаясь теплом, косился на конверт, наконец решился, подошел к столу, вскрыл его и подвинул трехсвечник.
Да, да, он так и знал. Лихо придумали! И повод веский – государственная граница! Но почему это «пришедшие в ветхость пограничные знаки» должен возобновлять именно он, да еще «по согласованию с норвежскими комиссарами»? Это значит – надо самому ехать в Норвегию, организовывать, хлопотать, беспокоиться... А он уже стар. И у него нет желания быть бойким.
Он сидел в кресле, размышлял над письмом, рассматривал свои руки. Некогда они были белые и холеные, а теперь кожа стала сухой и дряблой. А лицо? Он знает, какое оно, он чувствует, как тело неотвратимо тучнеет и дряхлеет. Приходит в ветхость, как пограничные столбы.
Пограничные столбы он хорошо помнил. Они действительно сгнили. Но он не хочет обременять себя. Единственное, что ему в удовольствие, – это полученные с почтой книги. А вся эта суета уже не для него. Он устал. Ему нужно прожить зиму, а летом он, может быть, получит разрешение и вернется в Санкт-Петербург.
Так что же делать с циркуляром из губернии? Работа громоздкая. Она надолго лишит покоя, будет отнимать силы. Он не хочет ею заниматься. Но по опыту знает: изведут повторными указаниями, будут слать их еще и еще. Нужно придумать что-то убедительное, что оттягивало бы исполнение. Да, да. Он придумал: скоро ночь, стужа, снег... «В условиях надвигающейся полярной ночи он не может выполнить предписание в срок и посему откладывает исполнение до весны...» Мысленно смеялся: от дерзкого ответа господин губернатор сжует свою бороду. Нужно чем-то подсластить, успокоить. Покорностью. Они это любят. Можно так: «Однако за зиму он сделает заготовку леса для изготовления необходимого количества столбов, чтобы на протяжении...» Сколько же верст идет граница? Сколько необходимо столбов? Ну, это он подсчитает. Дальше: «Приказание губернии им будет исполнено с надлежащим чаянием». Ничего, зима долгая – столбы успеют заготовить.
Дарья принесла чай. Он обрадовался, обхватил горячий стакан ладонями, велел ей срочно позвать письмоводителя. Прошелся по кабинету: все придумано отлично! Только подсчитать столбы. Ответ должен быть убедительным, с цифрами.
Заспанный, с нерасчесанной бородой пришел письмоводитель. Сухо доложился, стоял, мял в руках шапку, равнодушно смотрел в угол. Шешелов видел его недовольство ранним вызовом и молчал, ожидая, что он спросит обычное: «Зачем звали?» Но писарь ждал терпеливо. Это хорошо. Все же он приучает этих колян к дисциплине.
– Вот что, братец, дай-ка мне карту по границе да садись за стол. Продиктую тебе письмецо в губернию.
Писарь послушно сел, взялся чинить перо, пробовал его острие о палец.
– Карты по границе у нас нет. Есть одна старая, еще времен, пожалуй, царя Петра, дак она не годится...
Шешелов был озадачен. Это не входило в его планы. Он должен написать, что заготовит определенное количество столбов. Ответ должен быть убедительным.
– У нас, в Кольской ратуше, нет пограничной карты? Мы, выходит, не знаем, где проходит граница?
– Выходит, не знаем. – Писарь устало вздохнул. – Просили мы в губернии, да нам не дали...
– Как это исполнить? – Шешелов повертел в руках письмо, протянул его писарю. Писарь вздел на нос очки и, шевеля губами, прочел.
– Ежели исполнять, то границу всяк знает. Столбы ставить – дело нехитрое. А можно и написать в губернию: карты по новой границе нет, где ставить знаки – не ведаем...
– Что такое – старая и новая граница?
Писарь снял очки, нехотя пояснил:
– Раньше была одна граница, а потом приехали из столицы два чиновника, и появилась другая, новая...
– Ты подробнее.
– А я подробнее не знаю. Кто о границе много знал, того розгами драли. Так что теперь о границе никто вроде бы ничего не знает. – И смотрел с загадкой. – Если желаете подробно, то отец благочинный и Герасимов знают. У них спросите...
Шешелов насторожился: «Не смеется ли?» Благочинный и Герасимов люди гонористые и чванливые, считают себя истыми колянами, относятся к нему иронически.
– Так что велите писать?
Шешелов молчал.
По мере того как исполнение пакета оттягивалось, настроение его портилось. Эта губернская неразбериха! Опять нужно бросать книги и заниматься бог знает чем! Правда, можно им написать: карты в Коле не имеем, где граница – не ведаем. Писарь прав.
– Нет, писать ничего не нужно. Подай старую карту.
Он разложил ее на столе, ветхую, пожелтевшую от времени:
– Где теперь граница?
Следил, как писарь вел заскорузлым пальцем по бумаге, провел следом черту, смотрел на кусок, что оказался теперь за чертой, соображал.
– Когда, говоришь, это случилось? В двадцать шестом?
Хорошо, пусть писарь идет. Он должен остаться один, подумать.
Странно, он ничего не знает о передвинутой не так уж давно границе.
Шешелов допил чай, закурил трубку, вспомнил, как летом ездил с исправником по лопарским погостам. Как-то стали они ночевать на тайболе, [2]2
Тайбола – волок, пространство между озерами.
[Закрыть] развели костер. Указывая на полусгнивший, с царским гербом столб, проводник-лопарь сказал: «Граница. Новый граница». Шешелов глянул на полосатый столб. Для него это мера пути: теперь они поедут вдоль границы, а потом повернут домой. Но лопарь разговорился: «Новый граница. Старый там, – махнул рукой на запад, – далеко. Родня живет, зверя много, рыбы, мох есть олешкам».
Исправник что-то сказал по-лопарски, и проводник смолк на полуслове, – продолжал хлопотать у костра. Шешелов немного удивился злости, что послышалась ему в голосе у исправника, но смолчал. Его измучили незаходящее солнце, тучи комаров и мошкары. Теплые дни выдались. Ему хотелось чаю и отдыха. Он подумал тогда: исправник поругал проводника за нерасторопность. Но сейчас понял: лопарь что-то хотел сказать, а исправник его оборвал. Тут что-то другое. Да, да, другое, Вызвать исправника? Он тогда не захотел сказать, и теперь, наверное, будет крутиться. Нет, для начала он поговорит с этими чванливыми колянами. Конечно, он не будет их приглашать в дом. Но здесь, в ратуше, он велит Дарье подать им чай.
А теперь он займется книгами.
10
Поутру всполохом ударил колокол. Андрея словно пружиной подкинуло. Он сел ошалело: звон был настойчивый и призывный. С чего бы это? И стал тормошить Смолькова.
– Слышь, колокол набатит...
Смольков смотрел пустыми спросонья глазами. Вчера на горе меж ними легла какая-то отчужденность. Вернулись с вараки и больше не разговаривали. Вечером, укладываясь на сеновале, Смольков окинул Андрея взглядом и усмехнулся: «Ничего, перебродишь, зелен еще...» Андрея снова покоробили смольковская привычка растягивать в улыбке губы, не разжимая их, и его самоуверенная снисходительность. Так и уснули. Теперь Смольков, наверное, вспомнил вчерашнее. Он прислушался и сонно зевнул, – Ну и что? – спросил равнодушно.
– Случилось, никак, что-то?
– Тебе-то чего? Спи. – И стал укладываться. Но Андрей схватил его за плечо:
– Ты послушай, гудит-то как непонятно: не заутреня, не обедня. Может, беда какая...
Смольков проснулся совсем, опомнился, тревожно метнул взгляд по сеновалу. Звон бился под крышей, звал.
– Поостынь малость. Ведаешь, кто мы тут? Смотреть надо, что да как...
Он поднялся, осторожно открыл слуховое окно и глянул во двор. Утро влажное, с холодком обещало погожий день. Серебром разлилась роса. У будки во сне повизгивал пес. Было тихо и солнечно. Город еще не проснулся, и только звон плыл и плыл, наполняя все окрест.
В доме стукнула дверь, и на крыльцо выскочила хозяйка. В одной рубашке, босая, простоволосая, остановилась, тревожно вслушиваясь. И вдруг озарилась улыбкой, посветлела лицом, расцвела. Подняла оголенные руки, забрала в узел волосы, потянулась всем телом сладко и засмеялась. Голые руки, белые, полные.
– Гляди, какая она из постели. Мягкая... – зашептал Смольков.
Хозяйка увидела их в проеме окна, нахмурилась:
– Ну, чего вылупились, бесстыжие...
– Что-то колокол бьет. Думаем, может, беда стряслась, – пропел Смольков.
Хозяйка улыбнулась:
– Встречать зовет. Сударики наши, мужички плывут. —
И опять засветилась тихой радостью. – Теперь в Коле праздники начнутся... – И спохватилась по-бабьи суматошно, скрылась в доме.
– Как это я не понял, что на благовест похоже, – сказал Смольков и обернулся к Андрею: – Смотреть пойдем?
– Пойдем, – согласился Андрей.
11
Взбудораженно просыпался город. Калитки хлопали, двери, лениво взлаивали собаки. Где-то потревоженно блеяли овцы и кудахтали куры. Улица наполнялась стуками, голосами. Бабы, старики, ребятишки здоровались на ходу, громко перебрасывались словами, спешили к крепости. Даже воздух, казалось Андрею, наполнился чувством людской общности, и это общее ликование поднимало в душе что-то необыкновенно радостное и прекрасное, как тогда, на верху горы.
Андрей и Смольков прошли крепостные ворота и стали на берегу, в сторонке, смотрели, как у причала шумно толпился народ. Многие одеты празднично, а кто в обносках. Событие волновало всех: одних ожиданием встречи с родными, других – возможностью поживиться. Над вараками раннее солнце лило свет на залив, а на нем белели паруса судна. Коляне выбегали из крепости, присоединялись к тем, кто пришел раньше, вглядывались.
– Кир! – неслось. – Кир идет! Герасимовых шхуна вернулась! Нашлись голубчики наши! – И торопились дальше, на мыс, где сливались Тулома и Кола, шли к причалу.
Казалось, коляне едины в радостном ожидании, и ничто их больше не разделяет – ни чины, ни богатство, ни старые обиды, и, словно со стороны, Андрей увидел, как они со Смольковым тоже нетерпеливо переминаются с ноги на ногу.
– Смотри, – толкнул Андрея Смольков.
Впереди, чуть ниже их, опираясь на трость, стоял старый Герасимов: прямой, сухой и широкий. В праздничной рясе к нему подошел священник, благословил его, поздравил с возвращением шхуны. Следом подходили богатые старики – поморы, ломали шапки, кланялись, заговаривали о Кире, посмеивались:
– Что, батюшка, теперь тебе хлопот будет – свадебки крутить? – И лукаво щурили глаза на солнце.
Тревожно смотрел на судно старый Герасимов. Жив ли сын и что приключилось с ним? Почему все это время не встречали его на Мурмане и в Архангельске? И беспокойно было на сердце. Вспомнилась своя полная риска молодость. Всю жизнь проработал на чужих судах, отказывал себе во всем, копил деньги на шхуну, но не хватило жизни, чтобы поплавать еще и на своем судне. Сын вот теперь...
Мимо пробегали коляне, здоровались – уважительно, как со старшей родней, и бежали дальше к причалу встречать родных и близких или что-то узнать о них. Широко раскинулись поморские селения по берегам северных морей, а не задерживались долго вести от сыновей и отцов, ушедших в плавание. Берегли поморы традиции дедов: передать домой весточку о сельчанах. Сидя в Коле, завсегда знал старый Герасимов, какие воды бороздит сын. И когда вдруг пропал Кир, то весь изболел душой: море обманчиво, беда всегда за кормой ходит. Беспокойные сны тревожили.
А шхуна светила белыми парусами, подходила все ближе. И уже на бортах можно было узнать колян-матросов, а на самом носу шхуны стоял его Кир.








