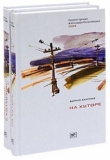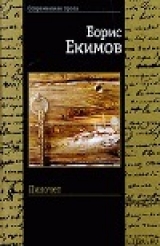
Текст книги "Пиночет"
Автор книги: Борис Екимов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
5
К отцовскому дому он прибился к вечеру, в колхозное правление так и не завернув, хотя знал, что его там ждали; загнал машину во двор и, не отпирая дом, сел на крыльце. Кончался день, долгий июньский день. На хуторе было тихо, а в отцовском дворе – и вовсе, даже кошка куда-то сбежала. Раньше были цветы. Теперь – пыльная лебеда, конопля. И в доме– пусто. Заходить туда неохота.
День кончился. Красное солнце садилось за деревьями. Редкие высокие облака, рассеянные по небу, загорались розовым. Корытину ни о чем не думалось, ничего не хотелось. Так бы сидел и сидел на теплых ступенях, словно подремывая. А когда прервется эта спокойная дрема, надо будет что-то решать окончательно.
Сюда, на хутор, Корытин приехал с твердым намерением исполнить волю отца. Эта воля – предсмертная. Тем более, что слово дал. Но если прежде просто-напросто не хотелось ему лезть в председательский колхозный хомут, это было естественно для человека взрослого и знающего, что творится в стране и здесь, рядом. Он и в добрые годы к председательству не стремился. Знал ему цену. А теперь – и вовсе: никому ничего не надо, никто ничего не знает, никто ни за что не отвечает. Сегодня – социализм, завтра – капитализм, послезавтра может, иное... А у него была спокойная работа, положение и даже наперед добрый загад: новая организация появлялась в областном центре, и Корытина туда звали, обещая хорошую квартиру, хорошую зарплату и кое-что сверх того. Все это бросить? Ради чего?.. Тем более, что, проехав нынче и поглядев, Корытин совершенно отчетливо понял, что даже отцовский колхоз, который считается крепким, лучшим в районе, даже он расползается как тришкин кафтан. И уже не залатаешь: нечем и не к чему лепить – все прелое, все само собой рвется. Была огромная система, называлась "колхозный строй". Снизу был фундамент, со всех сторон – крепкие связи, поддержки, подставки – словом, здание. Оно рухнуло. И как теперь в одной ли, в двух уцелевших комнатках жить? Бежать надо из этих комнат, пока цел.
Корытин это понимал и прежде – сколь об этом говорено-переговорено! – а теперь вовсе убедился. Все так и идет. Но как объяснить отцу? Не объяснишь. Один выход: сказать, что начальство против. Такое отец, может, и поймет. Мол, против – и все. И разговаривать не хотят. Начальственное слово, начальственную дурь отец всю жизнь на своей шкуре испытывал и цену этому знал.
"Против начальство...", "Иди им и докажи..." – повторял и повторял про себя Корытин. И чем более повторял, тем более убеждался: это – единственный выход. Отец должен поверить. Тогда не нужно будет бросать все налаженное и ехать сюда.
Так он сидел на ступенях отцовского дома, пока не окликнул его девичий голос:
– Крестный! Ты где хоронишься?!
Стукнула калитка. Корытин поднялся. К веранде шла его крестница, старшая дочь двоюродного брата Степана.
– Здравствуй, крестный. Мы тебя в обед ждали. Пошли ужинать. Ибаню натопили.
– Здравствуй, здравствуй... – заулыбался Корытин.
Все печальные мысли его разом пропали, и лишь одно думалось: "Как быстро растут, как скоро взрослеют чужие дети..." Еще вчера девочка-школьница, нынче крестница его обернулась зрелой красивой девушкой. Высокая, статная – это в отца! – с длинными светлыми волосами, схваченными лентой. Легкое летнее платье не скрывало в меру полных, женственных плеч и рук. Лицом крестница тоже была хороша: ясноглазая, белозубая.
– Баня – это здорово, – одобрил Корытин. – Пошли.
Путь был недалек: лишь два двора миновать.
– Крестный, мамка с папкой не велят. Ты им можешь сказать? Они тебя послушают... – быстро-быстро, взахлеб стала говорить девушка. – Скажи им, пожалуйста, ведь это же не позорно – работать манекенщицей. Какой это позор? По телевизору показывают. Это ведь такая профессия. Так ведь? А они всяких глупостей наслушались. Мамка кричит, а папка молчит. Уперлись – и все. Меня приглашают...
– Погоди, погоди... – Корытин повернулся к девушке: – Кто тебя приглашает? Куда?
– Было объявление по телевизору. Я послала фотографию, и меня пригласили. А мамка – ни в какую... А папка – молчит. А мамка кричит: не смей. Они не понимают, что есть такая профессия. Им все кажутся всякие глупости... Наслушались...
Корытин не сразу сообразил, о чем речь, настолько это было неожиданно. А поняв, он чуть отступил, пропуская вперед себя крестницу и оглядывая. Она была хороша: высокая, статная, с милым лицом, в молодой, цветущей поре. Но то, о чем она говорила, было и для Корытина неожиданным и диковатым.
– А кому ты фотографию посылала? Откуда вызов? Какой город?
– Я по адресу посылала. Я покажу тебе, крестный.
– Покажи. Я погляжу.
Они уже подошли ко двору.
– Только не давай мамке. А то она все порвет.
Перед домом, за решетчатым штакетным забором, яркий палисадник красовался цветочными грядами, клумбами: анютины глазки, крупные, в ладонь, ромашки, синие васильки, бархотки, кусты алых и кремовых роз. Сразу было видно: здесь невесты живут.
За палисадом – крепкие ворота.
– Не отдавай мамке. Ладно? Пусть у тебя будет.
Ворота распахнулись.
– Крестному еще голову забей! Здорово живешь, кум. С приездом тебя. Проходи, – приветствовала гостя хозяйка и тут же дочерью занялась:– Тебе сказано было: забудь! Голову сверну, как куренку! В погреб посажу, под замок, и не выпущу! Учат дураков, не научат. Артистки нашлись, модельницы! Одна намоделилась, не ныне завтра на кладбище понесут.
– Я вовсе не собираюсь за границу. Я – в наш город, в Ростов. Я буду работать!
– Замолчи! Овечка глупая... Зарабатывальщица... Сиди где сидишь!
– Правильно! Лучше сидеть! И драные чулки да колготки штопаные носить! Да чирики! Чтобы все смеялись...
Девушка заплакала и убежала в дом.
Во дворе сразу сделалось тихо.
Стоял у ворот Корытин, рядом – хозяйка, а две ее младшие дочери испуганно глядели на них.
– Растишь, растишь этих детушек... – горько проговорила мать. – На свою голову... Прости, кум, что так встречаем, – со вздохом обратилась она к Корытину. – А вы чего встали? – спросила она у дочерей. – Не знаете дела?..
– Погоди, – с улыбкой остановил ее Корытин. – Дай хоть поздороваюсь с ними да погляжу.
Девчушки были славные, тоже – в отца: рослые, светловолосые, с разницей в два ли, три года.
– Гостинца вам не привез, – извинился Корытин. – В машине – жарко, конфеты расплываются. Возьмите, купите чего надо. Поделите на троих, не подеретесь? шутливо спросил он, протягивая полусотку.
– Поделим, крестный! – радостно ответили девочки. – Мы купим...
– Покупайте чего хотите... – отмахнулся Корытин.
– Коз да корову не забудьте перевстренуть, покупальщики... – напомнила им мать.
– А Степан где? – спросил Корытин.
– Баню топит...
– Топлю... – подтвердил Степан.
Он стоял за воротцами база, все видел и все слышал.
– Стоит как столб! – возмутилась жена. – Молчит! Вроде он – сторонний. Тут замрачается ум, – пожаловалась она. – Про Кирееву дочку не слыхал, кум, бригадира нашего? Тоже вот такая, нотная. Я не я – буду зарабатывать. Все мыкалась за тряпками, за границу ездила. Возит, продает, снова едет. А потом ее чуть живую привезли. Да еще, спасибо, братья ездили, вызволяли. Какая девка была... цветок. Ныне – на смертной доске. Мать рядом с ней в дощеку высохла, во слезах...
– Ладно... – стал успокаивать ее Корытин. – Не забивай голову прежде поры. Я погляжу на бумаги, позвоню, разузнаю. Ты на нее не шуми, она – взрослая. Тоже про жизнь думает. Поспокойней надо.
– Какой тут покой, куманек. Ночи не сплю, стерегу. Вдруг убежит.
– Не убежит. Только не шуми. Сговоримся.
Крестницу он тоже успокоил, посидев возле нее недолго в доме. А потом ушел в баню, отмывал дневные пыль и пот, а когда вернулся во двор, там было тихо и мирно.
Солнце село. Небо, его высокие облака, догорали алым. Пахло жареной рыбой.
– Степан, – спросил Корытин, – ты когда ловил, где?
– Он наловит... – хмыкнула хозяйка и добавила горделиво: – Девки у меня на все руки.
– Рыбачат? – удивился Корытин.
– Еще как... До зари летят. И будить не надо.
Сели за ужин. Хозяева расспросили о старшем Корытине, повздыхали, поохали.
– Не ко времени слег, не ко времени... – сказал Степан.
– А то бывает болезнь ко времени, – фыркнула жена. – Доумился. Она тебя спрашивать будет, болезнь.
Так было всегда в этом доме: хозяин – мужик рослый, телом большой, в кабину трактора с трудом умещался, говорун не больно великий; зато хозяйка не помолчит, сыпет и сыпет. Как и ныне:
– Болезнь, она... С ней судиться не будешь. Тоже бегаем до поры, а годы... Там – колет, там – нудит. Некогда по врачам ездить, а то бы...
Корытин в охотку похрумкивал жареными карасиками, девок хвалил:
– Ну и рыбачки... Кормилицы. Чего отцу с матерью не жить!
– Только и надежа на карасиков, – вздохнула хозяйка. – В январе получили двести тысяч – и все. Как хочешь, так и живи. Лишь ведомости пишут в конторе. А чего там пишут, и когда мы эти деньги увидим...
– Обещают после уборки, – сказал Степан. – Мол, зерно продадим...
– Брешут! Не будет никакого зерна! – решительно ответила хозяйка.Разворуют, растянут, на нет сведут. Суслачины... В прошлом году та же песня была: зерно, подсолнушек продадим... А чего увидали?
– Сушь... – коротко оправдывался хозяин. – Да еще черепашка напала да жук-кузька.
– Этих кузек да черепашек, им – счету нет. Кузька... – желчно процедила супруга. – Как уборка зайдет, эти кузьки да черепашки со всего белого света летят. Машина на машине... Лишь отъезжать успевают. Кузьки... Все подберут. Нам лишь азадки оставят. Дуракам. Вот и живи карасиками.
Хозяйка всегда была говорливой, но нынче в словах ее прорывалась нешуточная боль. Перед гостем она сдержалась, стала потчевать:
– Кушай, кум, кушай. Помажь сметанкой карасиков. Девчата мои со сметанкой любят. Потому и гладкие, как репки.
Девчата лишь посмеивались. У них нынче был свой пир: пластмассовая бутыль фанты, какие-то сладости в ярких обертках. Успели сбегать купить. По возрасту разные, они были похожи статью, светлыми волосами – сразу видно, что одного гнезда.
– Девки что надо... – похвалил Корытин. – Тем более рыбачки.
Хозяйка улыбнулась: как матери не гордиться! Но потом, когда отужинали и сидели сумерничая, она сказала:
– Девчат своих не корю. Везде помогают. Но вот как их до ума довести. Ты успел своих выучить, – позавидовала она.
– Учится еще, – сказал Корытин о сыне.
– А наши вовсе лишь оперяются. Одну лишь учим. Ей суем и суем. Ито недовольная, – вспомнила мать слова старшей дочери о драных колготках. – Ну и что, если подштопано. Это разве позор? А тут еще двое! Вшколу не знаешь как собрать. Мамка, у всех – куртки! Мамка, у всех – костюмы! На какие шиши их брать? К свекрови бежишь на хлеб занимать. Стыду...
Корытин молчал, оглядывая просторный двор, сараи, базы. Хозяйка, словно поняв его, сказала:
– Конечно, джуреки не грызем. Две коровки. Но ведь и нас шестеро, со свекровью. Бычков держим, поросят, козы... Но все – лишь на прокорм, на базар нечего отвезть. Раньше пух был в цене, платки. Девчата мои вяжут как огнючки. Ныне – хоть даром отдавай. Не берут. А где копеечку взять?.. Кормиться мы кормимся. Огород хороший. Картошки, капусты, закруток на весь год хватает. Но без копеечки тоже нельзя. Сами пообносились... Двести тысяч в январе дали. И все. Лишь ходит на работу, обувку рвет. Добрые люди...
– Ну, хватит... – остановил речи своей хозяйки Степан. – Иди...
– Вот и хватит. – Она будто послушалась его, поднялась и пошла, но напоследок бросила: – Люди цветут, а мы...
– Замолчи! – прикрикнул Степан неожиданно резко.
Его услышали дочери, смолкли. К ним и ушла хозяйка, принялась им что-то вычитывать. А хозяин, словно лишний пар спустив, сказал задумчиво:
– Туда-сюда кидаешь умом. И везде, парень, – решка.
– Вы перед другими еще козыри, – возразил ему Корытин. – Другие колхозы разве сравнить? У них все порезано, коровьего мыка нет, стены доламывают.
– И мы того не минуем, – твердо ответил Степан. – Вот-вот зашумим: спасайся кто как может. Мы вниз летим, но пока за ветки цепляем штанами да рубахами, а ветки кончатся – тогда ой как загудим.
Он помолчал, а потом неожиданно улыбнулся, вспомнил:
– Мы когда переехали сюда из Кумылги, прямо не верили: чудо какое-то. Каждую неделю – выходные. В клубе – концерт, артисты приехали. А хочешь, в город поезжай, в цирк, на своем автобусе. И все – бесплатно. На стадионе соревнования, тренировки. Я в городки играл. По области всех побивали.
Он сидел большой, чубатый, ручищи – могучие, для таких городошная бита игрушка. Корытин помнил, как одним ударом сбивал Степан фигуры. Ахнет – и смел. Ахнет – и новую ставь.
И вдруг этот богатырь пожаловался негромко, оглядываясь на жену:
– Ну, не могу я воровать. Понимаешь, не могу.
Но жена услышала:
– Надо у людей учиться, а не слезы точить. Техника – в руках. Люди при технике...
– Замолчи! – крикнул Степан и снова стал говорить Корытину, жалуясь, негромко: – Ну, не могу. Не привык. Мне стыдно. Я сроду колхозного пальцем не тронул. Я работал. Я этого зерна по двадцать, по тридцать тонн зарабатывал. Девать было некуда. И деньгами хорошо зарабатывал. Каждый месяц получал, потом – премии: за уборку, по результатам года, тринадцатая зарплата. Мы раньше даже свиней не держали. Надо, осенью покупаем тушу. На курорты ездили, по путевке. В Германии были, в Польше, в Болгарии, на Золотых Песках, в Прибалтике. Я работал и зарабатывал. Зачем мне воровать? И я не привык. У меня и батя всегда говорил: работать надо. Я с ним с тринадцати лет. В тринадцать лет, в первую уборку, больше трех тонн заработал. Ну зачем мне было воровать? И поэтому я не могу. Мне кажется, что все видят, глядят. Мне стыдно... Ты веришь, братушка, мне стыдно... И красть стыдно. И стыдно, что семью не могу обработать. Вот и кидай умом. И везде получается – решка. Другая жизнь пошла. К ней не применишься. Сломался трактор, идешь к механику, шестерню ли, подшипник какой, и ответ один: "Сам ищи". Где искать, кто мне где положил? Весь чермет, все свалки десять раз перебрали. А он свое: "Ищи! – И весь сказ. – Тебе работать, значит, ищи. Покупай. Денег нет? Значит, станови трактор, иди домой". Вот и все разговоры.
Корытину все дела колхозные, все беды были известны. Но думалось прежде, что колхоз отцовский все же покрепче. Он и был крепче: земля обработана, скотина – живая. Но что проку...
– Ты лучше кума поспрошай, может, у них кому машину нужно. Все же район... – сказала хозяйка.
– Чего? – не поверил Корытин. – Машину продаете?
– Приходится, – нехотя отозвался Степан.
– Ты чего?.. Это какую за уборку получил? Награда?
– Она самая. Конечно, жалко. Но обойдемся мотоциклом.
– Награды... За наградами тоже приезжали. Продай да продай, – сказала хозяйка.
– Ордена?
– Да. Приезжают. Чужие спрашивали. И свои – сынки Вахины. Ведь узнали. Два ордена Ленина, говорят, и этот... Революции. Это большой какой. А откуда узнали? Кто им доложил?
– А чего узнавать, – объяснила одна из дочерей. – В школе папкина фотография, большая. Там он со всеми наградами.
– Ну вот! Весь белый свет знает. Залезут и упрут. Может, и вправду лучше продать? По сколько они обещали?
– За Ленина пятьсот, за Октябрьскую революцию тоже пятьсот тысяч.
– Негусто, – усмехнулся Корытин. – А за медали и вовсе...
– Те вовсе негожи. А их чуть не десяток.
– Семь, – подсказала одна из дочек. – А почетных грамот и дипломов шестьдесят три и у мамки – двенадцать.
– Вот бы чем торгануть, – засмеялся хозяин.
А Корытин спросил его:
– Может, тебе землю взять? Три, даже четыре пая у тебя. Поздновато, конечно...
– Не хочу и думать об этом, – решительно отказался Степан. – Чем ее ковырять, эту землю? На гранях отведут, за тридцать верст. Один тракторишко если и выделят, то – утиль. А семена, горючее, удобрения? Где брать? На какие шиши покупать? Это – одни слезы... Кто попервах выходил, те еще дышат, но тоже через раз. А у нас в колхозе, сам знаешь, неплохо жили и никто в эти фермеры не стремился. Работайте, твой батя говорил, – и все будет. И не суйте нос... Оно и верно, кум. Тот же банк. Скакой стороны к нему подходить? Там бумаги, там надо расписываться за все. Обдурят. А продавать зерно? Какие из нас купцы? Облапошат. Нет, не с нашим умом. В колхозе выросли, с колхозом и помирать.
Хозяйка издали, через двор, но разговор услышала и попросила, тревожась:
– Не надо, кум, его туда пихать. Последней хаты лишимся. Да-да... Отымут. Были такие случаи. Отведут глаза, подпись поставишь, а потом милиция все забирает, вплоть до хаты. Это – истинная правда, кум. Нашего брата всяк норовит обмануть. Уж лучше по-старому, в колхозе. Тебя– в председатели, заместо отца.
– Это кто придумал? – спросил Корытин.
– Идут поголоски... – пожал плечами Степан. – Всякое говорят. Может, возьмешься? Берись, – попросил он. – Ты все же при власти и в силе, голова варит. Иначе нам точно решка. Без хозяина – вовсе конец. Поставят абы кого... Вон в Грачах. Поставили бабу – и за ночь разнесли мастерскую. Все дочиста. Вплоть до ворот.
– Сами же разнесли, – сказал Корытин.
– А то кто же, сами... – подтвердил Степан.
– И правильно сделали, – постановила хозяйка. – Хоть чем да поджились. Иначе бы председательше в карман утекло. Она всю скотину за месяц на север отправила. Дуракам глузды забила: там – цены, там – цены... И ни скотины, ни цен никто не увидал. Зато сынок ее в городе магазин открыл. Вот и радуйтесь... Всяк норовит обдурить. Такое время.
Корытин стал прощаться. Уже стемнело. Проводили его до ворот.
– Может, и правда, кум, – попросила хозяйка. – Как мы хорошо жили при твоем бате! Может, и ты возьмешься?..
Что мог Корытин ответить, что обещать?
Проводили гостя за ворота. Вечер еще не принес прохлады. Веяло теплом, ароматом цветов, которые росли в палисаднике.
– Цветы у вас красивые, – похвалил Корытин. – Молодцы, девчата.
Он постоял возле палисадника. Время было позднее. Но еще не погас в мире летний призрачный свет. И без огня виделась улица, дома.
Хозяйка подала узелок.
– Тут – рыба, сметана, пышечка. Позавтракаешь.
А младшая из ее дочек успела нарвать букет цветов.
– Возьми, крестный, – сказала она. – У тебя же нет, а у нас – много. А хочешь, мы и тебе цветов насадим. Они еще успеют, вырастут.
– Спасибо, мои хорошие. Рук не хватит донесть ваши подарки.
– Мы поможем! – ответили ему хором.
Помогли. Проводили все трое. И пока шли, старшая говорила и говорила:
– Крестный... Мамка сама жалуется: нет денег, спасибо, бабушка пенсию получает, ее обираем, папку ругает каждый день... Но их ведь и не будет в колхозе, денег. А жить надо. Ну, кончу я техникум, получу диплом. А куда с ним идти? А манекенщица – это специальность. У нас в городе есть дом моделей. Может, у меня получится. Жить-то надо.
Она говорила и говорила до самого дома, пока Корытин не зажег на веранде свет и не сказал:
– Спасибо, что довели до места, – и добавил, для старшей: – Я постараюсь все узнать как можно скорее. И тогда мы с тобой поговорим.
6
Когда Корытин остался один, первое, что он сделал, – поставил цветы в воду. Нашел стеклянную банку, набрал воды и поставил букет посреди веранды, на стол. Даже в электрическом свете хорошо было глядеть на яркую пестрядь голубого, зеленого, алого, желтого. Садовые ромашки, васильки, лилии...
Корытин глядел на цветы и видел свою крестницу, милое лицо ее. Как объяснишь, что приглашают, что зовут ее не к доброму? В Греции ли публичный дом, в Турции или в Германии – вот и весь выбор.
На свет, а может, на цветочный дух на веранду стали слетаться ночные мотыльки да бабочки, кружась возле абажура и освещенного букета. И тут же объявился гость – старый агроном Петрович, такой же, каким был всегда: сухонький, шустрый, вприскочку ходил ли, бегал в заломленной кепочке. Как воробей он всегда наскакивал, сухим перстом грозил провинившемуся трактористу: "Ты – неграмотный, да?! Глубина заделки?.. Кто такой – глубина заделки? Ты не понимаешь?!" Или дома, собственную жену вразумлял: "Горячие должны быть щи! Горячие! Потому что это – щи! Ане больничный супчик!"
– Чего глаз не кажешь?! – с ходу попенял он. – Ждешь приглашения?
– Лишь к базу прибился... – оправдался Корытин. – Хату открываю.
– Нечего ее и открывать! Какой прок! Там – ни выпить, ни закусить. Одни дохлые мухи. Пошли!
Отнекиваться или возражать было бесполезно. Петрович уже развернулся и заспешил со двора, твердо зная, что его слово – закон.
А в доме своем, еще со ступеней веранды, он крикнул:
– Бабы! – и объяснил Корытину: – Телевизор. Опиум для народа. Не религия, а именно телевизор, – подчеркнул Петрович. – Вечернюю дойку коров в колхозах сдвигают, потому что доярки хотят смотреть "Просто Марию". Ты понял?
Сели на веранде, у стола, который тут же стал обрастать едой и закусками. Накрывали стол двое: жена Петровича и молодая темноглазая женщина, которую Корытин признать не мог.
– Не угадываешь? – спросил Петрович, перехватывая взгляд гостя. Володькина дочка, Таня.
Корытин лишь руками развел. Володю он еще помнил, а уж дочку его...
Когда, по мнению Петровича, стол стал глядеться пристойно, он скомандовал бабам: "Все! Исчезли!" Сам же заспешил к своим ухоронам за питием. Пока он ходил, жена Петровича спросила о старом Корытине, поохала. Хозяин и без расспросов все знал. Первую рюмку он поднял, сказав: "Помоги ему бог". И больше об этом речей не было.
– Как? – спросил Петрович, опорожняя рюмку и глядя на гостя, который, зная обряд, понюхал питье, пригубил, почмокал, а уж потом выпил.
– Марка... – одобрил Корытин. – Фирма.
– Но ты не знаешь. Настаивать нужно лишь неделю. Не больше. И сразу отцедить. Иначе весь букет пропадет, останется горечь.
Водку Петрович делал сам. Двойная перегонка, тройная очистка, потом коренья да травы. На пенсию он ушел давно. Время позволяло и свою водку делать, и заниматься хозяйством.
Все было на столе: провесной балычок и копченая утятина, мясо, вареники, блины с каймаком.
– Листовка! – объявлял Петрович и наполнял рюмки прозрачной, с прозеленью настойкой, которая пахла смородиновым листом. – Огурчиком ее закусим. С хрустом!
– Хреновка!
Эта настойка была вовсе светлой, но дышала остротой только что натертого хрена.
– Ты чего приехал? – теряя вдруг пыл, скучно спросил Петрович. – Батя послал? Точно? Илью Муромца... Лети, мол, спасай. Уборка! Зимовка! Без догляду! – Он пригибался над столом, заглядывая в глаза Корытину. Тот молчал, потому что знал: Петровичу ответ пока не нужен. Не выговорился. – Послал... Чую... Сам уже не может шашкой махать, значит, молодого – в атаку.
Петрович замолчал и сказал с печалью, но твердо:
– Уезжай, родный. Не ломай себе жизнь. Сила пришла, какую шашкой не возьмешь. С ней и пушкой не сладишь. Гаубицей.
– С кем? – спросил Корытин.
– Антанта! – воздел сухой перст Петрович. – Новая Антанта, я ее так зову. Мировая мощь. И с большим умом. Старая была дураковатей. "Навалимся... гужом... задавим..." А с Россией так нельзя, силой. Это пробовали не раз. Дубиной, но отмахаемся. Живота не пожалеем, но отстоим. Новая Антанта все учла. Весь опыт. Поставила задачу: взломать изнутри. Зачем идти войной, губить территорию, рабочую силу. ЦРУ работало. Внедрить. Подкупить сто человек, самую верхушку. Их руками все сделать. Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев... Все продумано, все расписано, лишь исполняй. И все исполнено: Союз развалили. Первый этап. Начали второй, по сценарию. С новыми людьми: Ельцин, Гайдар, Чубайс... Эти – для России. Чтобы ее доконать. Умные люди. Все по сценарию. Для каждой страны свой план. Для Германии – план Маршалла. Для Японии – план Макартура, для Советского Союза, для России авторы пока в секрете. Но все выполняется точно и в срок. А ты приехал, Илья Муромец... Испугались они тебя, аж трясутся... ЦРУ! Точная работа. Каждый объект на учете. Мы раньше, после войны, удивлялись немецким картам. Там каждый хутор, вплоть до дома, обозначен. Каждый полевой стан. И даже – отдельное дерево. У ЦРУ – то же самое. Все в плане учтено. Развал должен быть окончательный. Каждый колхоз, каждая молочно-товарная ферма должны быть уничтожены до фундамента. Каждая кошара!..
Корытин за эти годы наслушался и начитался всякого, ничему не удивляясь. Это раньше втихую поругивали власть. А нынче – свобода. С утра до ночи шуми. Работа ли, совещание, новый человек или старый друг– об одном речь, потому что боль одна. Хотя понять происходящее ума не хватало. Один хорошо говорит – ему веришь, другой – еще лучше. И врут не краснея, хоть плюй в глаза. Голова кругом идет.
– Ограду на фермах, на гумне ЦРУ повалило? – спросил Корытин. – Трубу, посреди хутора лежала, они уперли?
– Конечно! – подтвердил Петрович. – Все – по плану. Вон они, сидят... кивнул он. – У телевизора. Что старый, что малый, не оторвешь. Три программы. На всех – одно и то же: украл завод, украл город, убил, зарезал, украл. Один три миллиарда упер, другой поотстал, лишь два с половиной. А вчера – все ровные, при семидесяти рублях. И они – не воры. Ни в коем случае! Приватизаторы! Умнейшие люди! Профессора, академики... А какие вовсе бандюги с обрезом, это – наше будущее. Они награбили и стали – цветки лазоревые, почетные граждане. Вот так нас и убедили. И все теперь знают: воруй все подряд, что под рукой. Газпром – значит, Газпром. Норильск плохо лежит. Его прикармань. Далеко до Норильска? И ума не хватает? Значит, хватай поросенка с фермы. И говори, что приватизация, третий этап. Воруй как можно больше. Потому что за портянку с забора участковый может сграбастать. А за миллион побоится, за два – честь отдаст. Это уже все знают, убедились. Либо не так?! вскинулся он, ожидая ответа.
Что мог ему Корытин сказать?.. Спорить давно уже не хотелось. Что проку от пустых споров?.. Тем более с людьми старыми. Их жалеть надо. И потому он лишь улыбнулся, головой покивал, соглашаясь.
И Петрович тоже выдохнул, словно выпуская пар. Выдохнул, наполнил рюмки и, подняв свою, держал ее в сухой, но крепкой руке, разглядывая на свет питие.
Но говорил о том же, спокойно и с горечью:
– Да, много дураковали партийные власти. Командовали кому не лень, умничали. Все о Никите да о кукурузе галдят. А кукуруза – в помощь. Без нее бы скотины не было. Спасибо Никите. А дурости было много, всякой. Но помаленьку в гору шли. А в последние годы и вовсе. Какие фермы построили для скотины, какие мастерские, полевые станы, кошары... Зачем все это разламывать? В "Комсомольце" комплекс по переработке овцы, ты знаешь, за валюту купили. Полная переработка. Загоняешь овцу, на выходе – мясные консервы, костная мука, дубленка. Все растащили, за гроши распродали... В "Пролетарии" холодильник на двадцать пять тонн разбили, медяшки выдирали на металлолом. Лабораторию разгрохали – спирт искали. Все разбить, разгромить, скотину вырезать, поля вконец испоганить... Нет! – убежденно сказал он. – И в Америке, в этом ЦРУ, тоже дураков хватает. Зачем громить? А потом начинать с землянки, по кирпичику снова собирать. Тут они недодумали, перестарались.
– Может, на нас понадеялись? – спросил Корытин. – Что мы сами сообразим.
– На нас какая надежда? Дураки в третьем поколении. Точно! На это и обижаться не надо, это же – белый день. Революция. Красные, белые. Кто белый? Кто покрепче, побогаче, кто побольше трудился. Их посекли или за море выпихнули. Остались: Петя-Галушка, я помню его, избачка Гугниха и Мотя партейный глаз. Они – главные. Потом – коллективизация. Опять сливки сняли: Mужиков, Акимов, Секретёв, Челядин, братья Сонины – самые работяги, все оперенные, у Сониных даже трактор был. Всех – в Сибирь. Последние, кто чуток с головой да с руками, после войны ушли да когда паспорта дали. Остались азадки: глупой да пьяный. Какой спрос... Скажут: "Паси!" – пасу, скажут: "Паши!" пашу. Слухай бригадира да преда и живи, горя не знай.
Петрович замолчал, видно вылив самое горькое. Он помолчал, а потом спросил, поднимая на Корытина по-детски недоуменный взгляд:
– Неужели там, наверху, не поймут, что губят крестьянство – значит, губят Россию? Чужой горбушкой сыт не будешь. Должны ведь понять и повернуть...
– Ничего не вернешь, – тысячу раз обдуманное повторил Корытин.– Ни царя-батюшку, ни прошлую нашу жизнь. Что с возу упало, тому – конец. Это главное, что надо понять. А другое...
– Не может того быть!! – взорвался Петрович. – Скинут их всех! Придет человек! Хозяин придет!
Вышла из дома хозяйка, не в пример Петровичу баба спокойная. Она оглядела стол: всего ли хватает? А потом уселась рядом с супругом своим и голосом густым, низким, легко перекрывая мужа, сказала:
– Бывало, сберутся добрые люди, выпьют по чарке, песняка играют. А ныне лишь пенятся, как в телевизоре: Ельцин... Гайдар... Чубайс... Татьяна! позвала она внучку. – Иди на выручку! Такой у нас гость, дорогой, желанный. А дед его своими баснями кормит. Гитару неси. Он – мастер, я помню... засмеялась она добрым воспоминаниям.
Молодая женщина вышла на веранду.
– К нам приехал, к нам приехал... – улыбаясь, пропела она, а потом подошла к гостю, села рядом.
Улыбкой нежною, гитарой семиструнною,
Глазами серыми пленил ты душу мне.
Когда мы встретились...
Теплая волна колыхнулась и поднялась в душе Корытина. Гитара, голос молодой женщины, улыбка ее, тихий вечер, покой, старый Петрович– все было так близко сердцу, так мило.
Когда мы встретились с тобой
в ту ночку лунную,
Сирень шептала нам в ту пору о весне...
Гитара плакала...
Нет, гитара вовсе не плакала, даже в песнях печальных. Не успевая остыть, она переходила из рук Татьяны к Корытину и обратно. Пели порознь и вместе: жена Петровича и молодая женщина, ее внучка, Корытин, даже старый Петрович шевелил губами:
Ночь светла. Над рекой
Тихо светит луна...
Милый друг, нежный друг,
Помни ты обо мне...
А потом был чай. Молодая женщина, перебирая струны, напевала негромко Корытину незнакомое:
Серый денек,
Белый летит снежок.
Сердце мое...
Сердце мое...
повторила она и смолкла, глядя на деда:
– Тебе плохо?..
Петровичу было и вправду нехорошо. Его увели в дом, уложили, дали лекарство.
А гостя провожали до ворот и на улицу. Говорила о Петровиче супруга его, жалуясь:
– Так близко все к сердцу берет. С телевизором с этим, пропади он... А из дома уйдет – еще хуже. В контору ли, в магазин... Там – новости. А доброго ничего. Придет, расстроится, таблетки глотает. Все тебя ждал...
– Меня?.. – удивился Корытин.
– Вас! Так ждал! – горячо подтвердила Татьяна высоким певучим голосом. Он приедет, говорит, наведет порядок. И многие так говорят на хуторе: вот приедет...
Корытин же о дневном, о колхозном, будто вовсе забыл. Иное было в душе: теплый вечер, молодая женщина, певучий голос ее, сердечная доброта. Давно уж такого не было. "Серый денек..." – вспомнил он и пропел, промурлыкал негромко: