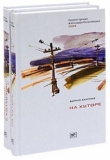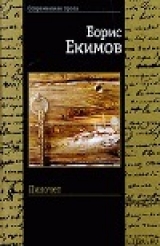
Текст книги "Пиночет"
Автор книги: Борис Екимов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
9
В зимнюю пору недолгие дни летят быстро. Тем более – в гостях. Будто вчера Катерина приехала, а уж пора собираться.
В один из последних дней она решила пройтись по хутору, встретить, а может, и заглянуть к кому-то из старых подруг. Еще день-другой – и дальше надо катить, и когда придется снова приехать, и придется ли, при нынешних временах, об этом знает лишь бог.
Стоял солнечный, с легким морозцем день. Искрился радужными переливами свежий снежок на крышах домов, сараев, на пригорках. Детвора гомонила на воле, радуясь каникулам.
Катерина, женщина уже немолодая, мать троих детей, выйдя на улицу, почуяла себя чуть не девчонкой. Она и гляделась неплохо: хорошо пошитое пальто облегало полную фигуру, высокие сапожки ладно сидели на ноге. Песцовый воротник, песцовая шапка... В пушистом обрамленье лицо Катерины, гладкое и ухоженное, словно помолодело, разрумянившись на морозе.
И показалось вдруг Катерине, что за плечами у нее не годы и годы, не трое уже взрослых детей, а что она снова молода и, приехав на институтские каникулы, летит повидаться с кем-нибудь из подружек.
Ее не узнавали. Одну давнюю знакомую встретила, потом – другую. Казались они много старше. А глядя на Катерину, завидуя ей, ровесницы охали да ахали, еще более поднимая настроение.
Толокся народ у магазина. Катерина шла мимо, направляясь к школе. Конечно, сейчас – каникулы. Но кто-то в школу приходит, и можно встретить старых педагогов, подруг, в школе работающих. В магазине ей делать было нечего, но завернула туда из любопытства. Как и везде, главный торг шел возле магазинных стен. Две машины, на капотах разложен товар, веревки протянуты с цветным тряпьем. Тут же притулились железные киоски, за их стеклами пестрят яркие обертки да наклейки. Все как везде.
Катерину заметили, глядели на нее. Женщина фигуристая да еще – при мехах. Это в Сибири песцами не удивишь, а здесь – редкость.
Она поздоровалась и уже проходила мимо, да вдруг увидела старинную свою подругу: когда-то с ней в школе учились. Она бы ее не признала вовсе, но, постарев и подурнев, подруга стала похожа на мать свою, покойную тетку Варю. И если бы Катерина не знала, что тетка Варя умерла, она бы ее и окликнула. Но то была уже не мать, а дочь. Катерина подошла к ней, поздоровалась и, не сумев сдержаться, сказала:
– Господи... Как ты изменилась... Все мы изменились, – мягко добавила она, жалея подругу.
– Изменишься, – резко ответила та. – Братушка твой поедом ест. Загрызает... Тут изменишься. В гроб вгоняет.
– Как? – не поняла Катерина. – Почему?..
И женщина вдруг закричала:
– Потому, что зверюка он, не человек! Пиночетина! Всех готов загрызть! – И без того заветренное, морщеное лицо женщины потемнело, сузились глаза. Она с ненавистью глядела на Катерину, которая была виновата не только родством с вражиной Корытиным, но всем своим видом: сытым лицом, мехами, сладким запахом парфюмерии. Тоже чью-нибудь кровь пьет, порода одна. – Ненавистные... процедила женщина. – Но бог накажет... – не договорив, опомнившись, она резко повернулась и зашагала прочь.
А Катерина растерянно оглядела тех немногих людей, что стояли у торга. Ничем ответить она не могла, да и не смогла бы, потому что душили подступившие от обиды слезы. Она повернулась и быстро-быстро, почти бегом, пошла от магазина, напрочь забыв, куда и зачем собиралась. Она спешила по улице и чуяла, что вослед ей глядят, и казалось, вот-вот раздастся еще что-то обидное и больное.
Скорей, скорей унести бы ноги...
Не помня себя, она добежала до дома. И лишь за порогом, дверь прикрыв, вздохнула облегченно.
– Чего так скоро? – спросила из кухни невестка и, не дождавшись ответа, вышла в прихожую. – Чего?..
Катерина сидела одетая, как вошла: лицо закрыто руками.
– Что с тобой? Что случилось?..
Волей-неволей, а пришлось рассказать.
– Господи... – заохала невестка. – Нашей кровушки мало попили, так на тебя кидаются. Ни стыда, ни совести... А ты не бери к сердцу... Народ ныне извадился. Совести нет, а дури – конем не наедешь...
Она помогла раздеться; на кухне чайник поставили. Катерина вроде отошла, со вздохом попеняла:
– Надо братушке как-то помягче быть. Все же люди...
– А мы – не люди? – горько спросила невестка. – И капканы на него ставили. И машину подломали, вверх торманом в балку летел. Спасибо, бог спас. И поджигали...
– Вас?
– А кого еще?.. Спасибо, сосед углядел под утро, так загорелось...
– Господи... За что?
– Есть за что. Заворовались да запились. Тянули все подряд. А он обрезал. Да по рукам... А кое-кого... – Не больно разговорчива была невестка. – Ладно. Давай чаю попьем... – сказала она.
Чаевничали на кухне. За чаем понемногу и мысли, и речи потекли иные: о нынешней славной зиме, о доброй памяти прошлых зим, совсем давних, из детства да юности.
Но нынешний день еще не кончился. И он готовил для женщин новый подарок.
Телефон в доме Корытиных звонил лишь по вечерам. Днем обычно молчал. Знали, что хозяин дома не сидит. А тут вдруг позвонили, попросив Катерину. Хозяйка удивилась:
– Тебя... – и добавила в сторону от трубки: – Видно, подруги прослышали.
Удивилась и Катерина, трубку взяла:
– Слушаю...
– Вы по профессии – врач? Правильно?
– Да. А что случилось? Помочь надо?
– Надо. И причем срочно.
– Кому помочь? Где?
– Брату своему помогите.
– Что с ним?! – крикнула Катерина. – Где он?
– В конторе. С ума сошел.
– Не пойму...
– И мы – тоже. Но вы – врач. Идите, пока не поздно. Он там портреты членов Политбюро продает. Его вот-вот скрутят и в дурдом увезут.
Голос в телефонной трубке смолк. Катерина, растерянно поглядев на невестку, не знала, что сказать. Но и молчать не могла.
– Что-то случилось... – вымолвила она. – Пошли.
Все было будто во сне. Какие-то лекарства схватила. Хотя неизвестно, что брать. Набросила пуховый платок и помчалась. Невестка за ней бежала, повторяя: "Что случилось?.. Что случилось?.." То рядом, то обгоняя женщин мчался, повизгивая, торопя, словно чуял недоброе, рыжий кобель Тришка. Хорошо, что колхозное правление недалеко. Добежали. Запыхавшись, поднимались по лестнице. Все было тихо и спокойно в конторском коридоре. Слишком тихо. У Катерины сердце оборвалось: "Опоздали..." Сразбегу ударившись в дверь кабинета, она распахнула ее. Корытин сидел за своим столом; рядом – люди.
Женщины ввалились в кабинет и встали.
– Что случилось? – поднялся Корытин. – Алена, Михаил, Танюшка?.. перебирал он имена близких, дорогих людей.
– С тобой что? – спросила Катерина и, не дожидаясь ответа, заплакала, уронив из рук сумку с лекарствами.
Вернулись домой на машине. Женщины пили валерьянку. Корытин добрую стопку водки опрокинул. У Катерины вначале и слов не было. Она лишь глядела на брата так, что он чуял этот взгляд и спрашивал:
– Ну что? Ну давай я пойду ей морду набью? А что еще я могу сделать? Моя уж ко всему привыкла, – кивал он на жену. – А тебе внове.
– Уж ты бы как-нибудь с ними помягче. Меньше бы ругался. И отдал бы трактор. Ведь себе дороже.
Корытин лишь вздыхал. Женские, бабьи резоны. Как им ответишь? Чем возразишь? Даже толком рассказать не получится. Как расскажешь про эту жизнь, в какой он варится? Со стороны, может, и просто.
Он ведь сегодня и не ругался. Он объяснял. Обычный день, обычный разговор. Правда, потом привычная ругня пошла. Грозились властям жаловаться: в область, в район, в газеты – чтобы все знали. Ведь об этом в кабинете был крик: "Ты вовсе с ума сошел! Я всем властям позвоню и во все газеты! На тебя пальцем будут указывать! Тебя в дурдом заберут!"
А начинали разговор нормально. И люди были не с улицы, а свои, всем известные Моргуны. Сам Моргун – старинный механизатор, с малых лет – на технике; жена до недавних пор на молочной ферме трудилась; дети – тоже в колхозе. Моргуниху при нынешнем председателе с фермы убрали, дома сидела. А ныне решили Моргуны из колхоза уйти. "Пока не поздно... – объясняла всем мудрая Моргуниха. – Пока не растабанили все... Пока..."
Что ж... нынче вольному воля. Хотя Корытину это было не по нутру. Во-первых, знал он, что когда рядом колхозное и свое, то колхозному это не в пользу. Утекает горючее, всякие железяки от трактора да комбайна вдруг исчезают, зерно не туда идет. Тем более Моргуны – хозяева, у каких все к рукам липнет.
А еще не нравились разговоры. Лишь собирались Моргуны заявление подавать на выход, а уже вся округа до точности знала, какие богатства они из колхоза заберут. Потому что "положено". Трактор заберут новый, грузовик, сеялки-веялки да еще скотины чуть не десять голов. Потому что "имеют право", "по закону". А еще потому, что первым, кто рано встает, тем бог и государство – в помощь. "Пока не растабанили колхоз... Пока есть что делить... – Моргуниха везде и всем это не таясь объясняла. – Акто спит, тем азадки..."
Моргуниха молола языком, за ней повторяли. Кое у кого слюнки течь начинали. И, конечно, мысли: "Не опоздать к дележу..." В соседнем районе по суду получил из своего колхоза бывший главный инженер зарплату за год и пай неплохие деньги. Через неделю в суде лежало триста заявлений. Через месяц колхоза не было. Не успели опомниться, все тракторы, автомобили, комбайны проданы на сторону с аукциона. Как всегда, потом поумнели: "Возвернуть надо! Абманаты! Жалиться надо!"
Об этом Корытин помнил, своих "выходцев" поджидая.
И те пришли наконец. Моргун, как всегда молчаком, вошел в кабинет, разом споткнулся да так и остался стоять у порога, лишь слушал, покряхтывая да потея. Зато супруга его ступала, словно гоголушка, горделиво. Кожаное пальто да высокие сапоги с бляхами, норковая шапка, и губы накрашены. Не кто-нибудь, а сама Моргуниха.
Людный председательский кабинет ее не смутил.
– Здорово живете! – громко молвила она и процокала каблуками к столу. Примите заявление. Выделяйте землю, имущественный пай на всю семью. Слава богу, тридцать с лишним годков отработала, а он – поболе, да сын, да дочь. Мы все посчитали, слава богу, грамотные. Выделяйте два трактора, ДТ и колесный, комбайн, прицепные, а еще коров возьмем. И не тяните, число там указано, согласно указу – в течение месяца. Иначе мы прямиком к прокурору. Ныне, знаете сами, не дадут в обиду.
Народ, какой был в кабинете, примолк.
– Все выделим, и раньше месяца. Чего тянуть, – успокоил Моргуниху Корытин и пригласил: – Садись. Зовите бухгалтера и народ, какой там есть, зовите. У нас – не диктатура, а колхоз. Сейчас и решим сообща. Зовите всех. Кто там есть в кабинетах, в коридоре. Всех – сюда.
Моргуниха уселась, несколько удивленная, но показывая всем видом: ну, сядем... ну, послушаем... мы – не трусова десятка...
Собрали чуть не полный кабинет: конторские люди, две доярки с фермы, правленческие шофера, ко случаю поспевшие пенсионеры.
– Вот он – народ, – бодро начал Корытин. – Коллективный хозяин. Что он решит, так и будет. А мы лишь подпишем. Кроватей сколько возьмете? Бери десяток.
– Какие кровати? – опешила Моргуниха.
– Богатые. Полуторки, с сетками, никелированные грядушки... – нахваливал Корытин. – Шик-блеск! Новые! Для детского лагеря закупали.
– Зачем мне кровати?
– Как зачем?.. Семья большая, да еще прибавка будет. В семье кровати всегда сгодятся. А можно продать.
Народ слушал не больно понимая.
– Ты чего изгаляешься? Ты еще горшки ночные детсадовские мне навяжи.
– Горшки у нас на складе числятся? – с ходу спросил Корытин у бухгалтера.
Тот плечами пожал.
– Горшков нет, – отказал Корытин. – Только что провели полную инвентаризацию. Кроватей – двести. Еще есть три комплекта портретов членов Политбюро. В рамах! – нахваливал он. – Масляная краска! С орденами!
– Какого Политбюро?
– Память у тебя короткая. Политбюро ЦК КПСС. Вместе ведь в партии были.
– Их тоже мне?
– Возьми хоть пяток.
– Ты пьяный или с ума сошел?! – не выдержала Моргуниха.
– Сердишься?.. – понял Корытин. – А зря. Ты, конечно, умная. Хвалю. Выходите из колхоза, берете все нужное: гожий трактор, комбайн, хороших коров. А что нам оставляете? Вот ему? Наш колхозный нажиток – это и коровы, и кровати, и тракторы, и стулья. А ты хочешь как в сказке делиться: себе корешки – репку, а нам, медведям, – одни листья. Митрич?– спросил он у своего шофера. – Ты согласен отдать трактор, а на свою долю оставить кровати? Ты не хмыкай, ты прямо скажи.
Митрич, немолодой мужик, не сказал, а показал Моргунихе очень выразительно.
– А кто хочет кровати, портреты, клубные стулья, трибуну для выступлений? Кто? Отвечайте? – обвел Корытин взглядом кабинет. – Сегодня у нас – колхоз. Завтра – неизвестно что. Если ты трактора заберешь, нам одни портреты и останутся. И всякая рухлядь. Разве это справедливо? Давай делиться по-честному. Тем более, – возвысил Корытин голос, – вы на свободу уходите. Кормить будете лишь себя. Дороги, по которым все ездим, нам ремонтировать. Водопровод – опять нам на шею. Школа, детский садик, медпункт – все это нам, на колхозную казну. Вы пять лет налогов не будете платить. А мы – кряхтим, но платим. Армия, больницы, все государство... Все – колхозу. И малые, и старые. Гроб сделать – колхоз, на кладбище отвезть – колхоз. Так что давай по-честному. Но если народ сейчас скажет, чтобы все отдать тебе, как ты просишь, я отдам. Спрашивай у людей, я – не хозяин.
В кабинете народ был разный, но глядели все одинаково. Корытин понял, сказал:
– Можно расходиться.
Затопали, заговорили все разом:
– Продуманные... Рогали.
– Раздиктовала, скорохватая...
– Ты свою долю давно уперла, днем и ночью с фермы везли. Покуда не спешили...
– Оторвали от титьки...
– Уходят – значит, отрезать им водопровод. За мотор три миллиона плочено.
– А электричество? Новый купили... этот... как его?..
– Моргуниха премудрая... Любит нахалтай...
Кабинет стал пустеть. Тут Моргуниха опомнилась. Начался ор:
– Ты – больной! Тебя лечить надо! Я всем позвоню! В область! Во все газеты!! Членов Политбюро – на пай! Раскладушки заместо трактора! До Москвы дойду!! На весь свет опозорю!
К шуму и крику за немалую свою жизнь Корытин привык. Слушать несладко. Но привык.
Правда, не думал он, что нынче достанется не только ему. И теперь он понимал, как больно сестре, и чуял свою вину не столько за короткий испуг, когда бежала она от дома к конторе, сколько за то, что не может Катерина всего понять, а он объяснить ей не в силах нынешнее и вчерашнее.
Объяснить было трудно, почти невозможно, как всякую чужую жизнь. А для сестры эта жизнь стала чужой давным-давно.
Но хотелось оправдаться. Кончались короткие дни свиданья. А потом снова, может, на годы расстанутся. Будет душа болеть у него, у нее.
Готовились обедать. Жена собирала на стол. А Корытин сестру приголубил, обнял ее за плечи, подвел к широкому окошку, за которым лежал зимний день. Хороший был вид из окна: дома, улица – все снегом прикрытое, словно принаряженное. Не улица, а новогодняя открытка. Глядя туда, на волю, и обнимая сестру, Корытин пропел негромко:
Серый денек,
Белый летит снежок.
Сердце мое...
По голосу, по сердечному тону, по лицу и глазам брата – что-то в них чудилось! – Катерина поняла и прошептала:
– Братушка, зачем ты сюда приехал? Уезжай.
– Поздно, сестра.
– Господь с ними, пусть живут как хотят... – уговаривала она.
– Не получится. Это ведь детский сад, детишки, как их оставишь. При спичках... Хату сожгут. Помнишь, мы в детстве сарай сожгли. Отец нас выпорол. А нам ведь хотелось интересного: не думали сарай жечь. Верно ведь?
– Конечно.
– А сожгли. Так и здесь. Детвора... Ныне будем пряники есть, конфетами закусывать. А завтра от голода заревем. В Бударинском колхозе племенную ферму, тысячу двести коров, за неделю на мясо порезали, продали. И весь район им завидовал: забогатели, на свадьбах гости по миллиону жениху с невестой "на блюдо" клали. Чем завтра будут жить – об этом загаду нет. И у нас такие же. Лишь отвернись, все порежут, все растянут. Одни – на пропой, другие – на шоколадки. Детвора... Хоть и взрослые люди. Пойди к Петровичу, он тебе про дураков в третьем поколении расскажет.
– Так зачем же ты сюда приехал?
– Потому что сам – дурак. Умный человек не полез бы в такой хомут.
– Нет, братушка, ты – не дурак, – искренне сказала Катерина.
– Спасибо, сестра, – улыбнулся Корытин. – Тогда, значит, мой ученый сынушка прав. Он поет, что я – коммунист. И ведь не отбрешешься. В пионерах, в комсомольцах выросли. Помнишь? Как стремились туда! Старались... Тимуровцы. Чтобы старым помогать. В школе отстающих подтягивать, чтобы звено не позорили, отряд. Все было. Не скинешь с руки. Вот и теперь... Жалко... Понимаешь такое слово? Скотину жалко. Такие коровы у нас... Землю жалко. Сколько с ней пестались: севооборот, пары... Все кинь, завтра – дикое поле. А понастроили: фермы, мастерские... И все в дым: растянут, разломают, сожгут. Детвора... С папой привыкли жить, в семье. Прикажут: "Паси", – значит – паси; "Коси!" буду косить. А без папки хоть помирай. "Туды-сюды кидаю... – передразнил он. Умом не догоню... Как жить!"
– Думаешь, спасибо скажут? – спросила Катерина.
– Дождешься! – прежде мужа презрительно хмыкнула невестка. – Тебе нынче сказали спасибо, это – за него.
– Слыхал, слыхал... – отозвался Корытин. – Доложили. Это тебе еще мало досталось. Такой кусок отобрали. Триста литров молока умножь хотя бы на две тысячи рублей, – начал считать он. – Шестьсот тысяч получается. Хотя бы трижды в неделю. Это уже два миллиона в карман. За месяц– почти десять. Вот так она бригадирствовала, твоя подружка. Выгнали. Конечно, я виноват. За это не ругать, а стрелять впору.
– Еще дождемся, – с горечью сказала Корытину жена. – Как Васю Аникеева, прямо при детях. Землю не дал дураку.
– До смерти? – не поверила Катерина.
– Наповал.
– Это какой Аникеев? Рыжий, зоричевский, тетки Матрены сын?
– Он самый... Председателем был в колхозе Калинина. Долго не женился. Будто знал, что сиротами оставит. А детей любил... Сыновья у него– близнята. Господи, за что...
– Обедать мы ныне будем или слезы точить? – пытаясь обрезать горестное, спросил Корытин.
Катерина его не слышала, не хотела ли слышать.
– Но так нельзя... – с болью сказала она. – Так же нельзя жить, чтобы тебя все... чтобы тебя все... ненавидели, – смогла наконец она выговорить самое горькое слово.
Корытин поморщился.
– А как можно? – спросил он. – Такое нынче время, сама видишь. Все я понимаю не хуже тебя, не хуже моего сынка ученого, не хуже сватьев. Но у вас слова, а у меня – живые люди. Их держать надо внатяг, иначе все пухом-прахом пойдет! Держаться надо нам, понимаешь, держаться! – Корытин уже кричал, но вдруг опомнился, подошел к сестре ближе: – Все меня точат, и все меня ругают. Пожалей хоть ты меня, Катя.
Разговор он обрезал. Но сердцу ли, душе не прикажешь. Обедали, считай, молча. А потом – каждый к своему. Хозяин уехал по делам. Жена его на кухне прибиралась. Гостья же, подумав недолго, стала одеваться.
– Куда? – спросила ее хозяйка.
– На кладбище схожу, – ответила Катерина. – Одна схожу. Чего-то мне... недоговорила она.
Хозяйка в ответ лишь вздохнула.
10
День-другой мело и пуржило. Выйдешь из дома – белая мгла, ничего не видать. Потом погода утишилась.
В день отъезда утром светила луна. Солнце встало в белесой мути. Поднимался день светлый, но дул и дул стылый восточный ветер, обжигая лицо. Снежок перепархивал.
К станции, к полуденному поезду, ехали загодя. Причиной тому председательские заботы: сначала путь лежал в Зоричев, потом в соседний колхоз "Пролетарий", а уж оттуда – на станцию.
– По-другому не выходит, – объяснял Корытин. – А одну отпускать тебя не хочу. Проветришься.
– Проветрюсь... – легко соглашалась Катерина.
Последние дни тянулись долго. И ведь не ругались, но легла меж сестрой и братом какая-то неловкость. Разъехаться бы и вздохнуть свободно. Какие ни родные, но у каждого – свое.
И вот он пришел, последний день, последний путь. Из дома поехали к правлению колхоза, где уже стояли три больших скотовоза-"КамАЗа". Тронулись впереди их, возглавляя колонну, но быстро оставили позади тяжелые машины. "Нива" спешила к хутору Зоричев, к тамошним фермам.
В машине молчали, лишь порой переглядывались, чувствуя все ту же стену отчуждения, которую трудно сломать.
В Зоричеве, на скотьей колхозной ферме, проехав через ворота проходной, встали возле коровников и базов.
– Выходи. Промнешься... – сказал сестре Корытин. – Я тут кое-чего...
Катерина вышла. Рядом, за железной огорожей, возле кормушек с сеном, у высоких соломенных куч, разложенных по базу, стояли и бродили коровы, все до единой черно-белой пятнистой масти, словно близнята. Они были хороши на погляд: тяжелые, утробистые, чистая шерсть, большие глаза, горячие струйки пара из темных пещер ноздрей. Катерине сразу вспомнилось давнее: своя корова, которую в детстве в стадо прогоняла, встречала, а зимою ждали от нее теленка.
– Телята есть? – оживляясь, спросила она у брата.
– А как же без телят... – засмеялся Корытин. – Еще не растел, но есть. Поглядеть хочешь?
– Очень.
– Пошли.
Под крышей телятника из калориферных труб легко веял теплый ветер. Ярко светили низко опущенные белые кварцевые лампы. И милая скотья детвора – телята – покойно дремали в своих клетках или задумчиво тянули из ясель зеленые былки сена, порою взбрыкивали, играясь, мягко стуча копытцами по засыпанному опилками полу.
– Лобаны... – горделиво похвалил Корытин, останавливаясь возле клетки.
А сестра его, протягивая через огорожу руки, доставала и гладила бархатные головки, горячие носы, нежную молодую шерстку – детскую плоть.
Как давно она не видала телят! А когда-то... Снова вспомнилось детство. Здесь, на хуторе. Сколько было всего: цыплята, гусята, игручие козлята, телята... И сама – теля малое, а рядом – братец, бычок лобастый. Каким он был смешным, славным. Катерина объявилась на свет божий первой и потому всегда считала себя старшей, а брата – меньшим. Она по-матерински опекала его, заботясь. Привыкли к этому. А теперь, через время, отвыкли. Но сейчас прошлое так ясно вспомнилось. Она поглядела и будто снова увидела того давнего, совсем молодого брата, мальчишку. Нынче он поседел, погрузнел. Но все – прочь! Такой же добротой и любовью светят глаза его. И душою он тот, прежний, дорогой сердцу братец. А все остальное – неправда.
Она качнулась, прижимаясь к брату плечом, потом тронула, погладила его по щеке. Корытин понял и принял ее ласку.
– Лобанок... – с улыбкой повторила Катерина. – Лобанок ты мой, лобанок...
Одним разом все было забыто: непонимание, недавняя ссора. Все ушло. Не торопясь они прошли по тихому телятнику, глядя на скотью малышню, а вспоминая и вздыхая о своем: о прошлом, о нынешнем.
На воле дул стылый ветер, обжигая лицо после тепла и затишки. Возле машины Корытин говорил и говорил провожавшему его бригадиру:
– Привезут... Через час-другой первая машина придет. И до последнего, чтобы все на месте. Никому не уходить. Разместить, напоить тепленьким. И пусть отдыхают. Фельдшер подъедет, он сделает свое. Я сам к вечеру буду. Ни одной головы не потерять. Привезли – значит, уже на нашей шее. Немного овсяной соломки, немного сенца. Пускай отойдут, обвыкнутся.
Поехали от скотных дворов и хутора по заснеженной степи. После недавней метели на обочинах громоздились снежные увалы. По дороге мело. Даже в тепле машины чуялась стылость январского ветреного дня. Хохлатые жаворонки, что искали поживу по краям асфальта, распушили перья, спасаясь от стужи.
Белое солнце порою проглядывало оловянным слепым зраком. Белое поле стлалось и стлалось, туманясь белесо у близкого горизонта. Навстречу машине бежала и бежала поземка дымными змеистыми струями.
Катерина глядела на брата, сердцем, душой вдруг почуяв близкое расставание. Вот сейчас кончится дорога. А там – станция рядом. И все. Когда и где теперь встретятся? Недавняя размолвка казалась такой обидной. Горько было сознавать, что пустая ссора отняла часы и минуты, о которых столько мечталось. И потому Катерина, повернувшись, глядела и глядела на брата. Он тоже порой поворачивался от руля, от дороги, спрашивал с улыбкой:
– Чего?..
– Ничего, – кротко отвечала Катерина. – Просто на братушку своего гляжу.
Серый денек...
Белый летит снежо-ок...
негромко запел Корытин, глядя вперед и вперед.
Серый денек,
Белый летит снежо-ок...
Сердце мое...
За машинным стеклом все было именно так: не больно взрачный зимний день, солнца не видно, лишь порою белый диск обозначится – и все. И редкий снежок. Под ветром, наискось, летел и летел.
Сердце мое...
Корытин мурлыкал, Катерина слушала и глядела на брата, порою переводя взгляд на дымную от поземки дорогу, на белый простор впереди и вокруг. Так и ехали.
И наконец открылось с бугра селенье, куда въезжать не стали, свернув к скотьим дворам: возле них чернели на снегу три колхозных "КамАЗа", с которыми начинали путь.
Подъехали. Встали.
– Полчасика – и на станцию... – пообещал Корытин. – Хочешь, выйди, промнись.
– Конечно, – легко согласилась Катерина, открывая дверцу машины.
Она выбралась из кабины и встала, ошеломленная.
Рядом, откинув на землю задние борты-трапы, стояли "КамАЗы". Возле них кучей теснились страшные, на коров не похожие скотиняки: рога, череп, проваленные глаза, грязная, в сосулях, шерсть, острые хребты, ребра, маклаки все наружу, лишь кожей обтянутое. Коровы сами лезли на трап, по которому подняться у них сил не хватало, и они падали и ревели, вытягивая тощие шеи, видя и чуя совсем рядом пахучую солому, настланную в кузовах. Люди поднимали коров, пропуская под брюхо брезентовые ремни, волокли в кузов, укладывая на подстил. Коровы тут же начинали яростно грызть сухие будылья соломы. А те, что еще оставались внизу, на земле, истошно и тонко мычали, лезли и падали, пытались подняться и не могли. И тогда принимались реветь, задирая голову, словно предсмертно. Висел над базами, сливаясь и впереклик, неумолчный вопль.
Катерина стояла, не смея ли, боясь ли сдвинуться с места. Она глядела не веря. Зажмурилась и снова открыла глаза.
Белый день до боли ясно высвечивал все ту же картину: кирпичные коровники, черные проемы дверей, ископыченный баз, по которому там и здесь валялись рогатые коровьи головы, ноги, шкуры, припорошенные снегом; в дверях же, в проеме, – гора коченелых телячьих трупов, на ней– большие серые крысы, с писком ныряющие в проеденное скотье нутро.
Мужик в крытом большом полушубке, заметив Катеринин испуг ли, ужас, набился с разговорами, охотно сообщив:
– Лисапеты... Наши лисапеты... Я их так называю.
И впрямь: рога да костлявый остов – похоже на велосипед.
– Как же это... – выдавила из себя Катерина. – Колхоз... такое...
– Колхоза нет, – внушительно объяснил мужик. – Акционеры. Закрытого типа. Чтоб никто не влез. Да наши еще живые, – успокоил он Катерину и даже похвалился: – Через раз, но дышат. У Корытина откормятся, еще и молоко, глядишь, будут давать. А в "Комсомольце" гурт навовсе поморозили. Стояли как статуи. Поезжай погляди. Изо льда ноги досе торчат. Как топорами рубили...
Он что-то еще говорил о колхозе, о жизни, Катерина же слышала лишь скотины недужный рев и крысиный писк. Ей сделалось нехорошо. Она залезла в машину, затворила дверь и сидела опустив голову.
Мужик пошел с докладом к Корытину. Тот заспешил к сестре:
– Чего с тобой?
Катерина подняла голову, проговорила:
– Глядеть не могу...
Корытин понял, сказал со вздохом:
– Без привычки... Конечно. Прости. Сейчас поедем.
И потом, в машине, когда отъехали от коровника и скотины – от всей этой беды, – Корытин увещевал сестру:
– Чего переживаешь?.. Везде нынче так. Развал. А то не видишь. А у вас разве лучше? Свою работу возьми...
– Не в привычку... – оправдывалась Катерина. – А эти коровы, они у тебя выживут? Они не подохнут? Ты их зачем берешь?
– По дешевке купил, – ответил Корытин. – Кормов хватает, место есть. Перезимуют, мяса наростят, продадим. Вот и барыш... – улыбнулся он. – А как же... Такая нынче жизнь.
На станцию приехали вовремя. Спокойно разместили вещи в купе и вышли из вагона. Стали прощаться.
Катерина плакала, обнимая брата и целуя его холодное лицо. Обнимала – и не могла разнять рук. И снова целовала.
На вокзале все можно. Здесь встречаются люди после долгой и долгой разлуки: прощаются, расставаясь порой тоже надолго, а порой – навсегда.
Потом, в поезде, у вагонного окна, Катерина глядела и глядела на волю. Кончился поселок, дома его, открылась белая степь. Чернели голые деревья вдоль полотна дороги, туманился горизонт белой мглой. И вспомнились слова песенки: "Серый денек... Белый летит снежок... Сердце мое..." А вот дальше Катерина не могла вспомнить. "Сердце мое..."
Мама... Мамочка умерла молодой, от сердца. Брат так похож на нее лицом и характером. Весь в маму. Не дай, не дай бог...
Серый денек,
Белый летит снежок.
Сердце мое...
Она заплакала, прислонясь к окну, и шептала: "Зачем, зачем ты туда вернулся, братушка..."