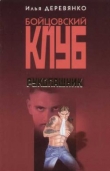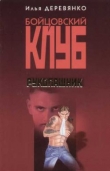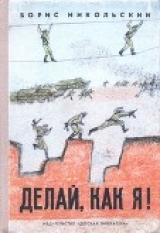
Текст книги "Делай, как я!"
Автор книги: Борис Никольский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Цена слова

– А сегодня, – сказал капитан, – мы практически отработаем всё, что проходили на прошлых занятиях…
Солдаты обрадованно зашумели. Уже несколько дней они учились правильно передавать и принимать радиограммы, входить в связь, точно и быстро заполнять журнал. Но всё это до сих пор делалось тут же, в классе. И то, что называлось громкими словами "входить в связь", на самом деле выглядело так. Вставал рядовой Петров и говорил:
– Сосна, я Берёза. Сосна, я Берёза. Как слышно? Я Берёза. Приём.
А рядовой Иванов, который сидел рядом, отвечал:
– Берёза, я Сосна. Берёза, я Сосна. Слышно хорошо. Как слышно? Я Сосна. Приём.
И так по нескольку раз.
Это было не очень интересно и порядком всем надоело. Но сегодня, кажется, намечалось что-то новое.
– Для начала, – сказал капитан, – будем работать на телефонах…
Что ж, на телефонах так на телефонах… Это тоже неплохо. Во всяком случае, повозиться с телефонным аппаратом, покричать в телефонную трубку куда интереснее, чем сидеть в классе и слушать объяснения преподавателя. Поэтому все солдаты тянули руки и смотрели на капитана просящими глазами.
Капитан подумал, подумал и выбрал трёх: Зайцева, Воробьёва и Леонтьева. Эта троица не отличалась ни особой усидчивостью, ни старательностью – не раз все вместе, и Зайцев, и Воробьёв, и Леонтьев, отправлялись работать на кухню в наряд вне очереди за разговоры на занятиях.
Всем троим капитан выдал по полевому телефону и большой моток серого провода.
– Только предупреждаю, – сказал он строго, – работать по законам радиодисциплины, как положено. Чтобы ничего лишнего. Понятно?
– Понятно! Ещё бы не понятно! – сказали Зайцев, Воробьёв и Леонтьев.
Они явно торопились выскочить за дверь, пока капитан не переменил решения.
Когда они ушли и их шаги затихли в коридоре, капитан вызвал Яшу Часовщикова и протянул ему ещё один телефонный аппарат.
– А вы, – сказал он, – будете радиостанцией подслушивания. Поняли?
– Так точно, – тихо ответил Яша.
Он был самый тихий солдат во всём взводе, командиры обычно даже не замечали его. А тут вдруг ему повезло.
Все отлично знали, что это значит – "радиостанция подслушивания". Радист такой станции всегда молчит. Он не передаёт радиограмм, он не называет своих позывных. Он молчит и слушает. Он, точно разведчик и наблюдатель, всё слышит и ничем не выдаёт себя.
И Яше теперь предстояло незаметно подключиться к телефонной линии и терпеливо слушать и записывать в специальный журнал всё, что будут говорить Зайцев, Воробьёв и Леонтьев…
Они вернулись в класс через полчаса. Лица у всей троицы были довольные, словно они только что побывали в увольнении.
– Ну как? – спросил капитан. – Всё в порядке?
– Так точно, – сказал Зайцев.
– Так точно, – сказал Воробьёв.
– Полный порядок, – подтвердил Леонтьев.
В этот момент дверь отворилась, и в класс вошёл Яша.
– Так, так, сейчас проверим, – сказал капитан. – Давайте-ка, что там у вас?
Яша переступил с ноги на ногу и медленно, точно нехотя, протянул тетрадь.
Капитан раскрыл её и нахмурился.
– "Алмаз, я Гранит. Алмаз, я Гранит. Заяц, ты что, оглох там? – прочёл он. – Почему не отвечаешь?"
По классу пробежал смешок. И Зайцев, и Воробьёв, и Леонтьев засмеялись вместе со всеми, потому что они ещё не понимали, в чём дело. Капитан поднял глаза, и в классе снова стало тихо.
– "Гранит, я Алмаз. Гранит, я Алмаз, – продолжал читать капитан. – Подожди, Воробей, я сниму гимнастёрку. Солнце здорово припекает. Приём".
Солдаты низко наклонялись над столами, прятали глаза, стараясь сдержать смех.
Зайцев, Воробьёв и Леонтьев переглянулись. Кажется, они тоже начинали догадываться, что произошло. Им не пришлось долго раздумывать, потому что капитан отложил тетрадь в сторону и сказал:
– Что же это, друзья, выходит, а? Во-первых, вы меня обманули. И за это я вас накажу. Во-вторых, вы не выполнили задания, нарушили радиодисциплину. И за это я вам поставлю двойки. А вам, Часовщиков, я ставлю пять. Есть вопросы?
Вопросов не было.
Зайцев, Воробьёв и Леонтьев сразу погрустнели и пошли на свои места. Время от времени они оборачивались и свирепо посматривали на Яшу. А Яша сидел тоже нахохленный и печальный. Выходило, он и правда подвёл товарищей. Будто он и на самом деле доносчик.
Капитан посмотрел на всех четверых, потом на часы и усмехнулся.
– Хорошо, – сказал он. – Я расскажу вам одну историю.
Солдаты опять зашевелились, усаживаясь поудобнее, потому что слушать "истории" всегда интереснее, чем отвечать урок или повторять пройденное.
А капитан отошёл к окну, постоял немного в задумчивости и стал рассказывать.
– Было это в сорок третьем году, на Украине, в самый разгар тяжёлых боёв.
Я в то время был старшим сержантом и служил при штабе в радиоразведке. Кстати сказать, тогда на нашего брата, радиста, смотрели довольно косо. Всё больше на телефон полагались – привычнее. Да и верно, аппаратура тогда была не то что теперь, и нередко в самый нужный момент либо помехи такие начнутся, что ничего не разберёшь, либо просто связь нарушится. Но это я так, между прочим. У нас-то работа была особая. Мы подслушивали немецкие радиостанции, перехватывали радиограммы. Потом, уже в штабе, расшифровывали их. Ну, расшифровать радиограмму, сами понимаете, дело не простое и довольно долгое. Так что не всегда удавалось сделать это вовремя.
А в те дни сумели мы засечь очень важную радиостанцию. Фашисты как раз сосредоточили на нашем участке танковую дивизию. И вот штабную радиостанцию этой дивизии мы и засекли. Позывные ещё у неё такие красивые были: Гвоздика – "Helke" по-немецки. Мы эту Гвоздику и днём и ночью слушали. Работала она, прямо скажем, на полную мощность, без отдыха. То принимает шифровки, то передаёт. Нам уже даже казалось, что мы её радистов чуть ли не в лицо знаем. Особенно одного. Он всегда перед тем, как перейти на приём, как-то по-особенному последнее слово произносил – с присвистом каким-то, точно лихой росчерк ставил в конце письма…
И вдруг исчезла Гвоздика. Замолчала. Мы всю ночь по эфиру шарим, и направленность антенны меняем, и на другие волны переходим – ничего нет. Наши радиостанции работают. Немецкие друг друга перебивают, а её нету. Не иначе, как готовится дивизия к контрудару – потому и притихли, наверно.
Ну, и наши, конечно, тоже к отпору приготовились, ждут.
Тут ещё гроза неподалёку прошла, в наушниках треск – ничего не разобрать. Только вдруг – уже к утру дело шло – мне мой напарник говорит:
– Узнаёшь?
Я слышу: далеко где-то, слабо совсем, работает немецкая радиостанция. Радист передаёт радиограмму, обыкновенную шифровку, быстро-быстро цифры называет и… слово последнее вдруг произносит с присвистом, точно лихой росчерк ставит. Неужели – Гвоздика? И волна совсем другая, и позывные другие. А всё-таки она!
– Что за чертовщина! – говорит напарник. – Не может быть. Она же совсем рядом была. Неужели перебросили?
И знаете, прав он оказался. Прав!
Запеленговали радиостанцию – она, оказывается, уже в ста пятидесяти километрах от нас, южнее работает. Ну, тут уж обыкновенная разведка в дело пошла. И выяснилось: фашисты ночью тайно свою дивизию перебросили – совсем в другом месте удар готовились нанести. Неожиданно. Только неожиданности у них и не получилось. И всё из-за радиста. Не будь у него привычки этой – по-своему последнее слово произносить, "росчерк" свой ставить, – неизвестно, как бы дело ещё обернулось…
Капитан отошёл от окна, посмотрел на солдат и уже весёлым тоном спросил:
– Понятно, зачем я вам эту историю рассказал?
– Понятно! – закричали солдаты. – Расскажите ещё что-нибудь, товарищ капитан. Расскажите!
Зайцев, Воробьёв и Леонтьев больше не кидали на Яшу свирепых взглядов, а просили вместе со всеми:
– Расскажите!…
Может быть, на них произвела впечатление история капитана, а может быть, просто они были добродушными людьми и не умели долго сердиться.
– В следующий раз расскажу, – засмеялся капитан,– в следующий раз. А сейчас – продолжим занятия…
На стрельбах

Стрельбы были в самом разгаре – одна за другой выходили на огневой рубеж очередные смены, гремели автоматные выстрелы, появлялись и исчезали мишени, когда на дороге, ведущей к стрельбищу, сначала возникло облачко пыли, а затем стал виден юркий армейский газик. У этого газика не было никаких особых, отличительных примет, но все офицеры узнавали его еще издалека, как издалека узнают человека по походке. И хотя лейтенант Ковалевский служил в части всего первый год, он тоже давно уже научился отличать машину командира дивизии от любой другой.
Лейтенант заволновался, потому что как раз приближалась очередь стрелять его взводу. Он быстренько смахнул пыль с начищенных до блеска хромовых сапог, затем выстроил взвод и торопливо еще раз, на всякий случай, проверил, все ли в порядке.
Все было в порядке.
– Главное, не забывайте правильно докладывать, – напомнил он, но солдаты уже смотрели мимо него, и, даже не оборачиваясь, лейтенант понял, что командир дивизии подъехал и теперь направляется сюда.
Генерал, высокий и грузный, шел широким размашистым шагом и на ходу что-то объяснял руководителю стрельб.
– Взво-од! Смир-р-рна! – весь напрягаясь, скомандовал лейтенант и лихо вскинул руку к козырьку. В эту минуту он как бы смотрел на себя со стороны и очень нравился самому себе – молодой, энергичный, подтянутый командир!
Генерал махнул рукой:
– Вольно. Ну, как настроение, товарищи?
– Бодрое, товарищ генерал! – не стройно, но весело откликнулись солдаты.
– Автоматы пристреляны?
– Так точно, товарищ генерал!
– Значит, не подведете?
– Никак нет, товарищ генерал!
– Ну, смотрите. Кто отстреляется лучше всех – поедет в отпуск. Ясно?
– Так точно, товарищ генерал! – радостно гаркнули солдаты.
Все сразу задвигались, оживились, заулыбались.
И лейтенант Ковалевский тоже улыбался, вытягиваясь перед генералом.
"Всё, – думал он, – провалимся, наверняка провалимся… Солдаты и так нервничали перед стрельбами, а теперь уж совсем…"
Как только генерал отошел и Ковалевский распустил строй, солдаты зашумели, возбужденно заговорили, перебивая друг друга. Все окружили Андрея Ануфриева – отличника огневой подготовки, лучшего стрелка роты – и хлопали его по плечам, и смотрели на него с откровенной завистью: вот повезло человеку, поедет в отпуск, как пить дать, поедет… А широкоплечий, круглолицый Ануфриев вытирал пилоткой потный лоб и улыбался растерянной улыбкой, словно борец, неожиданно одержавший победу в трудном поединке и еще до конца не осознавший этого…
Лейтенант не ошибся. Взвод стрелял хуже обычного.
Один за другим солдаты выходили на огневой рубеж, торопливо натягивали резиновые маски противогазов, целились, стреляли по возникающим из-под земли мишеням, бежали вперед, ложились, снова стреляли, но даже отсюда, издали, было видно, как суетливы и неточны их движения.
Это было так отчетливо, так явно заметно, что лейтенант еле удерживался, чтобы не крикнуть: "Да спокойнее! Спокойнее же!"
Все-таки каждому солдату перед выходом на огневой рубеж он негромко напоминал:
– Не волнуйтесь… Главное – не волнуйтесь…
И солдаты в ответ понятливо кивали: мол, ясное дело, знаем сами, но, видно, тут же забывали об этом. Наверняка каждый из них втайне надеялся заработать отпуск, и эта надежда будоражила и не давала успокоиться…
Наконец наступила очередь Ануфриева.
– Держись, Андрей! Позади Москва – отступать некуда! – крикнул кто-то.
И Ануфриев в ответ улыбнулся отсутствующей улыбкой. Он тоже заметно волновался. Даже с противогазом возился дольше, чем всегда, словно это было ужасно сложное дело – надеть маску.
И целился очень долго. Так долго, что мишень исчезла, а выстрела все не было.
Ковалевский почувствовал, как у него вспотели ладони.
Сколько раз он твердил им: не цельтесь долго! Чем дольше целишься, тем неувереннее себя чувствуешь. Нельзя целиться долго. Это же каждый солдат-первогодок знает.
Ануфриев, видно, испугался, что снова упустит момент, и теперь поторопился: нажал спусковой крючок сразу, как только показалась мишень.
Мимо!
"Что он делает! Что он делает!" – лейтенант отвернулся, он больше не мог вынести этого.
Когда он снова взглянул на Ануфриева, тот, уже лежа, стрелял по бегущим мишеням.
Очередь!
Мимо!
Очередь!
Мимо!
Это был провал.
Крах. Позор.
И виноват в этом позоре был генерал. Только он один. Не пообещай он отпуск, и все было бы нормально. И нужно же было ему появиться! Все, все испортил!
И оттого, что он был вынужден молчать, что не мог сию же минуту прямо высказать все свое возмущение, лейтенант нервничал и раздражался еще больше. Он даже не сердился сейчас на Ануфриева, он испытывал что-то вроде горького удовлетворения оттого, что оказался прав в своих самых худших предположениях.
И его даже не утешило, когда под конец трое солдат отстрелялись на отлично.
Одному из них – веселому, дурашливому Геннадию Башмакову – генерал и объявил тут же, прямо на стрельбище, краткосрочный отпуск. Вообще Башмаков и раньше стрелял неплохо, но не сравнивать же его с Ануфриевым!
Это была такая несправедливость, что лейтенант не выдержал.
– Товарищ генерал, – сказал он срывающимся от волнения голосом, – разрешите рядовому Ануфриеву сделать вторую попытку…
– Это отчего же ему такая привилегия?
– Он наш лучший стрелок, товарищ генерал… Никогда с ним такого не было… Это какая-то случайность… – торопясь, сбивчиво говорил лейтенант. – Он…
– Все ясно, – сказал генерал. – Нет, не разрешаю. Не могу разрешить. А Башмаков ваш все-таки молодец…
Он повернулся и пошел к пункту управления стрельбой.
А Ковалевский молча выразительно посмотрел на обиженного, растерянного Ануфриева, – мол, видите сами, я все сделал, чтобы исправить несправедливость. И не моя вина, что ничего не вышло…
Спустя час генерал собрал офицеров для разбора результатов стрельб.
Лейтенант Ковалевский плохо слушал, о чем говорили офицеры. Его занимала только одна мысль: выступать или нет?
Скорей всего, он так бы и не набрался смелости, если бы не генерал.
– Говорите, товарищи, откровенно, не смущайтесь, – сказал командир дивизии, – а то, я вижу, лейтенант Ковалевский чем-то недоволен, а молчит.
– Никак нет, товарищ генерал, – пробормотал Ковалевский.
– Я же вижу, – уже начиная сердиться, повторил генерал. – Говорите. Я жду.
Все офицеры смотрели на Ковалевского. И тогда Ковалевский решился.
– Товарищ генерал, – краснея, сказал он, – я считаю… То есть мне кажется… Не стоило говорить солдатам об отпуске перед стрельбами… Солдаты переволновались… В результате стреляли хуже обычного. Мне кажется… По-моему… – Он совсем смутился и замолчал.
Генерал выслушал его, едва заметно кивая головой. И было непонятно, то ли он соглашается, то ли просто успокаивает себя, сдерживает, чтобы не вспылить, не взорваться раньше времени.
– У вас все? – наконец сказал он. – Ну что ж… Вы, конечно, думаете: вот приехал генерал, бухнул что-то, не подумав, не разобравшись как следует, все сбил, все испортил, а нам теперь расхлебывать… – Генерал усмехнулся и посмотрел на Ковалевского. – А я это сделал специально. Умышленно. Зачем? Сейчас я расскажу вам один случай из своей жизни, может быть, вы поймете… Это было в сорок первом году. На третий или четвертый день войны. Мы вели оборонительные бои. Моим соседом по окопу был, как сейчас помню, красноармеец Горбунов – хороший стрелок, между прочим, не хуже, наверно, вашего Ануфриева. Утром немцы начали атаку. Шли в полный рост, почти не таясь. И близко уже – рукой подать. Надо стрелять, а я вижу: Горбунов винтовку перезарядить не может. Бьет его нервная дрожь, руки трясутся. Никак обойму на место загнать не может. И я, знаете, – это как гипноз какой-то – смотрю на его руки и оторваться не могу. Только отвернусь, а меня снова взглянуть тянет… На всю жизнь запомнил я эти минуты…
Генерал помолчал.
– Настоящий солдат должен не только хорошо стрелять, – сказал он. – Он должен еще владеть собой. Владеть своими нервами. И еще неизвестно, что из этого важнее… Разве вы не согласны со мной, лейтенант?…



Братья Сорокины
1. "Сорокин! Тебе письмо!"
В субботу вечером Сорокин мыл пол в казарме. И конечно, настроение у него было отвратительное. Что-то слишком уж часто приходилось ему мыть полы.
А почему? Что он, хуже других?
Да ни капли!
Или фамилия его старшине приглянулась, не даёт покоя – всё: Сорокин да Сорокин. Можно подумать, других фамилий он и не помнит. Как произнесёт своим старшинским раскатистым голосом: "Сор-р-рокин, кому я говор-р-рю!" – так даже на другом конце военного городка слышно. И мало, что за каждую мелочь, за пустяк каждый закатит наряд вне очереди, так ещё и нотацию прочтёт. Просто не может без этого.
– Вас, – говорит, – Сорокин, характер подводит. Скверный у вас характер, неподходящий для армии. А парень вы вроде неглупый, и выносливость у вас есть… (Это у старшины тоже такая привычка была, такой педагогический приём: нельзя, мол, только ругать солдата, обязательно надо между делом и похвалить его, что-нибудь хорошее вставить, чтобы совсем уж не отчаивался человек.)
А чего Сорокину отчаиваться? Он и сам себе цену знает, получше старшины.
Однажды он не вытерпел и так прямо и сказал:
– Это, товарищ старшина, не мой характер виноват. Это ваш, товарищ старшина, характер виноват. Если бы вы ко мне по каждому пустяку не придирались, я бы… – И тут он прервал себя на полуслове: ждал, что старшина сразу рассвирепеет из-за таких его слов.
Но старшина не рассердился. Он даже как-то добродушно посмотрел на Сорокина и сказал спокойно:
– Устав надо выполнять, устав, тогда я и придираться не буду. Вон ваши товарищи как служат – любо-дорого посмотреть, разве я к ним придираюсь? А вы что? В строй сегодня кто опоздал? Сорокин. На зарядке кто руками шевелил, как умирающий лебедь? Сорокин. Утром сапоги кто не почистил? Опять Сорокин. А говорите – я придираюсь…
– Сапоги… – обиженно отозвался Сорокин. – Так разве я виноват, что моя щётка куда-то задевалась? А я спросил щётку у Вавилина, а он сказал, что отдал её Толстопятову, а пока я искал Толстопятова, он, оказывается, уже успел вернуть щётку Вавилину, а когда я снова, спросил Вавилина…
– Погодите, погодите, – сказал старшина, – а то вы, я смотрю, меня совсем запутаете. Поймите же вы наконец, Сорокин: не то даже самое плохое, что вы ошиблись, что-то не вовремя выполнили, а то самое плохое, что вы каждый раз оправдание себе ищете. Вот уж это никуда не годится.
Подобные обстоятельные разговоры между старшиной и Сорокиным происходили не раз и, кажется, даже доставляли старшине некоторое удовольствие, может быть, он даже предполагал, что и Сорокину они по душе. На самом деле, разумеется, это было совсем не так, потому что сколько бы ни длился такой разговор – десять минут, двадцать или полчаса, – он неизменно заканчивался в пользу старшины.
– Ну вот видите, Сорокин, – говорил он в конце концов, – опять вы пререкаетесь. Придётся вас наказать, раз уж слов вы не понимаете…
Так получилось и в этот раз, в субботу. И теперь Сорокин скрёб половицы и поминал в душе старшину недобрыми словами, причём, и это, конечно, тоже было нарушением устава, потому что поминать недобрыми словами своих начальников, пусть даже и в душе, никому не разрешено.
И вот именно в этот весьма печальный для Сорокина момент он услышал громкий голос дневального Бегункова:
– Сорокин! Тебе письмо!
Бегунков прокричал это таким ликующим голосом, каким, вероятно, в старину матросы после долгого плавания кричали: "Земля! Земля!" Вообще у этого Бегункова была одна особенность: он умел радоваться чужим радостям ничуть не меньше, а может быть, даже больше, чем своим собственным. Кое у кого эта черта его характера даже вызывала раздражение: событие, о котором он сообщал, оказывалось обычно гораздо менее значительным, чем тот восторг, с которым Бегунков возвещал о нём.
И в этот раз письмо оказалось как письмо, обычное письмо из дома, от матери. Конечно, Сорокин ждал этого письма и был ему рад, но всё же ничего сверхнеожиданного, невероятного тут не было.
Сорокин хотел было сначала домыть пол, а потом уже взяться за конверт, но нетерпение пересилило. "Ведро с тряпкой от меня никуда не убежит", – решил он.
Первые слова шли самые привычные: приветы, расспросы о здоровье, о службе… А потом…
Вот что прочёл Сорокин потом:
"Дорогой сынок, соскучилась я очень по тебе, и хочется тебя повидать, и дела мои сейчас сложились так, что могу я приехать навестить тебя. Я узнавала в военкомате – говорят, это можно. Но хоть и соскучилась я, главная причина, отчего решила ехать, другая. Валерка наш совсем разболтался, меня не слушает, озорничать начал, помогать мне – совсем не помогает. В магазин сходить – и то не допросишься. Грубит, я ему слово – он мне десять. Вот я и подумала: свожу-ка его к тебе, ты его приструнишь, пристыдишь как следует. И пусть на жизнь вашу солдатскую посмотрит, может, это подействует. А то боюсь я за мальчишку. А ты подумай, как с ним получше поговорить, тебя-то он послушает. Билеты я уже купила. В понедельник встречай нас".
Вот какое письмо получил рядовой Сорокин в субботу вечером, когда мыл полы в казарме.
– Вот так номер! – только и сказал он, ещё не зная, радоваться ему или огорчаться…