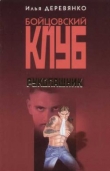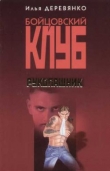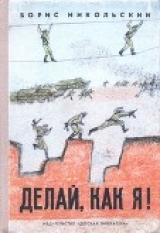
Текст книги "Делай, как я!"
Автор книги: Борис Никольский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Делай, как я!

История, которую я хочу рассказать, произошла вскоре после того, как меня назначили командиром отделения. Жёлтые ефрейторские лычки на моих погонах были совсем новенькими, да и волосы ещё не успели отрасти и топорщились коротким ёжиком. И мне казалось, что солдаты, хотя и делают вид, будто относятся ко мне с уважением, на самом деле посмеиваются надо мной.
А тут ещё это упражнение. Вроде бы совсем простая штука – делал я на брусьях упражнения и потруднее, – но вот не давалось оно мне, и всё. Бывает же так: сложные вещи одолеешь, а на каком-нибудь пустяке как споткнёшься раз, так и ни с места. А надо сказать, в армии существует такое правило: командир должен обучать своих подчинённых по принципу: "Делай, как я". Это значит – личным примером. Ну, а мне как быть?
И всё бы ничего, если бы не один солдат – Смородин была его фамилия. Никак не идёт у него дело с этим упражнением,– мускулатура жиденькая. А главное, – тренироваться не хочет. Вбил себе в голову: не получится, и всё тут. Другие солдаты – кто на турнике, кто на брусьях в свободное время занимаются, а Смородин стоит в сторонке, руки за спину, и наблюдает. Я уж к нему по-разному пробовал подойти: и объяснял, и советы давал – ничего не помогает.
Нет, думаю, так не выйдет, надо во что бы то ни стало самому научиться.

А как тренироваться, когда командир отделения весь день на глазах у подчинённых? Разве приятно, если солдаты узнают, что их командир не умеет делать такое простое упражнение? Стыдно! Какой же после этого у меня авторитет будет?
И всё-таки я нашел выход. Как только взвод уйдёт в класс на самоподготовку, я – во двор казармы и – к брусьям. Оглянусь вокруг – никого не видно – и начинаю…
Пусть, думаю, раз не получится, пусть десять, пусть сто раз не получится, а на сто первый всё равно получится!
Работаю на брусьях, а сам всё на учебный корпус, где взвод занимается, поглядываю. Чуть дверь хлопнет, сразу – в сторону и хожу с независимым видом. И так каждый вечер. Уже и ладони все в мозолях, и бросить эту затею хочется, а только как вспомню, что завтра со Смородиным заниматься, – поплюю на ладони и снова к брусьям.
И постепенно начало это упражнение у меня получаться. Чувствую – ещё денёк, другой, и я своего добьюсь.
Но вот выхожу в воскресенье из казармы и вижу: солдаты, как обычно, толпятся возле брусьев и среди них – Смородин. И ещё спорит с кем-то. "Пустите, – кричит, – сейчас моя очередь! Моя!" Повис на брусьях, ногами в воздухе болтает, а солдаты вокруг смеются и подбадривают: "Смелее, смелее давай!"
Мне, откровенно говоря, даже немного обидно стало. Выходит, вроде бы я напрасно старался. Но, конечно, обида очень скоро исчезла. Так эта история и кончилась: я научился делать злосчастное упражнение, а Смородин скоро стал ничуть не слабее других солдат в моём отделении.
С тех пор прошло немало времени.
Как-то остались мы вдвоём со Смородиным в классе после самоподготовки, и я его спрашиваю:
– Скажите, Смородин, почему это у вас так отношение к физкультуре изменилось?
Он улыбнулся и отвечает:
– Сядьте, товарищ младший сержант, на минутку на моё место. Так точно – вот здесь, возле окна. Видите?
Сел я, взглянул в окно и вдруг… брусья! В просвет между казармой и забором видны брусья.
Так вот оно что! А я-то тогда думал, что меня никто не видит…
Солдатская каша

Ручаюсь, в каждой роте наверняка отыщется свой запевала, заводила, остряк, мастер на все руки – и песню спеть, и на гитаре сыграть, и весёлую историю рассказать – не может рота жить без такого человека. И свой ротный художник тоже найдётся в каждой роте. И силач свой – штангист или борец, своя гордость, своя знаменитость, чемпион ротный – тоже обязательно обнаружится.
Но в той же роте непременно есть и свой неудачник, некий козёл отпущения, на долю которого вечно достаются насмешки и наряды вне очереди.
Был такой человек и в третьей роте.
И фамилия у него была очень подходящая для подобного характера – Уточкин. Миша Уточкин. Ему скажут: "Сбегай", и он бежит, скажут: "Принеси", и он приносит, хотя те, кто говорил ему так, были такими же, как и он, рядовыми солдатами и, конечно, никакого права командовать Уточкиным не имели. А ещё посмеивались потом над ним же: тюхтя, тихоня, маменькин сынок. Причём Миша Уточкин был и не слабее и не глупее других, просто тихий, послушный, безответный, что называется, человек.
История, которую я хочу рассказать, произошла с Мишей Уточкиным зимой во время больших учений, когда нас перебрасывали по железной дороге в район сосредоточения.
Вторые сутки тряслись солдаты в теплушках. Несколько часов подряд эшелон шёл не останавливаясь. Уже наступило время ужина, уже солдатский аппетит давал себя знать, а колёса вагонов всё выстукивали и выстукивали свою песню.
Солдаты с нетерпением выглядывали в дверь теплушки, подставляли лица ледяному ветру, ждали станцию. А некоторые уже вынули котелки и ложки.
Но прошёл ещё час, прежде чем эшелон наконец затормозил на каком-то маленьком полустанке. И как только вагон остановился, солдаты сразу зашумели, стали спорить, кому бежать за кашей. И конечно, кто-то сказал:
– Пусть Уточкин сбегает…
И тогда все столпились возле Уточкина и заговорили разом.
– Ну, давай, давай, Уточкин, беги, – торопили его солдаты.– Одна нога здесь, другая – там. Ты же у нас спортсмен, что тебе стоит! Сколько людей спасёшь от голодной смерти – сам подумай! Сам Министр обороны тебе благодарность объявит! Ну, беги!
– Так приказа ещё не было… – нерешительно возражал Уточкин.
– Ну да, не было! Вон из других вагонов уже побежали! Беги, беги, Уточкин!
Все уговаривали Уточкина, а сержант Караваев, который был старшим в вагоне, делал вид, что ничего не слышит, потому что, конечно, не положено без разрешения начальника эшелона выскакивать из вагона, но сержант тоже был голоден. "А может быть, – говорил он себе, – и разрешение уже есть, только до нас ещё не дошло…"
Уточкин послушно натянул шинель, взял большой плоский термос с лямками, который надевался за спину, точно ранец, выпрыгнул из теплушки и побежал к вагону, где размещалась походная кухня.
Он благополучно добрался до этого вагона и, терпеливо выслушав наставительную воркотню повара, получил овсяную кашу и хлеб и сахар и теперь уже с грузом заторопился обратно к своей теплушке.
Не остановись он на минуту, чтобы поправить крышку термоса, наверно, всё обошлось бы хорошо, без происшествий. Но он остановился.
И как раз в этот момент эшелон вдруг тронулся. Уточкин сначала даже не заметил этого, потому что, наклонившись, возился с термосом. Он только услышал, как лязгнули буфера. А когда поднял голову, вагоны уже медленно проплывали мимо него.
Ему надо было немедля подхватить термос и сунуть его в первый попавшийся вагон, а потом запрыгивать самому, но он на секунду растерялся, руки у него были заняты – в одной хлеб, в другой термос, а вагоны двигались всё быстрее и быстрее. Вот уже предпоследний вагон. Уточкин кинулся к нему, но двери теплушки как назло были закрыты. Ещё и тут он мог успеть вскочить на последнюю площадку, если бы оставил, бросил свой термос. Но как бросить такой прекрасный, такой новенький термос, к тому же наполненный горячей, только что сваренной овсяной кашей! Эта мысль даже и не промелькнула у него в голове.
А поезд уже удалялся, только светились в густых сумерках красные огоньки последнего вагона…
Уточкин стоял на насыпи и смотрел ему вслед, ещё не веря в то, что случилось. Всегда больше всего он опасался отстать от эшелона, всегда послушно забирался в вагон одним из первых, едва только раздавалась команда: "По вагонам!" И вот – на тебе!
Ещё оставалась надежда, что солдаты там, в вагоне, всполошатся, поднимут тревогу, и тогда эшелон остановят. Но потом Уточкин сообразил: конечно же, они уверены, что он успел заскочить в какой-нибудь другой вагон и на следующей остановке как ни в чём не бывало явится к ним – так что шуметь, поднимать переполох совершенно ни к чему – только наживёшь лишние неприятности, только попадёт потом от начальства за то, что без команды отправился Уточкин за кашей. Так что, ясное дело, они сидят сейчас и помалкивают и ждут его. И не подозревают, что он стоит одиноко на этом несчастном полустанке и смотрит вслед поезду…
Впрочем, надо было что-то предпринимать. Не торчать же вечно на пустынной платформе!
Уточкин разыскал дежурную железнодорожницу, и она рассказала ему, что ближайший поезд, который останавливается здесь, будет только утром и что до следующей большой станции отсюда ровно шестнадцать километров.
– И как это тебя угораздило, парень? – сочувственно сказала она.
Только этого сочувствия ему сейчас и не хватало! Он и так винил себя за то, что отстал от поезда и оставил солдат без ужина, и отлично представлял, как встретят теперь его товарищи. Насмешки, остроты уже звучали в его ушах.
– Ночуй здесь, – сказала женщина. – Делать нечего, завтра догонишь.
– Нет, нет, – торопливо сказал Уточкин. – Нет.
Он уже прикинул в уме: шестнадцать километров – это примерно три часа. А там на станции он разыщет коменданта, и комендант поможет ему догнать эшелон. Всё лучше, чем томиться здесь до утра.
Он вскинул за спину злополучный термос и зашагал вдоль железной дороги.
Сначала идти было легко, но потом тяжесть термоса стала давать себя знать. Несколько раз Уточкин проваливался по колено в снег. Морозный ветер обжигал ему щёки. Конечно, за время солдатской службы Уточкину не раз приходилось совершать переходы и марш-броски в полной солдатской амуниции, и это было ничуть не легче, чем теперь тащить кашу. Но одно дело – бежать вместе со всеми, а совсем другое – брести вот так, одному. Да ещё знать, что впереди тебя ждут одни неприятности – нагоняй от начальства и упрёки товарищей.
От таких мыслей и термос с кашей становился тяжелей, и лямки нещадно врезались в плечи.
Дважды, обдав Уточкина снежной пылью, его обгоняли составы, и Уточкин с завистью смотрел им вслед.
Сколько же он будет тащиться с этой кашей?… Ну, хорошо, доберётся он до станции, а эшелон наверняка уже ушёл – и что дальше? Догонять на попутных? И всё с кашей?… Глупо, в конце концов…

А как легко будет идти, если…
Уточкин поставил термос на снег и решительно открыл крышку.
Но тут он представил себе горку каши на обочине тропинки, целый холмик каши, растекающийся в разные стороны. Нет, не мог он этого сделать. Не мог, и всё. Это было всё равно что наступить на хлеб. Или плюнуть в колодец. Не мог он.
Уточкин вздохнул и снова поднял тяжёлый термос.
Вот уж не везёт так не везёт. Отстал бы он от эшелона с гранатомётом, или с ящиком патронов, или, на худой случай, с автоматом. А то – с кашей! "Уточкин? Опять Уточкин? Вечно этот Уточкин! Уточкин с кашей! Что делал Уточкин на учениях? Уточкин тащил кашу! Ха-ха-ха!"
Так он шагал и шагал вдоль железной дороги то по тропинке в снегу, то по скользким шпалам, занятый своими невесёлыми мыслями. И когда ему стало казаться, что конца не будет этому пути, впереди вдруг возникла станция.
Совсем близко весело светились огни.
В заснеженных сапогах, с термосом за спиной, промёрзший Уточкин предстал перед комендантом станции. Комендант, пожилой капитан, молча и неодобрительно выслушал Уточкина.
– Значит, отстали? – переспросил он.
– Так точно, – сказал Уточкин.
– А что это у вас, товарищ солдат? – И комендант подбородком указал на термос.
– Каша, – сказал Уточкин.
– Каша? Какая каша?
– Овсяная, товарищ капитан, – сказал Уточкин.
– Да мне один чёрт – овсяная или гречневая! Я не спрашиваю "какая", я…
– Как это не спрашиваете? – обиделся Уточкин. – Вы только что сами сказали "какая"!
– Да я в другом смысле спрашивал "какая"! – сказал капитан. – Откуда она у вас – вот в каком смысле. Куда вы её несёте?
– Это он, товарищ капитан, прихватил с собой, чтобы в пути не проголодаться, – вставил лейтенант, помощник коменданта.
Уточкин обиженно промолчал.
– Что же вы, так с кашей и будете путешествовать? – спросил комендант.
Уточкин пожал плечами.
– Ну вот что, – сказал комендант. – Считайте, что вам повезло. Вам и вашей каше. Сейчас я посажу вас на скорый поезд, на следующей узловой станции догоните эшелон.
… Было уже совсем темно, когда на запасном пути Уточкин отыскал свой эшелон. Дверь теплушки была задвинута, и он сильно забарабанил в неё кулаком.
– Кто там? Свои все дома! – раздался жизнерадостный голос сержанта Караваева, и в следующий момент дверь с грохотом отъехала в сторону.
– Братцы! – закричал Караваев. – Кого я вижу! Уточкин явился!
Навстречу Уточкину из теплушки потянулись сразу несколько рук.
Уточкин взобрался в вагон. Потом медленно снял и опустил на дощатый пол тяжёлый термос.
– Вот… – сказал он. – Каша…
И только тут он увидел в сторонке сложенные горкой грязные котелки. А чуть поодаль возле печки стояла миска, накрытая плоской алюминиевой тарелкой.
– Это тебе ужин, – сказал Караваев. – Ещё не остыл.
Уточкин хотел что-то ответить, но его уже окружили солдаты, затормошили, задёргали, радостно загалдели, не дали сказать ни слова…
Начиная с этого дня отношение к Уточкину заметно изменилось. Во всяком случае, теперь, если в роте появлялся новичок, то среди других историй, прославивших третью роту, ему непременно рассказывали и историю о том, как Уточкин отстал от эшелона и как шестнадцать километров тащил солдатскую кашу…
Карен Багдасаров – фокусник

Был ещё один интересный человек в нашем взводе – Карен Багдасаров. Нам, конечно, эта фамилия ни о чём не говорила, но он всерьёз уверял, что в его родном городе Багдасарова знает каждый.
– Кио знаешь? – говорил он, поблёскивая чёрными глазами.– Так вот, если в нашем городе повесят два объявления и на одном крупными буквами будет написано "КИО", а на другом – "БАГДАСАРОВ", никто не пойдёт смотреть Кио, все пойдут смотреть Багдасарова. Верно говорю…
Он и правда привёз с собой в армию значок лауреата районного фестиваля – маленький позолоченный кружок с изображением лавровой веточки – и даже носил его на гимнастёрке до тех пор, пока не попался однажды на глаза старшине.
– Это что ещё за украшение? – строго спросил старшина.– Снять немедленно!
Карен не торопясь отстегнул значок, повертел между пальцами и… на его ладони вместо позолоченного кружка оказалась самая обыкновенная двадцатикопеечная монета.
Старшина покачал головой, посмеялся, но значок носить всё же не разрешил.
Нам Багдасаров нравился. Был он весёлый парень, и каждый раз, когда мы отправлялись на кухню чистить картошку, он рассказывал нам фантастические истории из своей жизни.
Оказывается, самый главный фокусник Армении собирался выдать за него замуж свою дочь. А потом раскрыть ему все секреты. 1600 секретов! Но Карен отказался. Что поделаешь, – ему не нравилась дочь фокусника. И кроме того, ему больше хотелось учиться в радиотехническом техникуме, чем у фокусника, пусть даже самого знаменитого.
А секретов ему и своих хватало. И ещё он придумывал новые. Однажды он придумал такой фокус, что у районного Дома культуры даже не хватило денег на все механизмы и приспособления. Пришлось добавлять свои. Ведь, когда речь идёт о стоящем фокусе, ничего не жалко. Фокус назывался: "Смерть атомной бомбе!". Всё было уже готово, но пришли пожарники и запретили его показывать. Они боялись, что взрыв будет слишком сильным. А как взрыв мог быть слишком сильным, если всё было рассчитано заранее, всё было сделано на научной основе?
Карен увлекался и сердито размахивал руками.
– Ты говори-то говори, – ворчал Юрий Савицкий,– а про картошечку тоже не забывай…
– А я, знаешь, не умею два дела делать, – быстро отвечал Багдасаров. – Хорошо, я буду чистить. Я не буду рассказывать.
– Не слушай ты его! Рассказывай! – хором просили мы все, и тогда он пожимал плечами и говорил Савицкому:
– Сам видишь. Народ требует.
Вообще он был человек хитрый.
Однажды в субботу, когда в казарме начиналась генеральная уборка, он подошёл к старшине и сказал:
– Товарищ старшина, если музыкант перед концертом станет пол мыть, – что получится? Товарищ старшина, у меня завтра выступление, нужно, чтобы сегодня руки отдыхали…
– Ах, я и забыл, что ты у нас артист, – с усмешкой сказал старшина, но от работы освободил.
И пока мы передвигали койки и мыли полы, Карен сидел себе на скамеечке перед казармой и как ни в чём не бывало читал книгу. Честно говоря, нам это не очень понравилось. А особенно злился Юрий Савицкий, которого старшина назначил вместо Багдасарова.
– Подумаешь! – ворчал Юрий. – Чародей! Народный артист! Шпагоглотатель! Ещё неизвестно, что он завтра покажет…
Да, это было неизвестно. Обычно Карен очень редко показывал свои фокусы в казарме, и то лишь самые простые – с исчезающими монетами и носовыми платками, которые развязывались сами по себе. Репетировать же он всегда уходил в клуб, и репетировал там в одиночестве, запершись в маленьком кабинете начальника клуба. Там же он хранил все свои фокуснические атрибуты. И сколько мы ни просили, не соглашался раскрыть нам ни одного своего секрета.
– Зачем? – говорил он. – Чтобы стать фокусником, надо каждый день тренироваться. Полгода тренироваться. Год тренироваться. Ты будешь год тренироваться? Нет, не будешь. Зачем тогда тебе секреты? Верно я говорю?
Конечно, он говорил верно. Однако и наше любопытство, и наши сомнения – а может быть, он и не умеет ничего, кроме махинаций с носовыми платками и монетами? – от этого ничуть не уменьшались.
Но наступило воскресенье, и все сомнения рассеялись.
Багдасаров был великолепен.
Он появился на сцене в белом медицинском халате, усыпанном синими бумажными звёздами, он раскланялся неторопливо и важно, совсем как настоящий иллюзионист, и сразу же принялся ловить в воздухе маленькие шарики – белые, красные и зелёные – и аккуратно складывать их на стул. Потом он доставал у себя изо рта бесконечную разноцветную ленту, потом на виду у всех наливал воду в бумажный кулёк так, что кулёк оставался абсолютно сухим, глотал шарики и попутно, сунув в карман халата синий платочек, через минуту вынимал оттуда жёлтый… И наконец, в довершение всего, он вытащил на сцену обычный фанерный ящик, такой, в каких присылают солдатам посылки из дому, заставил всех убедиться, что ящик пустой, поставил его на стол, повертел из стороны в сторону, и в следующий момент из ящика уже выскочил кролик, настоящий, живой, удивительно похожий на тех, что жили в проволочной клетке возле дома нашего старшины…
Весь зал аплодировал и топал сапогами от восторга.
А мы, конечно, аплодировали громче всех и посматривали на своих соседей с гордостью и превосходством – как-никак, а Карен Багдасаров служил в нашем взводе! Даже Юрий Савицкий забыл о своих субботних обидах и аплодировал вместе со всеми.
И когда Карен, усталый и сияющий, вернулся после концерта в казарму, мы окружили его и принялись поздравлять и даже расстраивались немного, потому что были уверены, что такой артист долго не удержится в нашем взводе – наверняка его заберут в какой-нибудь эстрадный ансамбль, в окружной Дом офицеров…
Но тут, сверкнув очками, вперёд просунулся Семён Верховский и сказал:
– Подумаешь! Об этих фокусах даже в "Юном технике" писали. Я читал.
Он был очень начитанный человек, Семён Верховский. Он сам как-то рассказывал, что дома до армии выписывал три газеты и пять журналов. И поэтому его ничем нельзя было удивить. О чём бы ни зашла речь, он обязательно говорил: "А я читал…"
Багдасаров моментально вспыхнул, обиделся.
– Зачем так говоришь? – укоризненно сказал он. – На, на, сделай, если можешь. Сделай, очень прошу тебя…
И он сунул Верховскому два разноцветных платка.
Верховский платки взял и начал с очень серьёзным видом прикладывать их один к другому. Он морщил лоб, печально шевелил ушами, так что даже дужки очков приподнимались, завязывал на платках узелки, снова развязывал их – конечно, у него ничего не получалось.
– Забыл… – вздохнул он. – Но всё равно – когда-нибудь я тебя поймаю. Только вот присмотрюсь повнимательнее и поймаю. Необъяснимых фокусов нет.
– Опять зря говоришь! – воскликнул Багдасаров. – Умнее тебя люди смотрели – ничего не видели. Говорю – десять раз буду делать, сто раз буду делать – ничего не заметишь!
– Замечу, – упрямо повторил Верховский.
– Ладно, хорошо, давай спорить! Если заметишь, я тебе все свои секреты буду рассказывать. А не заметишь, – ты свои глупые слова назад возьмёшь. Идёт?
– Идёт, – сказал Семён.
Они протянули друг другу руки, и с этой минуты начался спор, к которому сначала никто из нас не отнёсся всерьёз. Мы были уверены, что пройдёт два – три дня, и оба забудут о нём.
Но мы ошиблись. Карен был обидчив, а Семён принципиален, ни один из них не хотел уступать.
Карен теперь совсем перестал показывать свои фокусы в казарме.
– Сцена нужна. Настроение нужно. Обстановка нужна,– говорил он.
Зато, когда Багдасаров выступал в клубе, Семён Верховский всегда пробирался в первый ряд и, поблёскивая стёклами очков, не отрываясь следил за каждым его движением. Иногда он вдруг радостно подавался вперёд – наверно, ему казалось, ещё чуть-чуть – и раскроется секрет багдасаровского фокуса, но минуту спустя он разочарованно откидывался на спинку скамейки.
И каждый раз, окончив выступление, Карен насмешливо спрашивал его:
– Ну как, дорогой, заметил?
И Семёну приходилось признаваться: нет, ничего не заметил.
Прошёл месяц. Багдасаров выступал теперь реже, реже уходил на репетиции в клуб. Ночами нас всё чаще поднимали по тревоге, да и днём занятия становились всё тяжелее. Тактическая подготовка, сапёрное дело, противоатомная защита, работа в противогазах, да ещё строевая – мы возвращались в казарму совсем измотанные, а тут нужно было ещё смазывать автоматы, протирать резиновые маски, отмывать с сапог жирную осеннюю грязь. Тут уж было не до фокусов…
Но однажды нашему взводу пришлось особенно тяжело. Как раз накануне нам сделали уколы – прививки против чумы, а ночью, уже под утро, подняли по тревоге.
В полной боевой форме мы проделали пятикилометровый марш-бросок. У нас ещё побаливали спины; в школе и техникуме уколы всегда были достаточной причиной для того, чтобы дня три не ходить на занятия, здесь же после марш-броска нам ещё предстояло копать укрытия. Глина была вязкая, тяжёлая, она налипала на лопаты, плохо поддавалась, и дело шло медленно.
А лейтенант, командир взвода, смотрел на часы, лейтенант торопил нас, потому что мы должны были уложиться в определённое время.
Мы закончили работу только к полудню. Наши гимнастёрки были насквозь мокрыми от пота, руки ныли.
И во время мы не уложились. А это значило, что завтра повторится то же самое, и послезавтра, и послепослезавтра – до тех пор, пока мы не уложимся в норму.
Лейтенант дал нам двадцать минут на перекур. Он отозвал сержантов в сторону, и они о чём-то совещались, а мы, накинув шинели, сидели или лежали прямо на жухлой осенней траве.
Мы устали, были голодны и раздражены. А впереди нас ещё ждал пятикилометровый путь в казарму. Когда кто-нибудь из солдат прикуривал, спичка прыгала у него в непослушных пальцах.
Юрий Савицкий натёр на ладонях кровавые мозоли и теперь, сокрушённо морщась, разглядывал их.
– Вот из-за таких белоручек и не уложились… – неожиданно сказал кто-то.
Эта фраза была как первая искра.
– На себя лучше посмотри! – огрызнулся Юрий.
– Оба хороши!
– Конечно, вот из-за таких и не успели…
– А сам три раза лопату менял!
– Это я? Я – три раза? А ты видел?
Обычно наш взвод был очень дружен, но сейчас усталость и ощущение бесплодности проделанной работы давали себя знать.
Мы все понимали, что ссориться глупо, но раздражение уже не давало остановиться.
– Замолчи лучше!
– Сам замолчи!
– Привык языком работать!
– А ну, повтори! Повтори, что сказал!
– Думаешь, испугаюсь? Видали мы таких!
Ещё минута – и уже вспыхнула бы настоящая ссора. Но в этот момент вдруг вскочил Багдасаров.
– Ребята! – укоризненно крикнул он. – Зачем так делать?
На него не обращали внимания.
– Ребята, лучше сюда смотрите! – кричал он. – Все сюда смотрите! Внимание! Начинаю!
Он протянул руку и вынул из пилотки у Савицкого трёхкопеечную монету. Потом шагнул к его соседу и достал ещё одну. Потом ещё. Он шёл среди солдат и у кого из пилотки, у кого из кармана шинели, у кого из противогазной сумки вынимал маленькие медные монеты. У него уже была почти полная пригоршня меди, а он осторожно, двумя пальцами, всё вытаскивал и вытаскивал новые медяки. И при этом на его осунувшемся, перепачканном глиной лице появлялось такое изумление, словно и для него это было великой неожиданностью…


Мы заулыбались. Те, кто лежал на траве, поднимались и усаживались поудобнее.
А Багдасаров вернулся назад, на своё место, и начал одну за другой подкидывать монеты вверх. И монеты исчезали, точно растворялись в воздухе. Он делал это красиво и ловко, только на носу у него выступили крошечные капельки пота.
Но ведь у него тоже были усталые руки. И вдруг мы увидели, как он замешкался на секунду, заметили, как он перебросил монету из одной руки в другую. Он тут же подкинул вверх следующую, словно ничего не случилось, но мы-то уже поняли, в чём заключается секрет фокуса…
И все мы разом быстро обернулись и посмотрели на Семёна Верховского. Но Семён даже не шевельнулся; он, как обычно, солидно поблёскивал очками, и лицо его было серьёзно и непроницаемо.