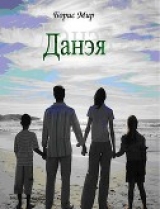
Текст книги "Данэя (СИ)"
Автор книги: Борис Мир
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
... Оставалось два часа до начала. Астронавты собрались в рубке. Стараясь не выдать волнения, они обнялись в последний раз. Потом сняли одежду и уселись в кресла в камере переноса. Через толстые стенки иллюминаторов против каждого кресла были видны часы: основные бортовые и специальные, отсчитывающие время до начала переноса.
Они надели прозрачные шлемы-скафандры с трубками, подводящими дыхательную смесь, и через десять минут, когда стрелка специальных часов подошла к первой черте, камера начала заполняться слегка нагретым раствором весьма сложного состава. Затем стрелка подошла ко второй черте, и надулась от подачи сжатого газа внутренняя оболочка, вытесняя жидкость, плотно облегая тело со всех сторон, прижимая его к креслу.
Тело почти не чувствуется: жидкость сделала свое дело – ощущение легкости удивительное. В рубке загорается красный свет, в наушниках звучит отсчет оставшихся секунд.
И вот: десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна. Старт!
В глазах сразу темнеет, как при сильных перегрузках, и в ушах возникает высокий монотонный звук, как будто идущий изнутри. Начинается выход в гиперпространство.
Стены камеры и корабля становятся прозрачными, тают, исчезают. Они сами – тоже прозрачными, огромными, бесплотными, невесомыми. Звезды, газовые и пылевые облака, планеты, кометы, болиды – с невообразимой скоростью несутся прямо через них, появляясь из пространства и мгновенно исчезая в нем.
Они несутся всё быстрей, сливаясь, и пространство становится тонким и, сбиваясь складками, обретает плотность, ощущаемую верхним нёбом рта. Видно всё: себя, соседей, экспресс. Со всех сторон: снаружи, изнутри – во всех деталях и подробностях.
Собственное тело, соседи, пылающий корабль множатся бесчисленным количеством повторений, убывающих, исчезающих – и вырастающих, приходящих по бесконечному числу осей, исходящих из места-момента нахождения тела, и каждая ось имеет свой закон, свою метрику и свое время, свою цветозвуковую тональность, плотность и напряженность. Всё кружится, вибрирует, движется непрерывно: мгновениями, годами, веками, тысячами, миллионами, миллиардами, триллионами лет, – томительно долго, вечно. Нет выхода и нет исхода. Вибрируют, стремительно перебегают огни, меняя интенсивность, меняя цвет от отчетливо видимого ультрафиолетового до инфракрасного. Несется к собственному центру поток повторений по бесконечному ежу осей: прямых, кривых, спиральных. Гиперсимфония звуков и красок. И всё необычайно, жутко отчетливо. Нет мыслей, и нет желаний: полная отрешенность, покой и равнодушие. Долго. Вечно. Навсегда. Никогда иначе.
… Но потоки замедляют свое движение, уменьшается количество повторений и осей, они сжимаются, стягиваются к центру, к месту-моменту, в котором находится человек, сливаются в единственное единое. Распрямляются складки пространства, освобождая рот. Пространство растет, и вновь несутся сквозь огромное бесплотное тело звезды, облака, кометы, планеты и глыбы. Постепенно стенки корабля обретают плотность, становятся непрозрачными; обретает плотность собственное тело, неподвижно зажатое воздушным мешком.
Темнеет в глазах, – всё исчезает...
Они очнулись, погруженные в жидкость, пузырящуюся кислородом. Когда она сошла, Дан увидел в иллюминаторе бортовые часы: прошло девять часов тринадцать минут. Более чем прекрасно! Экспресс прошел по какому-то кратчайшему туннелю гиперпространства и вышел в другое его четырехмерное сечение.
Двигаться они ещё были не в силах. Ощущение сильнейшей слабости, учащенное сердцебиение, одновременное ощущение жуткой тошноты и острого голода.
Наконец, трясущимися руками Дан сумел стянуть с головы шлем. И тут же судорожная рвота и следом мучительный понос буквально вывернули его наизнанку. Но сразу же он почувствовал себя легче.
Он повернулся к Эе, помогая ей снять шлем. И сразу же с ней произошло то же, что с ним, – только сильней.
Уже вдвоем они занялись Лалом. У того всё произошло гораздо тяжелей.
Находиться в камере они больше не могли. Сильно кружилась голова, подгибались ноги, тряслись колени. Они задыхались от зловония.
Поддерживая с двух сторон Лала, который почти не мог сам идти, они выбрались из камеры и медленно, с трудом, добрались до бани. Помогая друг другу, смыли с себя нечистоты, затем напились горячего настоя лимонника. Потом Эя осталась ухаживать за ещё слабым Лалом, а Дан, чувствуя, что уже может твердо двигаться, отправился в рубку.
Он захлопнул дверь загаженной камеры и включил голограф траектории. Заработали приборы координации, и через короткое время возникла голограмма звездного пространства со светящейся линией траектории, размытой между начальной и конечной точками гиперпереноса. На экране зажглись цифровые показатели координат, и Дан не сдержал восторженного возгласа: выход корабля произошел с очень малым отклонением – порядка полсигмы.[5] Значит, через три месяца они будут у планетной системы, в которую входит Земля-2!
Он передал эту весть Лалу и Эе, как и он, радостно её воспринявшими. Лал чувствовал себя уже лучше, и Эя ушла проведать животных в их камерах и забрать оттуда щенка.
Оказалось, что животные перенесли выход значительно лучше людей. Щенок бежал перед Эей, громко тявкая и виляя хвостом.
Через два часа они с удивлением почувствовали полнейшее отсутствие неприятных ощущений. Эя произвела осмотр: пропустила обоих мужчин и сама прошла через кибер-диагност. Всё, действительно, были в полном порядке. Тогда перебрались в рубку, уселись в кресла, и Дан включил рулевые двигатели, чтобы сориентировать экспресс в сторону планетной системы Земли-2. После этого они подкрепились, и Лал с Эей отправились спать.
... Дан остался на вахте. Он сидел в рубке, посасывая трубку. Слышно было, как робот ползает по камере, отмывая и дезодорируя её. Дан включил экран-купол и жадно смотрел на незнакомые очертания созвездий. Нажав кнопку, выделил звезду, к которой летел корабль.
Потом переключил экран на изображение обратной стороны пространства – и обрадовался, увидел кое-где знакомые созвездия. Он нажал другую кнопку и выделил Солнце среди огромного количества кажущихся незнакомыми звезд.
Там Земля: зеленые растения, города, люди. Прекрасная Лейли. Здесь их только трое. Но ближе их – Лала и Эи – для него давно нет никого.
В том, что они здесь, – немалая заслуга Лала. Его рассказ о графиках разностей простых чисел в день их первой встречи явился толчком, приведшим к завершению более чем столетней работы – созданию теории гиперструктур, переместившей основные понятия подобно сегодняшнему переносу. И благодаря этому они сейчас здесь. Ему удалось сделать это: Дан не гордился, он только был доволен.
Мысль его вернулась к Лалу. Сколько лет прошло с тех пор? Немало. Столько пережито вместе, столько переговорено. И всё же Лал часто о чем-то думает, но не говорит, умалчивает. Такое иногда приходило в голову и раньше, но он слишком быстро об этом забывал, поглощенный собственной работой. Сейчас, когда они были заняты мало, эта мысль появлялась всё чаще. Что мучает его? Не решает ли какие-то сложнейшие вопросы в своей области? И может быть, не менее трудные, чем когда-то пришлось решать ему самому. Какие?
Эя появилась в дверях рубки, прервав его размышления.
– Дан, я уже отдохнула. Иди, поспи.
– Не хочу, спасибо.
– Иди, я, всё равно, больше спать не буду.
– Да я тоже не засну.
– Тогда я посижу с тобой. Или ты хочешь побыть один?
– Нет: посиди. Лал спит?
– Нет, конечно. – Лал стоял в двери со щенком на руках. – Всё равно не уснуть. Давайте ужинать?
– У тебя гипераппетит?
– Отнюдь: только желание отметить наш перенос. Ставлю на голосование.
– За.
– За!
– Отлично: устроим торжественный ужин с праздничной сервировкой.
Они перешли в сад-салон. Робот прикатил туда столик с небольшим количеством закусок: есть им, в общем-то, и не хотелось. Только отпраздновать событие. Хотя и без вина – космос есть космос, и нарушать запрет никому не приходило в голову: в кубки налили душистый тонизирующий нектар.
– Дан, первый тост за тобой.
– Что ж, ладно. Я поднимаю кубок за вас, прекрасные мои, за достижение цели и за Землю-2! Теперь ты, Лал.
– Уступаю очередь Эе.
– Я пью за зеленую планету и кислород, которым можно будет дышать! За Дана, сотворившего чудо, и за честь и счастье быть с вами!
– Ну вот! Произошло такое событие: люди в полном своем естестве, с руками-ногами, а не полуискусственные киборги, перенеслись за считанные часы за сотни парсек[6]. Это же, действительно, – чудо! Эя правильно сказала. Но так мало. А Дан ещё меньше. Говорите ещё! Самые пышные выражения сегодня не будут высокопарными.
– Тогда скажи ты, младший брат: всё равно, лучше тебя никто не скажет.
– Ты не совсем прав: об этом уже были сказаны прекрасные слова – и не мной. Я их сейчас напомню. – Он быстро нашел нужное в своем архиве, включил воспроизведение. На экране появился Дан в яркой праздничной одежде, произносящий речь в день прихода сообщения об открытии Земли-2. Когда экран погас, Лал повторил его последние слова: – “И может быть, идя к цели, мы откроем нечто хорошее в себе самих – новое, ещё неизвестное. Или вспомним что-то, что растеряли раньше на пути нашего развития”. Пью за эти великие слова и за прекрасный смысл их!
– По-моему, ты что-то не договариваешь, младший брат.
– Ты прав, Дан! Я скажу. Но не сегодня. Лучше сыграй нам. Что-нибудь старинное. Бетховена. Пожалуйста!
Дан играл сонаты Бетховена. Неукротимая мощь музыки как никогда подходила к их настроению, взволнованности. Закончил он исполнением “К Элизе”– глядя на Эю.
“Прекрасно, Дан! Прекрасно, мой старший брат. Ты сможешь – ты поймешь всё!” – думал Лал, глядя на Дана повлажневшими глазами. Эта вещь, в которой звучала трогательная нежность, сегодня совершенно потрясла его.
– Идите отдыхать, сказал он, – сказал он. – Я останусь на вахте.
– Спасибо, брат. Пойдем, – сказал Дан, протягивая Эе руку. – Спокойной тебе вахты!
– Чудесной вам ночи! – Лал проводил их взглядом. Эя будет с Даном: он заслужил это сегодня. А ему, Лалу, совершенно необходимо побыть сейчас одному.
... Через три месяца они будут у цели. Всего три месяца. Потом неизвестно, как сложится обстановка, как пройдет разведка, как встретит их планета, – и многое другое. Сейчас они относительно свободны: могут работать не больше, чем хотят.
Пока – всё идет неплохо: необходимая подготовка проведена. Они жадно впитывали всё, что он говорил: социальные темы по настоящему интересуют их. Пора ознакомить их и с выводами. Будет, конечно, не просто. Но они поймут, они не смогут не понять: как Дан сегодня исполнял “К Элизе”! Какая нежность, сердечность, доброта, какая человечность были в его исполнении, в неслучайном выборе этой пьесы. Без этого всего понять его, Лала, нельзя, – но имея, не понять будет невозможно.
Щенок мокрым теплым носом ткнулся ему в руку; потом, поставив передние лапы на колени, поднял морду и стал вопросительно смотреть в глаза. Лал забрал щенка на руки, погладил.
Пора. Как раз! Дан уже явно кое о чем начинает догадываться: “По-моему, ты что-то не договариваешь, младший брат”. А его неожиданная злость и непривычная для современного языка грубость выражений, когда он говорил об употреблении в пищу мяса неполноценных. Грубость, обрадовавшая Лала не меньше, чем она шокировала Эю.
А Эя беспокоила Лала больше всего, ибо главная роль в его плане отводилась именно ей.
12
Когда стрелка часов подошла к сектору “утро”, в рубке появился Дан, чтобы сменить Лала. Сказал, что неплохо бы устроить праздничный день; Эя тоже так думает. А Лал?
Не против, – но тогда лучше сразу идти париться: поспит он после бани.
В парилке было жарко – пожалуй, более чем обычно. Мысль Лала заскользила по цепочке. Жара. Экватор. Африка. Негры. Потом: негры-рабы. Америка, южные штаты. Дядя Том! Стоп!!!
“Хижина дяди Тома” американской писательницы-аболиционистки Гарриет Бичер-Стоу. Книга, невероятно потрясшая его в детстве. Так! С нее он и начнет. В ней есть всё: рабство, насилие, торговля людьми, – и материнская любовь.
Он спросил Дана и Эю, помнят ли они эту книгу, входившую в программу гимназии, когда они, закутавшись в простыни, уселись на диванах.
– Ещё да, – ответила Эя, – но уже лишь в общих чертах.
Дан только покачал головой: помнил, что была такая книга, но содержание – увы! – уже забыл начисто.
– Хотите, напомню, о чем она?
– Для чего?
– Чтобы выполнить вчерашнее обещание.
– А-а! Давай.
Лал перебрал каталог. Пожалуй, сейчас лучше всего подойдет вот этот фильм – ещё ХХ века, цветной, но ещё плоский: зато в нем много американо-негритянской музыки, прекрасная постановка и актерский состав. На три с половиной часа.
Так что ему было не до сна. Смотрел – и сам фильм, и как они воспринимают. Радовался их реакции, их негодованию, слезам Эи. Пел беззвучно вместе с черными рабами их псалом: “Джерихон, Джерихон!”. Он видел, что дело сделано: теперь они сами зададут вопросы, и он скажет всё, что думает.
– Как можно – лишать свободы совершенно полноценных людей! – с возмущением сказала Эя вскоре после того, как экран погас. Дан молчал.
Лал усмехнулся: и это всё? Он ожидал большего!
– А их не считали полноценными. Их привозили из Африки: она была отсталой по сравнению с Европой, откуда пришли белые американцы.
– Но ведь Джордж Гаррис способней и грамотней своего хозяина!
– Он для хозяина полунегр: неполноценный человек. Белый хозяин в этом нисколько не сомневается.
– Но это же неправильно! Несправедливо! Как только они могли терпеть!
– Не всё же: ты видела.
– Да: бежали. В Канаду.
– Хорошо хоть, что у них, всё-таки, было куда бежать, – вдруг заговорил Дан. – Вот Эя думает, как это могло тогда быть. А я о том, почему подобное возможно и в наше время. Так же думаешь и ты, Лал, и именно это всё время не договариваешь. Так?
– Да. – Так сразу?!!! Неужели?! – Дан...
– Потом! Пир не отменяется. Быстро одеваться!
– Дан, я совершенно не поняла тебя. Что ты имел в виду?
– То, что существует! Неравноправие. Что существуем мы, полноценные, интеллектуалы – и они, неполноценные. Одного из которых умертвили, чтобы я мог сейчас жить.
– Но это же совсем другое дело. Они ведь – действительно – неполноценные.
– Почему?
– Потому, что такими родились.
– Ты так думаешь?
– Конечно! Они появляются на свет так же, как мы. Отбраковывают только совершенно неспособных детей.
– Не способных к чему?
– К интенсивному интеллектуальному труду.
– Но может быть, они способны к какому-то другому труду?
– А кому он нужен? Есть машины: автоматы и роботы.
– Так почему бы им ни делать даже многое из того, что делают автоматы?
– Но что из того? Они же, всё равно, будут делать не то, что мы. Значит – автоматически – не будут равны нам: не будут полноценными членами нашего общества.
– Они смогут чувствовать себя полноценными среди себе подобных.
– Да именно так ведь – сейчас и есть. Противоречие снято? Лал! Как ты считаешь?
– К сожалению, внешне ты в чем-то права, – ответил Лал.
– Внешне? В чем-то? И даже: к сожалению?
– Да.
– Но почему?
– Неполноценные не должны быть тем, чем их сделали мы, интеллектуалы.
– Почему вы оба так считаете? Я не согласна с вами!
– Ну, хорошо: скажи, много ты общалась с неполноценными?
– Я? Мало. В основном, когда ещё была совсем маленькой.
– Начнем с этого. Ты говорила, что любила свою няню.
– Думаю, не я одна.
– Ты помнишь, что о нянях говорила Ева?
– Да. Что они тоже специалисты, несмотря на отсутствие полного образования.
– Ты не согласна с тем, что для выполнения их работы, важность и значение которой сомнений не вызывают, полное образование не является абсолютно необходимым?
– Что ж: может быть. Ева, конечно, в этом компетентна. Тем более что люди в таком деле наверняка лучше самого совершенного робота. Но это – лишь часть вопроса.
– С другими группами их ты общалась? С гуриями, хотя бы.
– Ну...
– Что ты думаешь о них?
– То же, что и все. Что с их помощью легко снимаются мелкие временные проблемы удовлетворения сексуальной потребности.
– Прости за слишком интимный вопрос: как это происходило у тебя? Можешь ответить, только если хочешь. Правда, считаю, что нам стоит снять для себя запрет касаться этой темы.
– Я тоже: поэтому отвечу. Ну, во-первых, как у всех – дефлорация. А потом – когда внезапно приходило желание, и было жаль времени на устройство нормального контакта. Или когда не могла заснуть и начинала об этом думать. Иногда – для ознакомления с неизвестным способом или из-за желания испытать что-то очень острое. Вас не коробит?
– Нет: это только твое дело. У тебя всё, как у других. Но что ты ещё думаешь о гурио? Ты сама?
– Удобно. Но... Как бы правильно выразиться...
– Неприятно?
– Да нет. Они, конечно, хороши собой, очень ласковы и выполняют любое твое желание. И специфические данные на высшем уровне, и обучены своему делу просто поразительно. Но, всё-таки, что-то ... не то!
– Вроде скотоложства?
– Да! Именно. Точно! Нет полного удовольствия оттого, что с гурио совершенно невозможно ни о чем говорить. Они ужасно примитивны. Сексуально совершенные животные – и только. Как кобели. Он сделает всё, что, сколько и как ты хочешь, но после этого сразу – отсылаешь его. Как робота. Робот тоже всё делает, только от его присутствия ни тепло, ни холодно.
– Вот именно.
– Но зато это удобно: экономит время, силы, нервы. А им всё равно: они совершенно тупы и бесчувственны.
И тут Дан буквально взорвался:
– Нет!!! Не бесчувственны они! Малоспособны? Относительно – да. Примитивны? Да их же почти ничему и не учили. Поставили в детстве крест на их способностях и на том успокоились. А они, всё-таки, – люди. Люди! Я это знаю. Хорошо знаю! – Он повернулся к Лалу. – Почему, почему же ты тянул столько времени? Я же ... я же слишком давно тоже считал, что у нас не всё в порядке.
– И не единым словом не обмолвился об этом, – попытался оправдаться Лал. Больше перед собой, чем перед Даном.
– Как и ты почему-то. Не принято ведь об этом говорить: вжились мы все – с детства – в представление о непогрешимо окончательной правильности устройства нынешнего общества. Сломать, отказаться от него ведь не легче, чем пришлось мне с физическими представлениями, чтобы поверить в гиперструктуры. Великое всеземное общество интеллектуалов – ученых, инженеров, деятелей искусства: демократичное до последней степени! Вооруженное совершенными теориями и сверхмощными моделирующими машинами. Способное на совершение только крупнейших принципиальных ошибок! То, что мы имеем, даже хуже рабства: раб мог стать свободным, а неполноценный... О чем говорить! А они ведь люди – чувствуют, как люди: я это знаю очень давно.
– Ты тоже: специально интересовался неполноценными?
– Нет. Это получилось иначе.
Тогда – давно ещё – когда я подошел к идее гиперструктур. Принятие её требовало отказа от слишком большого количества существовавших представлений.
Я вел мучительные поиски возможности обойти необходимость добраться до истины тем путем. Они требовали напряжения сверх всяких пределов, – и с какого-то момента я начал замечать, что у меня вообще перестает что-либо получаться. Появился непонятный страх, тоска. Ночью – не мог оставаться один, так как не спал почти совсем.
Я стал тогда каждый вечер вызывать к себе одну и ту же гурию. Она была не очень-то молода, тучная, с большим животом и грудью. У меня не было совсем желания, но с помощью своего искусства она иногда добивалась, что я брал её, после чего ненадолго чуть успокаивался. В остальное время мне было достаточно того, что я не один. Ощущение её присутствия, тепло её тела, к которому я прижимался, даже звук её дыхания помогали мне пережить ещё одну бесконечную ночь.
Через несколько дней, вернее – ночей, она начала ко мне привыкать.
– Тебе плохо, миленький? – спрашивала она, ласкаясь ко мне.
– Да, Ромашка. – Ведь нормальных имен у них нет.
– А сейчас сделаю так, что будет хорошо тебе. – И старалась, сколько могла – но безрезультатно.
– Говори, – просил я её. – Рассказывай что-нибудь.
– Что рассказывать, миленький?
– А что угодно.
– Прости: нечего мне рассказывать – не знаю я ничего.
– А ты расскажи про себя.
– Да разве можно?
– Ну, я тебя прошу.
... Она, действительно, знала и понимала очень немногое.
В школе ей всё плохо давалось, – некоторые дети дразнили её за это. Потом ей сказали, что она поедет в другую школу, где дразнить её никто не будет.
И, правда: в школе, где были только девочки – и женщины, которые за ними смотрели, никто её не дразнил. Много учиться не заставляли, и ей там очень нравилось. Потом её стали гладить по щекам и говорить, что она очень миленькая. Потом она испугалась крови, но тетя сказала, что теперь она большая, и бояться не надо, потому что у всех девочек так. И у нее стали расти волосы под мышками и груди, маленькие.
И она уехала в другое место, где жили девочки, у которых уже выросла грудь, и они все были миленькие. Им было весело. Их учили пению, танцам и как делать, чтобы быть ещё красивей. И занимались с ними гимнастикой и спортивными играми, от которых у них красивей становилась фигура.
В залах, где они занимались, иногда появлялись люди, не похожие на них и воспитательницу: выше, с другой фигурой, без грудей, некоторые с усами или бородой. И голоса у них были другие. В перерывах они шутили с девушками, и девушки с ними тоже смеялись и разговаривали. Девушкам нравилось с ними.
Ромашка (так её стали тогда звать, а прежнее имя свое она даже позабыла) с интересом и любопытством рассматривала этих необычных людей.
– Почему ты не такой, как мы? – спросила она как-то одного из них, наиболее охотно болтавшего с ней.
– Я мужчина.
– Это что?
– Как-нибудь пойдем вместе купаться – я тебе объясню.
– А когда? Сегодня?
– Нет, не сегодня.
– А когда?
– Потом.
– Ладно.
Он пришел к ней через сколько-то дней, когда она отдыхала.
– Пойдем купаться!
– А ты мне объяснишь?
– Сегодня объясню.
В комнате, куда он её привел, он велел ей всё снять и разделся сам. Она с интересом рассматривала его тело, так не похожее на её. А потом она стала смеяться, потому что поняла, что это мальчик, только взрослый. А он трогал её везде и гладил грудь, зато разрешил потрогать у него всё, что она хотела. Ещё потом он сказал ей:
– Я тебя научу сейчас самому приятному. Ты не бойся: может быть, будет больно, но потом приятно. – Она охотно согласилась.
Приятно ей, правда, тогда не было. Но потом ей очень понравилось. Остальным девушкам тоже объяснили, и воспитательница и её помощники дальше учили, как надо делать хорошо, чтобы было очень приятно, и показывали про это фильмы. С каждой специально занимался мужчина-гурио, отрабатывая с ней приемы. Мужчины постоянно менялись – так было нужно для их обучения.
Как к торжественному акту готовили девушек к первому выходу как гурии. В этот день их особенно красиво причесали и одели. Вечером в большом разукрашенном зале они танцевали и участвовали в эротических играх с полноценными. Инструкторы-гурио находились рядом и, стараясь всё делать незаметно, поправляли и подсказывали.
Тот, кто танцевал с ней, взял её за руку:
– Пойдем!
– Не надо. Давай танцевать, хорошо? – Но тут же она перехватила взгляд инструктора: удивленный, укоризненный, приказывающий. И она пошла.
Он не умел, как гурио, и было неприятно. Она потому лежала с закрытыми глазами. Он ничего не сказал ей, когда уходил, а она потом заплакала. Пришел гурио, который ей в первый раз объяснил, спрашивал её – она ему рассказала. А он сказал, что нехорошо, и дал ей выпить какого-то сладкого ликера, и ей тогда стало весело и она сама хотела.
Она опять пошла в зал, танцевала, и её позвал другой. Тот делал приятно, а когда ушел, похвалив, инструктор отправил её спать...
– Это нехорошо рассказывать, миленький. Но тебе плохо, а я больше ничего не знаю.
... Ей нравилось. Было весело танцевать и участвовать в играх. Тем более что она нравилась – её чаще, чем многих других девушек звали, и она этим гордилась.
Довольно часто вызывали домой. Она садилась в кабину, которая везла её под землей, но она не знала, куда и к кому. Это нравилось меньше – дома не было весело: только иногда её заставляли одну танцевать или петь. И не всегда было приятно – они не умели хорошо, но она пила сладкий возбуждающий ликер, чтобы обязательно было приятно. Её почти всегда отправляли обратно после того, как больше не хотели.
Потом она стала сильно меняться – стала большой, и груди у нее стали большие – правда, меньше, чем сейчас – и бедра широкие. И её очень многие стали звать и вызывать домой. Она очень привыкла и очень хорошо умела делать.
Время от времени инструкторы занимались с ними, учили чему-то новому. И гимнастикой они продолжали заниматься, чтобы поддерживать фигуру, и спортивными играми, и ели специальную еду. Но потом она, всё равно, стала очень полной: живот стал большой, и бедра, и груди, как сейчас. Но она – такая – ещё многим нравилась; некоторым даже больше нравилось, что она такая полная.
Но потом она стала нравиться меньше, потому что перестала быть молодой. Её тогда перевели к мальчикам, которые должны стать гурио. Она жила с ними: объясняла им в первый раз и занималась. Они её любили, потому что она ласковая и добрая.
Но она не осталась с ними, потому что вернулась обратно: когда её не было, многие её пытались вызывать домой. Она поэтому вернулась и опять здесь живет.
Она очень давно тут живет. Некоторые уезжают куда-то в другие места, – иногда возвращаются обратно, как она. Но которых уже больше не зовут, уезжают совсем. Никто не знает – куда: они больше не приезжают. Когда её перестанут звать, она тоже куда-то уедет. Может быть, её сделают опять инструктором мальчиков-гурио. А пока она живет здесь, и её зовут.
А когда её не зовут, она сидит с подругами, они говорят или поют песни, для себя, какие сами хотят. Вместе им хорошо.
Правда, бывает, что гурия больше не хочет – её уговаривают, и она снова идет, когда зовут. Потому что знает, если не будет идти, когда зовут, ей надо будет уехать, а она не хочет, привыкла здесь, она тут всех знает, уезжать боится. Но иногда бывает, совсем не хочет, даже бьет стекло и режет себя и кричит: “Не хочу больше!” Жалко тогда.
Но есть у них и праздники, где бывают только гурии и гурио. Они могут звать друг друга, сами, кто кого хочет, и потому обязательно приятно, потому что гурио всегда умеет хорошо, и потому, что они могут друг с другом разговаривать.
А ещё весело, когда устраивают конкурсы самых красивых гурий и гурио, которые приезжают откуда-то с воспитателями. Или конкурсы тех, кто умеет очень хорошо или может очень хорошо, но совсем по-другому. Гурии тоже смотрят. Очень интересно...
– Ты, может быть, поспишь, миленький?
– Нет – рассказывай дальше.
– Я ничего не знаю больше. Может быть, меня хочешь? Тоже нет? Спеть тебе?
– Да. То, что для себя поете.
Она пела мне какую-то протяжную песню.
Я чем дальше тем больше не находил себе места. Рядом с нами, с нашей наукой, искусством, необъятными архивами, могучей промышленностью, почти сказочной хирургией и всем прочим – рядом с этим существовало то, чему сразу даже не мог найти названия. Какое же это зверство: взять живого человека и выдрессировать его для удовлетворения своих потребностей, которые мы и сами не считаем возвышенными, – превратить в сексуальный унитаз, и только в этом видеть смысл и оправдание его существованию среди нас! Лишить его права распоряжаться собой – превратить его в вещь, в неодушевленного робота. Не помочь им, а усугубить их отставание в развитии.
Почему? Зачем? Из-за того, что нам, интеллектуально полноценным, это упрощает существование?
Но – разве интеллект оправдывает жестокость? Да и что он такое, наш интеллект? Что удалось открыть, совершить в наше время? Всё по мелочи, ничего крупного: усовершенствуем, дорабатываем, вылизываем открытое до нас. Интеллектуальные пигмеи! Из всех наших потуг ничего не получится. И у меня – тоже!
Меня мучило лихорадочное чувство необходимости немедленно найти выход из всего существующего и уверенность, что всё пропадет, если я его не найду, и сразу же за ним ощущение полного бессилия, абсолютной неспособности что-то решить, сделать. Выхода никакого не было – только безысходность. Казалось, я один – и только я виноват во всём, виноват больше кого-либо. Мысль уйти совсем, разом от всего избавиться, возникавшая последнее время, появилась снова, и в этом виделся единственный возможный выход для меня. “Не хочу больше!” – кричало всё во мне.
В комнате светился только аквариум с рыбками. И я вдруг решился, ударил кулаком – с такой силой, что сразу разбил толстое стекло. Забились в луже красавицы-рыбки. Рука была сильно разбита и порезана. Не обращая на это внимания, я схватил большой осколок, но в тот же момент она вцепилась мне в руку, всей тяжестью повисла на ней.
– Ой, миленький, ой, не надо!!! – кричала она.
Пытаясь вырвать руку, я порезал её осколком, но она всё равно не отпускала. И когда я толкнул её так, что она, отлетев, упала и сильно стукнулась головой, почувствовал, что уже больше ничего не смогу сделать. Посмотрев на окровавленную руку, отшвырнул стекло.
Доплелся до ложа, упал. Меня трясло. Она подошла, села рядом, положила мою голову на свою грудь и, крепко обхватив её окровавленными руками, долго плакала. Я с трудом дышал. Слышал иногда, как она, всхлипывая, бормочет: “Ой, миленький!”, “Плохо как!”, “Рыбок тоже жалко!”. Так и просидели до самого утра. Руки у нее были все в жутких порезах.
Утром она уехала. А ко мне скоро приехал врач: должно быть, ей пришлось объяснить причину порезов. Он отправил меня в клинику. Это было срочно необходимо: выхода для себя я по-прежнему не видел, и самоубийство казалось мне неизбежным.
... Меня вылечили. Я снова хотел жить, работать. Вернулся к себе.
Хотел увидеть её, поблагодарить. Но когда её вызвал, на экране появилось: “Её больше у нас нет”.
Сумел связаться с их заведующей-сексологом, которую они называли воспитательницей. Она спокойнейше сказала мне, что Ромашка больше у них не живет, – но что мне незачем огорчаться: есть ещё несколько таких же гурий. И всё.
Так ничего не смог узнать: перевели ли её инструктором к молодым гурио, или, может быть, из-за обезобразивших её порезов она стала профессионально непригодной – и, значит, была умерщвлена.
Эта мысль долго преследовала меня. Но потом, постепенно – я забыл. Как будто это случилось вовсе не со мной. Не понимаю даже, как сейчас смог всё так отчетливо вспомнить. Увидел, как этот скот, плантатор, обращается с рабынями, и... Вот так!








