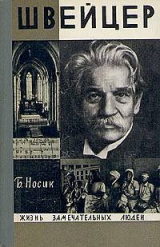
Текст книги "Швейцер"
Автор книги: Борис Носик
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
Глава 9
Пароход шел в Африку. Доктор Швейцер и его жена плыли навстречу неизвестности. Одно они знали наверняка – что легко им не будет. На борту парохода было много белых. Все они уже бывали в Африке, теперь возвращались туда, надо сказать, без особого энтузиазма. Конечно же, доктор Швейцер и Елена не могли удержаться от расспросов: как там, что там?
Лейтенант ругал африканцев-магометан. Он считал, что именно они враждебнее всего к прогрессу. Колониальный доктор рассказывал своему эльзасскому коллеге о положении тропической медицины. Доктор Швейцер слушал, повторяя про себя как некий абстрактный парадокс фразу из учебника тропической медицины: «Там, где солнце печет жарко, надо особенно опасаться простуды». Когда Швейцер любовался берегами, стоя у борта, к нему подошел служащий какой-то крупной фирмы, африканский старожил.
– Даже когда не жарко, – сказал он, – смотрите на солнце, как на злейшего врага – в зените оно или у горизонта, облачное небо или чистое.
В Дакаре была стоянка. Швейцер впервые сошел на африканский берег. Город располагался по холмам, и доктор с ужасом увидел, как погонщики избивают мулов на подъеме в гору.
– Ха, если вы не выносите, когда при вас избивают животных, лучше не ездите в Африку! – сказал лейтенант. – Здесь вы не таких ужасов насмотритесь.
Во время обеда в кают-компании Швейцер поймал себя на том, что внимательно изучает пассажиров.
«Всем этим людям уже приходилось работать в Африке, – думал он, – но с какой же целью они приезжали? Каковы их идеалы? Сейчас они кажутся все такими приятными и приветливыми, но какими они бывают там, на своем месте, на службе? Ощущают ли они ответственность? Через несколько дней три сотни пассажиров, вместе отплывших из Бордо, сойдут на африканский берег... Если бы записать все, что за эти годы совершит каждый из плывущих сейчас на корабле, что за книга получилась бы! Но не будет ли в этой книге страниц, которые нам захочется перевернуть поскорее?»
О чем это размышление? О собственном долге и о долге европейца вообще? О долге перед угнетенным и страдающим континентом? В словах этих звучит мотив мучительной неуверенности в себе, потому что задача, которая предстояла ему, была непривычной: активное действие в незнакомой стране, в контакте с незнакомыми людьми. Он говорил, что знает себя, что уверен в себе. Но все ли он знает о себе, все ли «углы своего характера» удалось ему сгладить? Забегая вперед (ведь и приведенные выше размышления были отредактированы им позднее), можно сказать, что опасения были не совсем напрасны.
Швейцер ощущал на плечах тяжкое бремя долга. Он часто говорил в это время о долге просвещенного человека в джунглях, об искуплении того, что было совершено в отношении Африки «цивилизованными» державами. Но его долг белого – это не киплинговское «бремя», что очень точно подметил в своей книге «Понимание Швейцера» Джордж Маршалл:
«Швейцер ехал в Африку не для того, чтобы нести бремя белого, а для того, чтобы отречься от колониализма, воспеваемого Киплингом. Он был, наверно, одним из первых великих антиколониалистов».
...Он стоит у борта, смотрит на проплывающие мимо зеленые берега – Берег Слоновой Кости, Золотой Берег, Берег Рабства – и думает при этом:
«Если бы кромка леса на горизонте могла рассказать нам обо всех жестокостях, свидетелем которых она была! Здесь вставали на стоянку работорговцы, здесь они грузили свой „живой товар“ на суда для доставки в Америку».
Старожил, работник торговой фирмы, говорит ему:
– Ведь и сегодня... перевешивают ли блага, приносимые туземцам, все зло, которое сопровождает эти блага?
Итак, этот человек, которого позднее называли «приемным сыном Африки» и ее героем, впервые ступил на землю Габона. Доктор и Елена оказались в Кейп-Лопесе (Мыс Лопеса). В самом конце XVI века католические миссионеры-португальцы, среди которых был и Эдуард Лопес, высадились здесь, на габонском побережье. Португальцам нужны были рабы для их «новых индийских колоний». Из Кейп-Лопеса отправлялись корабли с «живым товаром», и берега эти оглашались воплями осужденных. Доктор Швейцер читал записки дю Шайю, который еще в середине прошлого века застал здесь португальские бараки – «баракун», где держали рабов, скованных цепью по шесть человек. Дю Шайю рассказывал и о меновой стоимости человека – женщины, мужчины, ребенка... В 1820 году английские и французские власти запретили работорговлю на западном побережье Африки; тогда здесь и была создана морская база Либревиль («Город свободы») – нынешняя столица маленького Габона с полумиллионным населением, одной из четырех республик, возникших сейчас на месте бывшей Французской Экваториальной Африки. Португальские миссионеры хотели нести этим непонятным для них народам неведомых стран слово божие. Результаты подобного экспорта, даже производимого с добрыми намерениями, как часто бывает, оказались плачевными. Вослед миссионерам европейские торговцы и воины завезли сюда алкоголь, табак, венерические заболевания, туберкулез, грипп, оспу и десятки других губительных для африканца недугов. Они вывозили отсюда габонцев – в рабство...
Пришельцы долго держались побережья, не решаясь уходить в глубь континента. Только в 1862 году французский офицер Сервиль снарядил экспедицию по Огове и обнаружил, что река расходится на множество рукавов общей протяженностью больше тысячи километров. Вероятно, Сервиль и был первым европейцем в Ламбарене. Сейчас по пути французского офицера отправлялся доктор-эльзасец, душу которого терзали воспоминания о несправедливостях, совершенных европейцами по отношению к жителям этой страны.
От Кейп-Лопеса доктор и Елена плыли вверх по могучей реке Огове на пароходике «Алемб», и живое чувство природы, отличавшее Швейцера с самых ранних лет, пробудилось и возликовало при виде этой первозданности, так импонировавшей его извечному стремлению к изначальному, фундаментальному, первоосновному – будь то в ландшафте, в искусстве, в мысли:
«Река и лес... Кто смог бы описать впечатление, которое они производят? Нам казалось, что это сон! Доисторические пейзажи, которые в любом другом месте показались бы творением фантазии, окружали нас со всех сторон. Невозможно было сказать, где кончается река и начинается лес, потому что мощное переплетение корней, опутанное какими-то яркими вьющимися растениями, свисало прямо в воду».
Они видят купы пальмовых деревьев, какие-то огромные, растопыренные веером листья, гниющие великанские стволы. Вода, вода... За каждым поворотом то новый приток, то рукав изобильной Огове. Да это же не река! Это целая система рукавов, а три или четыре из них не уступают Рейну по величине и раздолью. Непостижимо, как находит здесь путь рулевой!
Вот маленькая негритянская деревушка на пути. На берегу сложены бревна: главная и, наверно, единственная отрасль габонской промышленности – лесная. Учетчик-африканец считает бревна, ставя на бумаге крестики и палочки. Разыгрывается бытовая сценка, которая больше говорит наблюдательному доктору, чем целый сборник статей о прогрессе в джунглях:
«Капитан бранит старосту деревни за то, что бревна не были приготовлены в срок. Староста оправдывается с самыми патетическими жестами и возгласами. Наконец они приходят к соглашению, что за работу капитан уплатит не деньгами, а вином: вождь убежден, что белым спиртное продают дешевле, чем неграм, и он, таким образом, сможет выиграть на этой сделке...»
Доктор и его жена уже увидели сегодня в действии многих из своих приятных попутчиков-европейцев. Размышления доктора об идеалах были не беспочвенны.
«Путешествие продолжается. На берегах развалины заброшенных хижин. „Когда я приехал сюда пятнадцать лет тому назад, – сказал мне торговец, стоявший рядом, – в этих местах были процветающие деревни“. – „Почему же они исчезли?“ – спросил я. Он пожал плечами и сказал тихо: „Алкоголь“.
И еще чуть дальше, то есть чуть выше по реке, продолжение этого же разговора:
«Если бы мы пристали здесь днем, – сказал мне торговец, – все пассажиры-негры... сошли бы на берег и стали покупать спиртное. Большая часть денег, которые приносит этому краю лесоторговля, тратится на спиртные напитки».
Ощущение вины растет по мере продвижения в глубь Африки. И если Швейцер даже и не понял в дальнейшем каких-либо сложнейших проблем современной Африки (а кто в Европе может похвастать, что понял их во всей сложности?), то это чувство огромного сострадания к угнетенным и обобранным людям Черного континента, это желание помочь им он пронес через все полстолетие своей африканской деятельности.
Путешествие по Огове продолжается, но изобильный, цветущий край производит на чуткого путешественника все более тревожное и гнетущее впечатление, которое он очень выразительно передает в своих записках:
«Так к возвышающим душу впечатлениям здешней природы начинают примешиваться страх и ощущение горя; с наступлением первых наших вечерних сумерек на Огове сгущается тень страданий Африки. Сквозь сумерки плывут монотонные, как звон колокола, мелодичные выкрики: „Ставь один!“, „Ставь крест!“ – и я сильней, чем когда бы то ни было, ощущаю, что пользу в этой стране может принести человек, который никогда не поддастся отчаянью».
Однако все сомнения и смутные предчувствия отступают на задний план, как только они прибывают в деревню Ламбарене. Здесь их встречают молодые учителя миссии. У них хорошие лица, умные и одухотворенные. «Очаровательные юные лица!» – восклицает Швейцер. Учителя приплыли в лодках. Лодки эти неустойчивы, но гребцы умелы, а до миссии не так далеко.
В Ламбарене супругов ждет торжественная встреча. В домике с верандой для них приготовлено жилье. Швейцер выходит на веранду: «Вид потрясающий: под нами поток, здесь и там переходящий в озерцо, а на горизонте синеет гряда холмов».
Он ведь стремился к этому всю жизнь сознательно и неосознанно, к изначальной красоте творения, к не расчерченной дорожками чащобе леса, к могучей стихии воды, к простоте жизни на земле. Он и сам из маленького Гюнсбаха, из страны виноградников и трудолюбивых крестьян. Нет, не случайно он попал в это Ламбарене, приютившееся «между водой и девственным лесом»! (Он так и назвал свою первую книжку об Африке.)
Вечером чествовали нового доктора и его жену. Под неумолчный стрекот кузнечиков маленькие чернокожие школьники спели в честь супругов гимн. За ужином миссионеры много рассказывали о здешней жизни. Они старались развеселить его, как могли, ибо первое разочарование, которое ждало его, было не из малых: обещанный дом для клиники построить не удалось, потому что совсем не было рабочей силы. Миссия не могла платить много, а тех немногочисленных (и это было для доктора первым довольно существенным открытием) рабочих, которых здесь можно было добыть, забирала лесопромышленность, где заработки были выше, чем в миссии. Итак, помещения нет, но об этом завтра, а пока они развлекали его рассказами о здешних местах, анекдотами из миссионерской жизни, нехитрыми шутками.
Зашел разговор о христианской религии, которой приходилось здесь уживаться с древней языческой магией и многобожием. Из этого разговора доктор Швейцер понял, что догматические вопросы, так занимавшие Парижскую миссию, здесь вообще не встают на повестку дня.
В районе было сейчас две сотни белых и неизвестно сколько африканцев – десятка два племен, говорящих на разных языках и диалектах. Больше всего галоа – тысяч восемьдесят. Но из глубины материка, гонимые голодом, выходят фанги, они же пахуаны. Еще совсем недавно, до прихода белых, это были каннибалы, пожиравшие галоа.
– Теперь процесс этот как будто приостановился, – сказал с надеждой молодой учитель.
Доктора интересовали африканцы. Каковы они? Пастор говорил о них снисходительно и нежно, как о детях. Как, впрочем, вообще пожилые пасторы привыкают говорить о своей неразумной пастве. Что с них взять? Настоящие дети. Дети природы. Да, они не привыкли трудиться постоянно, но ведь так они работали тысячелетиями. Таковы условия. Многоженство? В миссии немало споров об этом. Доктор убедился сам, что многоженство здесь только разумно. Фетиши, магия? Но ведь они так беззащитны перед природой, а колдуны так страшны и всемогущи. Любовь? Но ведь у них не было своих Тристана и Изольды. У них своя традиция, освященная тысячелетиями. А вообще-то доктор уверен, что можно понять душу другого человека до конца?
Доктор с едва заметной усмешкой в глазах ответил, что он намерен врачевать тела, а не души. Тогда они вспомнили о каких-то предупреждениях миссии по поводу его недогматической теологии. Впрочем, в том, что говорил сейчас пастор, тоже было немного от догматического христианства.
Все вдруг встали и заторопились, потому что доктор с супругой действительно очень устали с дороги. Им надо отдохнуть, а уж утром...
Доктор с женой ушли в свое новое жилище. Надвигалась габонская ночь. Тень паука металась по стене. Какой-то стон послышался из чащи. Ночь рождала страхи, подрывала решимость.
Но если в ту первую ночь на непривычном месте, под шорохи и таинственные вскрики джунглей, под всплески то ли диковинных рыб, то ли крокодилов, то ли гиппопотамов на реке ему еще думалось о трудностях и странностях этого мира, то с утра у него были тысячи забот... И так пятьдесят два года, включая 1913-й – год первый от основания Ламбарене.
«На следующее утро в шесть часов зазвонил колокол; вскоре стало слышно, как дети поют гимн в классе; и мы стали готовиться к началу работы на новом месте».
Итак, он «начинал с нуля»; и впоследствии биографы немало потрудились, подбирая сравнения для того, что совершил в одиночку или почти в одиночку этот человек. Один говорил, что это было все равно как переплыть Атлантический океан в латах; другой сравнивал его труд с бесконечным трудом Сизифа; третий говорил, что ему понадобились при этом изобретательность Робинзона Крузо, отвага и организационные способности штабного офицера, бдительность полярного исследователя, который ищет предмет, затерянный в полярной пустыне.
Можно умножить число этих сравнений и все-таки не дать представления об огромности, будничности и необычности того, что он делал. Он просто остался без помещения и едва начал распаковывать вещи, как ему объявили, что прибыл первый больной. За ним второй, третий... И тогда Швейцер начал прием. Здесь же, во дворе. Палило солнце... Духота изнуряла... Он не знал еще ни страны, ни климата, ни пациентов, ни даже своих возможностей. А больные все прибывали и прибывали в своих пирогах по реке, сверху и снизу, а также из лесу, по невидимым тропам. Одни ковыляли сами, других несли родные.
К вечеру он едва держался на ногах от усталости, но все же отметил с удовлетворением, что место он выбрал удачно: больные добираются сюда по реке. Кроме того, в этих местах еще живы рассказы об американском докторе Нассау и о заезжем хирурге-французе; здесь доверяют белому врачу. Он должен закрепить и развить этот первый успех.
Он наказал строго-настрого, чтобы приводили только тяжелобольных, пока он не распакует все инструменты и все лекарства. И все-таки они тянулись к нему без разбора – всякие больные, все больные. Плыли издалека, за сто, за двести и триста километров по реке, полуголодные, осатаневшие от боли. Если бы он не приехал сюда весной, «в сезон дождей» 1913 года, некому было бы облегчить их боль, как некому было утолять ее «в сезон дождей» 1912 года и еще в течение многих-многих лет и столетий. Он помнил об этом, изнемогая от жары и усталости. И только в этом было для него утешение, потому что во всем остальном ему приходилось туго. Ливни часто загоняли его на веранду. Пускать пациентов в жилой дом он боялся: так оставались хоть какие-то шансы избежать инфекции. Потом он решился перейти в старый, дырявый птичник, где некогда держал своих кур уехавший миссионер.
Здесь страшная теснота. Швейцер не отваживается работать без шлема, потому что крыша дырявая, а он уже наслушался рассказов о том, как через дырочку величиной с монетку тропическое солнце ухитряется наносить свои удары. Зато ему не приходится теперь убегать под навес в бурю.
Елена оказалась великолепной помощницей. Она справлялась с домашним хозяйством в условиях джунглей, готовила для приема бинты, лекарства, стерилизовала инструменты.
Швейцеру с трудом удалось подыскать толкового санитара. Он долго присматривался к пациентам, пытался разговориться с ними через редких переводчиков. Но он не видел в их огромных черных глазах ничего, кроме боли, непонимания или благодарного облегчения. Наконец ему повезло. Пациент был веселый и бойко говорил по-французски. Он жаловался на здоровье, но, кажется, был изрядно здоров. Он рассказал, что раньше был поваром, но бросил это занятие, так как вот, доктор сам видит, здоровье не позволяет. Он знал не только кухню. Он знал французский и английский языки, а также многочисленные здешние языки и диалекты. В общем, это был очень здоровый, способный, веселый, артистичный, лукавый человек, то вдруг мудрый и философски серьезный, то елейно назидательный, то безудержно расточительный и щеголеватый. Конечно, доктор не мог платить ему так много, как платили на кухне, и это часто портило их отношения. Но все же Джозеф был искренне привязан к доктору, а доктор привязался к этому «первому помощнику Альберта Швейцера», как называл себя до самой смерти Джозеф Азаовани.
Анатомию Джозеф изучал на кухне и в мясных лавках. Так что, хотя он не знал «кухонной латыни» современных медиков, он знал кухонный французский работников пищеблока. «У этого человека болит правая филейная часть, – сообщал он невозмутимо. – А у этой женщины – левая верхняя котлета и филейная часть».
Елена стала приучать Джозефа готовить инструменты и бинты к операции. Он все схватывал на лету. Конечно, он не мог прочесть надпись, он просто запоминал ее целиком и мгновенно находил нужное лекарство. Кроме того, он осуществлял синхронный перевод на галоа и пахуан (он делал это походя и нисколько не гордился столь серьезной ныне профессией переводчика-синхрониста). К сожалению, ни доктор, ни его жена не могли проверить, насколько красочно звучала их речь на этих экзотических языках в лукавом переводе Джозефа. Иногда Джозеф переводил Швейцеру и отзывы пациентов.
– Это настоящий доктор, – таинственно шепнула Джозефу одна старуха из дальней деревни. – Он даже не смотрел на мои ноги. Он сам сказал мне, что, наверно, мне трудно дышать по ночам и что у меня пухнут ноги. А я ведь ему не говорила...
Джозеф позволял себе давать советы доктору, и доктор внимательно их выслушивал. К сожалению, он не мог воспользоваться большинством из них. Джозеф настаивал, например, на том, чтобы Швейцер не принимал тяжелобольных и безнадежных. Колдун-заклинатель из джунглей никогда не лечит таких. Они умрут и подорвут репутацию исцелителя. Но Швейцер не мог отказать даже самым безнадежным. Впрочем, он извлек из советов Джозефа необходимый урок: нельзя обнадеживать родственников больного. Если больной умрет, они скажут, что доктор не знал, какая у него болезнь. К тому же эти люди всегда мужественно, без жалоб встретят самое трагическое предупреждение. И если больному все-таки станет легче, репутация доктора только возрастет. Тут Джозеф был прав.
Наконец, первая операция. Швейцера поразило, что больные так охотно ложатся на стол. Оказалось, что правительственный доктор-француз однажды сделал здесь проездом несколько удачных операций.
Первым ложится на операцию больной с грыжей. Грыжи здесь очень часты, так же как и слоновая болезнь. Нередки ущемленные грыжи. Больные эти подолгу страдают и умирают. А ведь им можно так легко помочь операционным вмешательством.
Елена и ее ученик Джозеф ассистируют Швейцеру. Джозеф моет и кипятит инструменты. Выносит судно с кровью и гноем. Поразительно, что он согласился выносить судно: для африканцев все это является «скверным» и «нечистым». Джозеф с его легким характером без труда отказывается от суеверий.
Первая операция прошла успешно. Больные грыжей начинают ссориться из-за очереди, но пока Елена успевает подготовить материалы только для двух-трех операций в неделю. На ней ведь еще домашнее хозяйство, аптека, уход за тяжелыми больными...
Мало-помалу доктор вырабатывает твердые правила для своих пациентов. Конечно, это самые элементарные правила поведения, но сами по себе они поразительный документ, эти шесть заповедей, продиктованных условиями странного и неожиданного мира, в который он попал сейчас.
Габон. Джунгли. В самом их сердце пробуждается крохотный поселок ламбаренской миссии. В 8.30 утра начинается прием в клинике. Больные уже сидят к этому времени в тени у курятника, и один из помощников доктора медленно и старательно, чтобы каждый понял, а потом рассказал всем, зачитывает с крыльца на диалектах галоа и пахуан эти шесть заповедей доктора. И больные кивком подтверждают, что они, да, поняли «Приказы доктора», что они, да, согласны.
Вот эти заповеди врача из джунглей, отражающие новый период жизни Швейцера с такой же отчетливостью, с какой некогда отражали его «Бах», «Поиски исторического Иисуса», «Религиозная философия Канта» и «Правила органостроения». Заповедь первая гласит:
«Плевать возле дома доктора строго воспрещается».
В этой фразе целый отчет о габонских джунглях 1913 года, об условиях медицинской работы, о серьезности молодого доктора, о его пациентах, об опасностях, которые каждую минуту угрожают ему и окружающим.
Заповедь вторая взывает к спокойствию: читая ее, так и видишь галдящих пациентов, дырявый курятник и черноусого доктора, который пытается расслышать в стетоскоп неровное биение сердца:
«Ожидающие не должны громко разговаривать друг с другом».
Третья заповедь может поведать нам, что пациентов у Швейцера было слишком много, что они приплывали сюда издалека, да еще не в одиночку, а семьями, что, кроме болезней, их терзал голод – и сейчас, и всегда, из поколения в поколение...
«Пациенты и их друзья должны приносить с собой запас пищи на целый день, потому что осмотреть всех до обеда доктор не успеет».
Четвертая заповедь может показаться непонятной:
«Всякий, кто проведет ночь в миссии без разрешения доктора, будет отослан назад без всякого лечения».
Очень скоро доктору пришлось убедиться, что, оставаясь в миссии на ночь, пациенты и их друзья толпятся в спальной школьников, сгоняют их с коек и ложатся на их место. Позднее, узнав джунгли поближе, доктор стал опасаться отравителей, которых здесь было много, и колдунов-заклинателей, видевших в нем конкурента. Сам он, кстати, вел себя в отношении всех этих колдунов, заклинателей и жрецов с мудрым тактом, каким вообще было отмечено его отношение к чужой национальной традиции и культуре.
Пятая заповедь тоже может показаться и несущественной, и мелочной для столь священного Документа. Но доктор уже давно убедился, как многих практических мелочей потребует от него служение духа. Заповедь гласила:
«Все бутылочки и металлические коробочки, в которых выдаются лекарства, должны быть возвращены».
Объяснение этому правилу можно найти в одном из писем-отчетов Швейцера (из них потом составилась книга об Африке): «Воздух здесь такой влажный, что лекарства, которые в Европе можно было бы отпустить просто в бумажке или картонной коробочке, здесь можно сохранить только в закупоренной бутылочке или в герметически закрытой жестянке. Я не учел этого и оказался в столь затруднительном положении, что вынужден ссориться с пациентами, которые говорят, что они забыли дома или потеряли коробочку. В каждом своем письме в Европу я заклинаю друзей, чтоб они собирали среди своих знакомых маленькие и большие бутылочки, стеклянные пробирки с пробкой и металлические коробочки всех размеров. С каким нетерпением думаю я о времени, когда у меня будет всего этого в достатке».
Шестая заповедь напоминает, что Ламбарене стояло в самом сердце джунглей, в шестистах милях от моря и от ближайшего порта (он же был в то время ближайшим городком) и что известия из Европы и других частей так называемого цивилизованного мира можно было получать только раз в месяц: «С середины месяца, когда пароход пойдет вверх по реке, и до тех пор, пока пароход не пойдет обратно, осматривать будут только тяжелобольных, чтобы доктор мог написать в Европу и получить оттуда побольше своих ценных лекарств».
После объявления шести заповедей начинается прием, который длится почти четыре часа, в страшной духоте, в тесноте и шуме. Прием замедляется необходимостью объясняться через переводчиков, а зачастую и непонятливостью больных, приходящих сюда из глухих деревушек, из самой глубины джунглей.
«Много времени уходит на то, чтобы объяснить им, как принимать лекарство, – писал Швейцер. – Переводчик говорит им это раз и два, и они снова и снова повторяют все за переводчиком; предписания приложены также на ярлыке к бутылочке, чтобы каждый житель деревни, который умеет читать, мог прочесть им их снова, и все же я никогда не бываю уверен, что они не опорожнят бутылку в один прием, не съедят мазь, не вотрут порошки в кожу».
В половине первого помощник доктора объявляет обеденный перерыв. Пациенты кивают в знак понимания и согласия. Сами они разбредаются в тени, подкрепляясь бананами.
С двух часов дня снова прием. В шесть темнеет, но всех принять до шести почти никогда не удается. Продолжать прием при лампе доктор не может из-за москитов и из-за опасности занести инфекцию.
Постепенно доктор вырабатывает собственную систему клинического обслуживания. Казенные врачи не раз говорили ему, что он счастливый человек: он избавлен от бюрократической писанины. В глазах его вспыхивали при этом лукавые искорки: он ведь предвидел, что работа его должна быть независимой от учреждений – независимой и международной.
Выработанная им система проста. Он записывает в журнал диагноз, лекарство и тару, а пациенту дает картонную бирочку с номером. Пациент тут же подвешивает номер на шею, на одну веревочку с жетоном об уплате подоходного налога. И доктор чувствует, что бирочка приобретает для больного весомость амулета.
При повторном визите доктор по номеру с бирочки мгновенно находит в журнале старый диагноз, требует назад посуду и даже получает ее иногда.
Шесть часов. Кончается прием. Уже полсуток напряженного труда, но до отдыха еще далеко. У доктора тьма хозяйственных дел. Доктор строит больничный домик и спешит, чтобы закончить работу к осени.
Вечерами, несмотря на усталость, доктору иногда удается посидеть над хоралами Баха, которые он готовит для издания.
Он нашел в интеллектуальных занятиях огромную поддержку для своей практической деятельности. Он собирался отречься от всего – от философии, от теологии, от музыки – и тяжело переживал это отречение. Отречение его было вызвано не аскетизмом: поклонник рационального XVIII века, он не видел смысла в аскетических крайностях. Просто он думал, что это будет отвлекать его от дела, что у него не останется времени ни на что, кроме работы. Он нисколько не страдал оттого, что рядом не было цивилизации, что здесь не было городов и даже от маленького городочка его отделяла чуть не тысяча километров. Однако без музыки он страдал бы здесь, потому что он мог бы повторить вслед за своим возлюбленным Толстым: «Если бы вся наша цивилизация полетела к чертовой матери, я не пожалел бы, а музыки мне было бы очень жаль...»
Перед отъездом Швейцера в Африку парижское Баховское общество подарило ему пианино с защитным покрытием против сырости джунглей и со специальным, органным педальным устройством. Сам доктор думал тогда, что не притронется больше к клавишам. Он хотел, чтобы скорее огрубели пальцы, чтобы его не тянуло больше к музыке, чтобы боль этой потери притупилась. Но однажды вечером, когда ему было особенно грустно, когда закончился тяжкий день строительных хлопот, принесший ничтожные плоды, когда, вконец измученный и разбитый, доктор пришел, наконец, в свою комнатушку, он сел за пианино и стал играть Баха. И почувствовал вдруг огромное облегчение, могучий прилив сил. Более того, он понял, что вот это и есть подлинный «досуг», то, чего так не хватает в городах, полное растворение в новом занятии, отличном от труда, полная свобода. Он почувствовал себя отдохнувшим после часа игры, и он подумал, что в его отречении от музыки нет никакого смысла, потому что музыка только поможет ему работать, поможет сохранить ровное состояние духа, сохранить здоровье, принадлежащее теперь не только ему одному, но и его пациентам. Позднее он убедился, что человек, сохраняющий интеллектуальные потребности, легче переносит заточение в джунглях, дольше сохраняет бодрость и здоровье. Он обратил внимание на то, что европейцы здесь читают больше, чем дома, и притом читают серьезные книги. Он заметил, напротив, что люди грубые здесь скорее опускаются, спиваются, хандрят, болеют. И он стал постепенно возвращаться в немногие часы своего досуга и к теологии, и к философии, и к музыке. Он решил проиграть по вечерам произведения Баха, Мендельсона, Видора, Франка и Регера, углубляя и совершенствуя свою технику.
«Как я наслаждался, – вспоминал он позднее, – возможностью играть на досуге и в тишине, без всякой спешки, связанной с предстоящим концертом, хотя зачастую мне удавалось выкроить для этого занятия не больше получаса в день!»
Его первые письма из Африки дышат торжеством победы. Это письма счастливого человека. У него еще нет помещения, зачастую он просто с ног валится от усталости, он еще не выработал прочных навыков в обращении с пациентами, у него мало опыта, мало помощников и много больных. И все же это победа. Только вчитайтесь в любой из этих деловых отчетов:
«Работу затрудняет то, что в курятнике можно держать очень мало лекарств, так что приходится бегать за лекарствами через двор... Когда же будет готово здание моей больницы? И что, если оно не будет готово?»
«Пациентов оказалось больше, чем я ожидал. Я послал обширный заказ июньской почтой, но лекарства придут не раньше, чем через три-четыре месяца, а между тем хинин, антипирин, бромистый калий, салол и дерматол почти на исходе...»
«Однако что значат все эти неприятности в сравнении с радостью, которую я испытываю от того, что нахожусь здесь, работаю и помогаю людям? Какими бы ограниченными ни были наши средства, как все-таки много можно сделать с их помощью! Достаточно увидеть радость человека, которого мучила язва, в момент, когда раны его уже перевязаны и ему не приходится больше волочить по грязи свои бедные кровоточащие ноги. Достаточно увидеть это, чтобы почувствовать, что работать здесь стоит».








