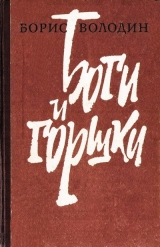
Текст книги "Возьми мои сутки, Савичев!"
Автор книги: Борис Володин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Все это для Доры Матвеевны было особенно огорчительно еще и потому, что Главного и Савичева она считала настоящими мужчинами, а это качество она почитала теперь редкостью. Про мужа своего, например, она просто говорила, что он – баба. Муж все боялся болезней – у него как началась небольшая гипертония, так он с перепугу третий год жил, будто его на поруки отпустили, будто не так шагнет – каюк. Заставлял Дору Матвеевну дважды в день обязательно ему давление мерить и с диеты не слезал все три года.
Зубова вообще говорила, что в двадцатом веке все мужики стали бабами, а бабам приходится быть мужиками. А Главный и Савичев ей казались настоящими мужчинами, и хотя первый был моложе ее на четыре года, а второй – на все десять, она при них всегда старалась быть в полном порядке – без всяких особенных мыслей, конечно. А если особенные мысли приходили к ней иногда, то все равно это были только мысли, дела никакого по всей ситуации быть не могло…
Эта история с Верочкой была совершенно дурацкая: Зубова всегда старалась ставить к ней в пару на дежурства именно Савичева или Людмилу – самых активных и почти уже дозревших до самостоятельности врачей. И еще всегда намекала им осторожно: мол, если не будет особых хлопот и происшествий, дал бы он (или она) по доброте душевной выспаться ответственному дежурному, потому что доктор Квасницкая очень замотана.
Вера-лапушка приносила с собою пару коробок мармелада и за дежурство меж работой и дремотой постепенно его приканчивала. Ее любовь к сладкому была анекдотом еще в институте. В войну, весной сорок четвертого, когда они сдавали патологическую и топографическую анатомии, тоненькая тогда, как тростинка, Верочка заявила родителям, что ей нипочем этих экзаменов не сдать, если родители не снабдят ее мозги вдосталь сахаром, который по науке просто жизненно необходим нервным клеткам.
Верин отец, горбатый бухгалтер, отнес на барахолку только полученную в премию по ордеру драгоценность – кирзовые сапоги, и – то ли обменял их там сразу, то ли продал, а купил уж потом – принес он, в общем, Вере-лапушке добрых шесть месячных рабочих пайков: два кило сахара и два кило какавеллы – липучей, тяжелой сласти из сои с патокой. Какавеллу тогда выдавали по карточкам за сахар в двойном размере.
Готовились к экзаменам еще со школы всегда вместе, и Веру, как всегда еще со школы, все время клонило в сон. И Зубова, как обычно, все время ее тормошила, заставляла голову мочить под краном и сахар сосать для блага нервных клеток. Самой Зубовой тоже очень хотелось сладенького, но, хотя Вера ей и предлагала, и в доме она была как вторая дочка, лопать тот сахар с Верой на равных было совестно, и она брала за день разве кусочек-другой, да и те разламывала на четвертинки, чтобы растянуть удовольствие.
Патологическую анатомию Вера все-таки на тройку вытянула, а топографическую провалила. Сахар кончился, на топографическую анатомию осталась одна какавелла, к тому же надо было заниматься не только по учебнику, но и на трупе в анатомичке… Заниматься в анатомичке мало кто любит. Но Зубова там готовилась все-таки три дня из пяти, а Верочка пошла с ней туда лишь один раз и сказала, что у нее сейчас такое состояние, что без сладкого она не соображает ничего, а нести туда с собой какавеллу в те дни было не совсем удобно. И когда Вера провалилась, Зубова, приведя захлюпанную лапушку к ее родителям, просто не знала, куда глаза девать, – ей казалось, что это она виновата, и вся сладкая история стала ей прямо поперек горла, но Верин отец вздохнул только: «Ты, Туся, не расстраивайся. Ты же знаешь, Туся, какая она у нас… – Он подумал и сказал: – Какая она у нас слабенькая».
Зубова кивнула, хотя ей сделалось еще стыднее, она ведь знала, такая ли Вера-сластена на самом деле слабенькая, как это считалось в доме. Она ведь не родители: для нее в Вериной жизни никаких секретов не было, как и для Веры в ее жизни. И ведь они вдвоем тогда бегали в госпиталь, где лежали нынешний зубовский муж и Верин Славочка (то, что они медички, очень поспособствовало роману: Славочку как раз после третьего курса призвали в сорок первом военфельдшером). Но у Зубовой хватало воли уходить из госпиталя вовремя или не приходить туда три дня, чтобы не прогореть от любви, а у Верочки не хватало, а когда она уходила все-таки, так ее клонило в сон, и какавеллу в анатомичку брать было совсем неудобно.
Однако ложь, которая не прощается недругам и родителям, довольно легко прощается друзьям и себе. А в их дружбе еще со школы получилось, что Туся была тягловой силой и чувствовала почему-то какую-то ответственность за все лапушкины дела, и если судила ее, то всегда в итоге судом милосердным.
Так всю жизнь было, со всеми делами. И в акушерство перетянула Верочку тоже она – первые два года лапушка по распределению терапевтом отработала. И сама натаскивала ее в акушерстве, как саму Зубову натаскивали «просто ординаторы» из старших. И Вера Леонтьевна не хуже многих освоила все ремесло и дошла до категории, до того, что стала дежурить в смене ответственным врачом.
А последнее время Дора Матвеевна сызнова ощущала себя перед Верочкой вроде бы виноватой: упустила ее из виду, как раз как перешла в этот роддом. Зубова первые месяцы просто пропадала здесь, пока все наладилось. Даже к телефону подойти толком было некогда, а Верочка возьми да и закрути какой-то странный роман – это при своих восьмидесяти восьми килограммах; хоть бы фигуру сберегла – какая у нее была фигурка точеная!.. Зубова никогда не фарисействовала, хоть сама на романы легка не была – и не оттого, что по сей час любила своего мужа: он надоел ей со своей мнительностью, и не оттого, что холодна или мужчинам не нравилась, – просто не была легка, и все… Ну, бог с ним, был бы просто роман, так нет, Верочка взяла да и разошлась с мужем, которого очень любило все зубовское семейство, да разменяла комнаты, да и осталась на бобах: тут разрушила и там не построила и села на мель – одна, со своими двумя непокорными, недовольными ею сыновьями. Правда, с тех пор все говорила, что всем она довольна, в жизни надо быть решительной и жить откровенно для самой себя. Ну, а что ей, простите, оставалось еще говорить!
Зубовой казалось, не упусти она подругу из виду, могла бы ухватить вовремя ее за подол да урезонить, образумить, а она вот отдалилась, и Вера наломала дров. Дора Матвеевна утешала ее, как могла, и огорчалась, что ото всех бед у Веры Леонтьевны стал портиться характер. Вместо милых шуточек сейчас появилась у нее резкость. Здесь, в роддоме, как она появилась, и акушерки, и даже роженицы жаловались, что доктор Квасницкая бывает очень груба.
Жалобы сначала доходили только до Зубовой, и она старалась всех успокоить и задобрить, а потом что-то дошло до Главного, и он попросил Дору Матвеевну по-свойски приструнить свою приятельницу, и надо же было, чтобы тут же, на следующем дежурстве, разразился уже форменный скандал, о котором дня два, наверное, шли пересуды меж врачей, акушерок и санитарок, конечно.
Сам Савичев ничего о скандале рассказывать не хотел, и Вера Леонтьевна тоже рассказывала о нем в самых общих выражениях. Подробности ее, видимо, устраивали не вполне. Зато о них рассказывали акушерки и операционная сестра – рыжеватая, с чуть монгольскими глазами Тома. Очень спокойный и основательный человек.
Злополучное то дежурство у Савичева с Верой Леонтьевной было, казалось, куда каким легким – всего пять родов за сутки. Дора Матвеевна в тот день – будто предчувствовала – с утра раза три в роддом звонила, справлялась, что да как. И как раз, только перестала звонить, все и случилось.
Началось, конечно, с мелочей. Скандалы всегда начинаются с мелочей. Дежурство было в воскресенье, а по воскресеньям второму дежурному выпадало с утра обходить все послеродовое отделение. В родблоке – если, конечно, не было ничего серьезного – оставался только один первый врач, да и тот, если там все тихо, ходил обычно на обход, чтобы разгрузить коллегу. А Вера Леонтьевна взяла да и не пошла и устроилась в пустой тогда затемненной палате на отдых, примостив на тумбочку близ головы обычный свой мармелад.
Увидев это, дежурные акушерочки и операционная Тома будто случайно приоткрыли дверь затемненной палаты и неподалеку от нее в гулком коридоре пообсуждали разные роддомовские дела – в том числе и ранний отдых Веры Леонтьевны, отчетливо посетовав, что в роддоме, где доктор Квасницкая работает, порядки, видимо, другие.
Вере Леонтьевне надо было хотя бы не приметить разговора, но вместо этого она весьма определенно попросила акушерок громко в коридоре не разговаривать и дверь в палату попусту не открывать.
Не прошло и четверти часа, как у акушерок стали появляться один за другим сугубо деловые вопросы к ответственному дежурному, не терпевшие никаких отлагательств. Им все мерещилось, что то у одной, то у другой женщины из лежавших в предродовой делается глуховатым или слишком частым сердцебиение младенца, и они просили Веру Леонтьевну подниматься, слушать, делать назначения.
Поднявшись с постели два раза, Вера Леонтьевна на третий сказала, что по таким пустякам беспокоить ответственного дежурного не обязательно, пусть зовут с обхода второго врача. И атмосфера в родблоке после этого не стала лучше.
Закончив обход, Савичев спустился в родовой блок и обнаружил, что за его отсутствие в историях родов не было сделано ни одной записи, хотя полагающееся для них время уже прошло. Он принялся было за писанину, наверное крайне этим недовольный, у него уже рука онемела, пока строчил после обхода дневники. В это время одна из рожениц приблизилась к благополучному финалу, ее отвезли в родовую, и Савичев тотчас с удовольствием дневники отложил.
Услышав, что в родблоке происходят события, Вера Леонтьевна тотчас поднялась, конечно, и объявилась в родовой. Савичев же сказал ей тихонько: мол, роды он сам проведет, а не будет ли Вера Леонтьевна любезна записать пока дневники и еще оформить полностью историю женщины, поступившей, пока он был на обходе.
– Вы собираетесь мной командовать? – внятно спросила Верочка в ответ.
Пересказывая события того дежурства, акушерки и операционная Тома крайне напирали на деликатность Савичева: он сказал только, что командовать не думает, просто подошла работа, ее надо поделить.
– Ничего, кончите роды, тогда сами все и запишете, – сказала Вера Леонтьевна и ушла.
А спустя час или полтора Савичева вызвали на третий этаж посмотреть пациентку, у которой поднялась температура. В это время в родовую перевели еще одну роженицу, и Савичев попросил акушерок поднять Веру Леонтьевну – пусть эти роды ведет она. Вернулся он минут через сорок. Роды к этому времени еще не кончились, Вера Леонтьевна была в родовом зале и весьма резко стала Савичева отчитывать за отлучку. Савичев промолчал, отчего Вера Леонтьевна несколько смягчилась и сказала, что здесь стоит сделать небольшой разрез, но не такой, как делают обычно, а такой, как принят у них в роддоме, – там, где и Дора Матвеевна прежде работала.
Когда Верочка примерилась, Савичев пробормотал ей в ухо, что она может пересечь довольно крупный сосуд. Вера Леонтьевна ответила, чтобы не каркал под руку, и сделала по-своему. Ребенок родился. Савичев сказал, что у пациентки кровоточит пересеченный сосуд, а Вера Леонтьевна сказала, что надо вручную отделять послед, и приказала Савичеву дать женщине наркоз, и стала мыть руки. А Савичев ответил, что у них принято для любого вмешательства переводить пациенток в малую операционную – такой порядок: там, кстати, легче будет все увидеть. Но Вера Леонтьевна сказала, что она приказывает немедленно дать наркоз прямо здесь. Приказывает – и все.
И Савичеву пришлось подчиниться. А закончив намеченное и не снимая наркоза, Вера Леонтьевна сразу же зашила разрез, и был ли там виноват сосуд или не был, теперь никто сказать не мог. Тома, которая подавала ей инструменты и кетгутовые и шелковые нити, говорила, что, кажется, сосуд был повинен.
Но после этого женщину все-таки в малую операционную перевезли, чтобы перелить кровь: она потеряла больше полулитра. Здесь и произошла самая последняя стычка. Кровь из ампулы почему-то не пошла, – видимо, на фильтре скопились, слежались плотно эритроциты. Вера Леонтьевна приказала Томе выбросить эту ампулу и взять другую. Но Савичев сказал, что жаль выбрасывать кровь, надо взболтать ее в ампуле – и все получится; и Тома стала покачивать ампулу, осторожно смывая налипшие на фильтре эритроциты, а Вера Леонтьевна закричала, почему она не выполняет распоряжений ответственного врача.
– Вы не кричите на меня, пожалуйста, – ответила ей Тома. – Я выполняю распоряжение.
– Это не мое распоряжение. Я приказала выбросить.
– Да, не ваше, – сказала Тома. – Это нашего врача распоряжение. Мы наших врачей знаем. Мы с Сергеем Андреевичем с первых дней здесь. Мы с ним сами операционную эту монтировали и оперировали здесь вместе. Для нас он ответственный врач. Он не спит все дежурство и кровью не бросается. Это человека кровь, и за ампулу сто двадцать рублей старыми платят. А вас я не знаю.
– Это я ответственный врач! – закричала Вера Леонтьевна. – Я докладную напишу, доктор Савичев! На всех вас напишу!
– Я вас уже просила не кричать, – сказала Тома. – У нас здесь ни на кого не кричат, ни на врачей, ни на санитарок. У нас крикнул один врач на операции, так его Нина Сергеевна отстранила от операции и другого заставила мыться. У нас порядок такой – не кричать. А вы еще говорите, что вы ответственный врач. Я таких ответственных врачей не знаю. Я Сергея Андреевича знаю.
– Выбросьте ампулу, Томочка, – хрипло сказал Савичев. – Доктор Квасницкая действительно сегодня первый дежурный. Просто у нее другие взгляды. Не надо больше. Не хватало только, чтобы мы продолжали вот так и перешли на базарный тон. Именно на базарный тон. Нам ведь придется еще, к сожалению, с нею смену дорабатывать. Мы ведь не можем в таком тоне смену дорабатывать. Завтра мы не будем с доктором Квасницкой здороваться, а пока нам придется смену дорабатывать.
Тома говорила, что он был совершенно белый, будто его мукой обсыпали. А происходило это еще часов в пять дня. А когда назавтра Зубова утром пришла в родблок, Савичев встретил ее у дверей – на лестничной клетке. Он стоял и курил там и все еще был совершенно белый от злости. И сказал, еле поздоровавшись, что, если она еще раз поставит его дежурить с доктором Квасницкой, он подаст заявление об уходе.
– Да как вы смеете так разговаривать! – возмутилась Зубова.
– Иногда приходится, – сказал Савичев и пошел вниз по лестнице.
А Дора Матвеевна сказала ему вслед, что он будет дежурить с теми, с кем поставят, – без выбора. Она просто рассвирепела от всего этого.
– Не буду, – ответил Савичев. – Не буду.
Ни Савичев, ни Вера Леонтьевна в подробности конфликта не вдавались. Савичев только буркнул про заявление, а Верочка только твердила, что в этом роддоме распустили всех сопляков и вот, когда приходишь Тусе на выручку, приходится бог знает что выносить. Акушерки и Тома были с Зубовой крайне лаконичны и сухи, потому что Дора Матвеевна с Квасницкой приятельницы. Они сказали, что потребуют разобрать все происшедшее на месткоме. А Главный сказал, что никакого разбора не нужно: просто к помощи Веры Леонтьевны, хоть она и опытный врач, придется прибегать только в самых крайних случаях. И вообще не надо задевать ничьего достоинства, потому что если задевать достоинство при их работе, то работа потеряет всякий смысл. У них, в конце концов, все упирается в то, что они на этой работе чувствуют себя всерьез людьми. Это у них главный доход, который как раз и нельзя отнимать.
И сейчас, после неудачных этих звонков Никитиной и Гуревичу, поднявшись к себе в родовой блок, Дора Матвеевна стояла в коридоре и думала, как бы ей все-таки выкрутиться из дурацкой этой ситуации. Вечно она берется опекать кого-то – то Верочку, то Людмилу. И вечно из-за этого сама попадает в какие-то передряги.
И надумала она наконец договариваться с Бородой, чтобы он вместо послезавтрашних суток дежурил завтрашние, а уж вместо Бороды просить дежурить Верочку. Кстати, может быть, еще и Гуревич согласится.
Только Бороде она решила позвонить не сейчас, а вечером. Сейчас ему звонить рано. А если он и успел дойти до дому – он недалеко живет, – то сейчас на покое он обязательно начнет морочить ей голову. У Бороды сегодня, говорят, был очень хороший день. Он предложил новый вариант одной пластической операции, и днем – там у него в отделении – они вместе с Ниной Сергеевной показывали эту операцию самому Аркадию Михайловичу. Старик не поленился: хоть он и после второго инфаркта, приехал, посмотрел, оценил и после операции говорил всякие очень приятные слова. Нина Сергеевна и Борода были этими словами очень растроганы. Нина Сергеевна даже приходила рассказывать обо всем в родблок – как раз пока женщине, которой делали кесарево сечение, давали наркоз.
У Бороды, конечно, отличное настроение сегодня, а перенести дежурство на день ближе для него ничего не составит, но вот он – это бесспорно – будет минимум полчаса морочить голову. Будет просто твердить: «Не соглашусь, пока не дашь взятку». А взятка у него одна – значки. Он просто как шизофреник с этими значками. Что ни спросишь, что ни попросишь, он одно: «А где значки? Сначала значки…» У него дома ими целый ковер увешан, и он все цыганит их, даже у пациентов, и особенно цыганит их у Зубовой, потому что брат Доры Матвеевны часто ездит за границу и тоже знает толк во всякой такой ерунде.
Из-за коридорного угла выскочила дежурившая в предродовой акушерка со стаканом в руке.
Она собралась шмыгнуть в процедурную – там рядом с гинекологическим креслом обычно сипел на плитке чайник.
– У тебя все спокойно? – спросила Зубова.
– Все спокойно пока, Дора Матвеевна. Раньше чем через два часа никто рожать не соберется. Только за операцию три женщины поступили, и ни одного слова не записано еще – совсем чистые истории. А так пока все спокойно, но в большой предродовой уже ни одного места нет. Если сейчас поступать будут, придется в маленькую класть. А из патологии звонили, что переведут женщину-сердечницу, так что ночи спокойной, наверно, не получится.
– Доктор Мишина где?
– В темной палате. Давление мерит.
– Как там?
– Лучше вроде. Сейчас магнезию вводить надо. Выпью горяченького, а то в предродовой батареи стали еле теплые: кочегар-то, наверное, обедать пошел, и насос выключился. Я быстро выпью горяченького и пойду вводить.
Дора Матвеевна глянула на часы – Главный вот-вот должен был прийти. И она прошла мимо распахнутых дверей предродовой палаты, полной вздохов, стонов и кроватного скрипа. И мимо родовой, где с наполненными льдом резиновыми пузырями поверх простыней, прикрывавших их вдруг постройневшие тела, лежали две женщины, которые родили, пока врачи были на операции. Лежали, переговаривались о чем-то своем и вслушивались в писк из маленькой комнатки, что рядом. Их истории тоже были еще недописаны.
В самом конце коридора была дверь, обитая – чтобы звук не проникал – черным дерматином с табличкой на нем: «Эклампсия». Окно в палате было сейчас завешено плотными черными шторами, будто здесь зал для показа кино или будто за окном могла начаться воздушная тревога. Но уличные лучи все-таки проникали сюда через щелки меж шторами и дырочки в ткани, и в лучах мелькали пылинки. И хотя палату все называли темной, сейчас она была все-таки лишь сумеречной. Доктор Мишина уже кончила мерить давление, но манжетку не сняла, а просто сидела, сцепив на коленях руки, – видно, она ждала Зубову.
– Сколько? – спросила Зубова ее.
– Сами мерить не будете? – спросила Мишина в ответ.
– Сто семьдесят на девяносто, – сказала больная.
– А вы откуда знаете?
– Мне шкалу видно все-таки, и я чувствовала по пульсу. Ошибка может быть на пять миллиметров, не больше, – сказала больная.
– Голова болит? – спросила Дора Матвеевна.
– Болит, но поменьше.
– Магнезию сколько раз вводили?
– Два, – шепотом сказала Мишина. – Сейчас третий раз надо магнезию.
– И еще кровопускание делали, – сказала больная. – Вы не забыли? И аминазин внутримышечно. Я все сплю из-за него.
– Вам наркоз давали, когда вводили лекарство? – спросила Зубова.
– Давали. Не надо больше, – возбужденно сказала пациентка. – Эфир очень противный. Я его всегда плохо переношу.
– А вы раньше с эфиром имели дело? – спросила Дора Матвеевна.
– А я тоже врач, – сказала пациентка. – Анестезиолог. Все время с ним работала. Вы бы триленчиком лучше.
– Нет у нас трилена, – сказала Зубова с досадой. Неудобно было, что нет хорошего препарата и что пациентка – коллега, а она в хлопотах даже не заметила этого: ведь профессии рожениц пишут на самой первой странице истории родов.
– И как же вы себя так запустили, если врач? – спросила Мишина и вздохнула, жалеючи.
– А у нас, врачей, ведь всегда не по-людски, – сказала пациентка. – Я себя хорошо чувствовала. Только отеки были небольшие. Я все боялась, что меня в стационар положат: у меня мама заболела, и за девочкой – у меня девочка еще – смотреть было некому. Из консультации приходили ко мне, а я говорила, что в гриппе и сама все знаю. Я резерпин принимала и медвежье ушко. Должно было пройти, а не прошло. Я сама виновата: я все соленое ела.
– Ну вот, а еще врач, – сказала Зубова. – А наркоз дать придется. Вы же знаете, что в вашем состоянии все манипуляции только под наркозом.
– Знаю, – сказала пациентка и, протянув руку к стоявшему у ее головы наркозному аппарату, сама взяла маску и резиновые ленты, которыми маску прикрепляют к голове усыпляемого.
Вошла акушерка с большим шприцем в металлической крышке от стерилизатора. За нею, пригнувшись под дверной притолокой, – Главный. Он сразу спросил вполголоса:
– Что это у вас женщина так активно действует?
– Она врач-анестезиолог.
– Прекрасно, – сказал Главный. – И если она хороший анестезиолог, то сразу, как закончится все благополучно, мы обяжем ее перейти к нам работать. Анестезиолога у нас как раз не хватает. А сейчас по состоянию своему она от дела освобождена.
Он подошел к наркозному аппарату. Чертыхнулся тихонько, зацепив за что-то в палатных сумерках. Пристегнул пациентке маску и повернул на аппарате рычажок.
– Я даю вам кислород, коллега.
– Угу, – ответила из-под маски больная.
– Повернитесь на бок, к нам спиной… Так… Маска хорошо лежит?
– Угу, – донеслось из-под резины.
– Эфир даю. Спите.
Он подождал немного и сказал Мишиной:
– Дайте свет, пожалуйста. Просто штору отдерните пока. – Заглянул больной в лицо, приподнял веко, всмотрелся в зрачок, сказал: – Хорошо спит. Вводите магнезию… Ну, что делать будем, Дора Матвеевна?
Пациентка была под наркозом, и поэтому было не страшно, что в палате, всегда темной, сейчас настоящий день, даже с солнцем. И было не страшно, что больная побудет под наркозом несколько лишних минут. Для таких пациенток наркоз – благо. Под наркозом не случится припадка эклампсии, уже много часов грозившего незадачливой коллеге. И они переговаривались, листая историю болезни:
– Ну вот, еще одна преэклампсия на счету. Прохлопали. Извещение в горздрав послано?..
– Не наш грех, Мирон Семенович. Она не из нашей консультации.
– При чем тут это! Довести бы ее благополучно.
– По-моему, доведем. А вы разве, как уезжаете из горздрава, перестаете ощущать, что у вас есть начальство?
– Не всегда, к сожалению… Внутривенно аминазин надо было, Дора Матвеевна…
– Вены плохие. Мы после кровопускания хотели ввести, а когда выпустили триста кубиков, вена затромбировалась…
– Это не разговор для нас с вами… Не разговор.
– Нам с ней еще неизвестно сколько возиться придется. Вены беречь надо. Она еще врач ко всему. Неизвестно, какие будут сюрпризы. Сами знаете.
– Врач, а так себя запустила. Если давление не снизится, придется спинномозговую пункцию сделать. Не люблю я этого, а придется. Скажите, чтобы припасли иглу для спинномозговой… Не люблю. У меня на Урале была одна история после пункции… Да ну все это!.. Охотничьи рассказы!.. Скажите, чтобы припасли иглу… Хуже нет, чем это. Это, доктор Мишина, в старину знаете как называли? «Родимчик». Вот так вот.
– Я не знала. Я думала, родимчик – только у детей.
– Ну что вы! Это ведь о женщинах, у которых после эклампсии с инсультом были параличи, говорили: «Родимчик напал, и вот какая она стала».
– …А иглу для спинномозговой придется просить в гинекологии.
– На охоту ехать – собак кормить… Отвыкли от эклампсии.
– И слава богу.
Мишина вставила:
– На дежурстве, если все тихо, спим здесь, в этой палате. Тихо здесь. Всегда она пустая. Почти всегда.
– Лучше бы всегда. Штору закройте, пожалуйста. Кончаю наркоз. Что у вас там еще? Я ж сегодня опять поддежуриваю.
– Пока все спокойно. Ночью, наверное, все будет. Сейчас сердечницу, говорят, переведут из отделения патологии.
– Если Федорову, то мне и уйти не придется. С ней могут быть такие сюрпризы, что лучше не уходить.
– Писанины у нас груда. И операцию еще записывать. Вот Плесова придет из справочной, пообедаем и попишем. Вы мне расскажете, что было в горздраве?
– Расскажу, Дора Матвеевна… Сейчас вот больная-коллега проснется, пойдем отсюда, и расскажу, – сказал Главный.
– Я тогда взгляну на женщину, которую оперировали, – сказала Зубова.
– Хорошо. Я позову вас, когда пойду отсюда, – сказал Главный. – Она проснется сейчас.
Дора Матвеевна вышла в длинный коридор родблока и, прежде чем войти в послеоперационную палату, мучительно потянулась. Ее, кажется, снова собрался донять радикулит. И еще она проверила, не съехали ли набок швы на чулках. Такая у нее была привычка.







