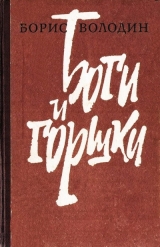
Текст книги "Боги и горшки"
Автор книги: Борис Володин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
6
В протоколе заседания зоологического отделения Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, имевшего быть 28 февраля 1876 года, прозвучавшие выступления изложены все по-разному.
Либо так: «2. Павлов и Афанасьев говорили о своих исследованиях над панкреатическою железою». И более ни слова.
Либо так: «4. В. Н. Великий и Шеповалов сообщали о психомоторных центрах и ветвлении электрических токов в мозжечке и четверохолмии». И пятистраничный реферат работы.
Либо так: «7. Ф. В. Овсянников и В. А. Истомин сделали сообщение об образовании мочевины в работающих мышцах». И реферат. Однако всего на полторы странички, поскольку подробное изложение работы и относящиеся к ней таблицы будут помещены в бюллетене Академии наук.
Или вот еще пример: возражения Филиппа Васильевича по докладу господина Гиляревского изложены весьма пространно, зато сведения о выступлениях по поводу его доклада вовсе очутились в протоколе другого заседания, следующего, – будто бы они произнесены не тотчас, а уже после сообщения Истомина, завершенного неожиданным резюме: «При определении мочевины в крови я был поражен несоответствием количества работы, производимой мышцей, с количеством мочевины, выделенной в одинаковое время».
Засим и следует. «На это сообщение возражали г. г. Афанасьев, Тарханов, Павлов». А в конце протокола указано, что в этом заседании Великого и Афанасьева избрали в действительные члены Общества, и Лебедева – тоже.
Протоколы – документ печатный, однако Иван Петрович, которому его феноменальная память ни разу не отказала за всю восьмидесятишестилетнюю жизнь, рассказывал ученикам, что выскочил возмущенный сразу после демонстрации эксперимента, первым, прямо к машинке с собачьими ногами, ошеломив аудиторию – звон раздался, словно разбилось что-то, – ибо назвал опыт академика дурацким.
«…При чем же тут работа, когда лапы отрезаны и вяртятся пассивно?!..» В неистовстве у него выскочило рязанское «вяртятся».
И услышал ласковый тенорок своего нового, час назад приобретенного патрона, прозвучавший с изрядною досадой:
– Да-ра-гой господин Павлов, бог с вами! Ну как можно так неуважительно о сложнейшей работе старшего коллеги!.. Бесспорно, в подобных опытах многое способно вызвать возражения. И все же нельзя не признать, что известная степень работы мышц в опыте нашего! дорогого! Филиппа Васильевича! была! Ибо не только активные движения мускулатуры, но также и пассивные представляют собой… И хотя еще конечно же обмен белка при пассивных движениях не тот, но все же…
А дальше, кажется, про установку Людвига и Шмидта для анализа обмена газов в изолированной мышце, – «если память мне не изменяет, „Труды Лейпцигского физиологического института“, том за 1868 год, страница первая», – а также о Сальвиоли, показавшем способность изолированной почки весьма долго сохранять основные функции… «Те же „Труды“, год 1874-й».
– Конечно, господа, мы имеем дело в данном случае с первой пробой! Не безупречной! Как все, что первое. И все же следует, не задерживаясь излишне на возражениях, приветствовать попытку со всей доброжелательностью!..
Беда в том была, что Иван Петрович ни разу еще не бывал на Кавказе.
…Вот он и у Марлинского, и у других авторов читал про тамошние обычаи гостеприимства, побратимства, кровной мести, почитания старших и получасом раньше даже сделал в уме зарубку: коли сойдется короче с Иваном Романовичем, выспросить у него при случае про «законы гор», – у кого же узнать это лучше, чем у настоящего горского князя, да к тому же такого свободомыслящего! И оттого, когда услышал эти тархановские слова, не мелькнуло у него догадки, что в Иване Романовиче аутоматически действует с молоком матери впитанный рефлекс охранения седин старейшины от поругания! Что князь грудью своей прикрыл батоно Филиппа Васильевича! Пативцемуло масцавлебело – высокочтимого учителя, духовного наставника их обоих и многих других!..
Оттого-то после заседания Иван Петрович и сказал Ивану Романовичу, дрожа от ярости, что он готов служить науке, но не «лицам».
– И с теми, кто служит лицам, никаких дел у меня нет и не будет, честь имею кланяться!
7
О его дорожных впечатлениях 1877 года, в связи с которыми Иван Петрович мог бы здесь сам вспоминать все эти события, и о его вагонных попутчиках, которым он мог бы о них рассказывать, ничегошеньки не известно. Его устные «Impressions» всегда начинались уже с прибытия на Бреславльский вокзал, да к тому же еще и обрывались сразу на эпизоде первой встречи с Рудольфом Гейденгайном.
Начнись они хотя бы в Сосновицах – со сцены таможенного досмотра, – и мог в них, например, возникнуть жандармский офицер с аксельбантом. Допустим, подошел бы он невдалеке к очкастенькому студенту в форменной с бархатным воротником тужурке Технологического института и, переглянувшись с чиновником пограничной стражи, принялся бы юношу приглашать в боковую комнату с голубым унтером у двери, да так любезно, словно там уже и стол накрыт, и демьянова уха дымится (этих сцен случалось предостаточно). А чиновник взял бы паспорт Ивана Петровича и с особой строгостью, чтоб полностью его сосредоточить на другом, принялся бы требовать ответа, где г-н Павлов изволит проживать, да с какою целью изволит путешествовать: «С научной? М-да-c!» И тут Ивану Петровичу могли бы вспомниться фамилии трех академических студентов, бесспорно им слышанные, потому что Богомолов, Чернышев и Кибальчич должны были учиться с ним на одном курсе, но к его поступлению в Медико-хирургическую – об этом сокурсники много меж собой говорили – все трое находились на Шпалерной, в Доме предварительного заключения, привлеченные к очень громкому «делу о пропаганде». Людей по этому делу тогда хватали сотнями – и тех, кто «ходил в народ», как Богомолов и Чернышев, и тех, о ком ничего подобного не было известно: вроде бы Кибальчич – по словам тех же однокурсников – ни в кружках не участвовал, ни даже общественных библиотек не устраивал и все дни пропадал на кафедре химии. А вот взял на сохранение то ли чемоданчик, то ли тючок некоей дамы – тотчас обыск, и в тючке обнаружились издания. И, ко всеобщему ужасу, Богомолов в в 75-м с собой покончил в тюрьме. А Чернышева в марте 76-го выпустили в последнем градусе чахотки, чтоб только помер не в тюрьме, а в клинике Виллие – на второй неделе своей свободы и на двадцать втором году от роду. Студенты собрали меж собой деньги на его похороны, все как надо – катафалк, священник, свечи, цветы. За гробом до полутысячи юношей и один профессор – князь Тарханов, только что назначенный экстраординарным, поскольку преподавательский опыт его был мал: на должность ординарного ему предстояло спустя год-другой баллотироваться заново. Шел молча, не стараясь ни выставиться, ни стушеваться в толпе, что при его-то наружности и благородной стати и вовсе невозможно, – до самой могилы. Все его видели – и кто хотел, и кто не хотел бы там видеть. А в процессии еще передавали по рукам рукописные листочки со стихами какого-то студента: «Последнее прости» – «Замучен тяжелой неволей, ты славною смертью почил…» И, учуяв, что панихида получается не по одному, а по всем умученным, градоначальник Грессер рысью отправил к Волкову кладбищу отряд полиции. Половину провожавших в скорбный путь не то что к могиле – к кладбищенской ограде не подпустили, причем городовые дали волю кулакам. А Иван Петрович политики сторонился, сам с процессией не пошел, Тарханова в ней увидев, тогда, месяц спустя после инцидента на докладе, в уме обвинил недружелюбно в искательств, теперь перед студентами – вот он-де не как Цион. Но после этого святотатственного полицейского хамства, в тот же день ставшего всем известным, и смерть Чернышева, и похороны даже на него подействовали ошеломляюще. Как бы ни выказывал свою отстраненность, но ведь он обо всем в российской жизни размышлял непрерывно и страстно.
…Однако как отважиться в документальном вообще-то сочинении утверждать, что, дожидаясь в Сосновицах пересадки в дешевый немецкий почтовый, он об этом именно и размышлял. Вот прошлогоднее предложение Тарханова идти в ассистенты – факт точный. Доклад Овсянникова – пожалуйста, он в «Трудах» Общества. Прения, тирада о служении науке, а не лицам, разрыв с Иваном Романовичем – все с павловских слов.
Есть, наконец, тетради Ивана Петровича с конспектами множества немецких и французских физиологических работ – все они посвящены нервным механизмам регуляции кровообращения. И черновые наброски статьи «О сосудистых центрах в спинном мозгу», и сама статья – опубликованная. В ней он оспорил теорию Овсянникова о единственности центра, точное расположение которого академик шесть лет назад определил, а более того – сам подход к такому исследованию («методологию», как нынче бы сказали). И завершается эта статья изложением некоторых принципов, каким должен был бы, по мысли студента Павлова, такой подход отвечать. А если еще присмотреться к опытам, которые были им поставлены осенью 1876 года, создается впечатление, что Иван Петрович все это время непрерывно и про себя, и вслух продолжал полемику, так скандально им начатую в февральском заседании Общества естествоиспытателей.
Статья была предназначена для «Военно-медицинского журнала». Как гласили объявления, время от времени там печатавшиеся, господам авторам надлежало адресовать статьи, для этого издания предназначенные, на имя главного военно-медицинского инспектора, тайного советника Николая Илларионовича Козлова – на его квартиру: Конногвардейский бульвар, № 13. Редакция при этом покорнейше просила своих сотрудников-авторов обращать внимание на слог и разборчивость почерка доставляемых рукописей. Однако еще и предупреждала, в очень твердом тоне, что статьи, не напечатанные в журнале, выдаются из редакции без всяких объяснений о причине их непомещения.
Правда, судя по одному признаку, Иван Петрович, пожалуй, был заранее обнадежен тайным советником Козловым, что его статья увидит свет непременно. И более того, возможно, состоялась у них договоренность еще об одной статье, развивающей те же вопросы на близком материале. Ведь данное сочинение Ивана Петровича было предназначено в раздел журнала, специально учрежденный в тот год для обзоров новейших работ, идей и теорий родившихся в разных разделах медицинской науки – и в экспериментальных, и в клинических.
Она появилась в этом разделе под заглавием «Важнейшие современные работы по иннервации сосудов и кровообращению вообще. – И. Павлова», а затем уже стояло: «1. О сосудистых центрах в спинном мозгу». И цифра перед этим подзаголовком говорит, что публикуемый текст, немалый, кстати, – в полтора печатных листа, – представляет собою первую часть большого сочинения или первую статью из двух или трех, объединенных общей темой и единой идеей. Почти все обзоры, печатаемые в разделе, были из двух или трех частей.
Таким и предстояло стать дебюту Ивана Петровича в российской научной периодике.
Статья «О сосудистых центрах в спинном мозгу» была заверстана в майский номер 1877 года. Иван Петрович трепетно держал корректуру, очень ждал выхода журнала – первая публикация, да и какая! Показать бы ее Гейденгайну, – хоть она и на неведомом тому языке, но все-таки как бы визитная карточка.
Однако номер из-за чего-то задержался, а ведь любое сочинение обретает реальную ценность, лишь когда оно читано теми, кому предназначено, и вызвало резонанс, то есть отзвук. Потому сейчас давайте-ка сразу в Бреславль – вместе с Иваном Петровичем, этого отзвука пока еще не услышавшим. Вот и Одер уже блестит в вагонном окошке, и добрый этот город перекидывает с берега на берег и на острова меж ними знаменитые свои мосты – Университетский, Лессингов, Королевский и еще тридцать семь других.
8
…Там, в Бреславле, моросил ранний летний дождик – обмывал остроконечные черепичные крыши и парадно блиставший черный клинкер мостовых, чтобы, упаси бог, не запачкался оседавший на них паровозный пар, пока поезд подтягивается к вокзалу мимо опущенного через улицу шлагбаума с темно-синим форменным сторожем. Мокры были и стриженые ломовые битюги в черных наглазниках, не по-русски, без дуг, впряженные в телеги. И их возницы. И извозчики кабриолетов, не закрытые, как их седоки, кожаными верхами и нахохлившиеся на козлах со своими фарфоровыми трубочками. И стоило Ивану Петровичу выйти из вагона, как его ярко-желтый нанковый костюм, совершенно способный, согласно рекомендации Апраксина двора, заменить визитку или фрак при явлении к заграничному научному светилу, начал на плечах темнеть и прилипать.
И тут еще в багажном отделении вокзала почему-то не оказалось ни чемодана, ни баула, ни портпледа Ивана Петровича. А багажный кассир попеременно с кладовщиком, тыча пальцем в квитанцию, что-то ему твердили на очень странном языке из одних гортанных и картавых звуков. И совершенно не понимали Ивана Петровича, который отвечал им на хорошем, как он был убежден, немецком, ибо не только давно свободно переводил даже из Гёте, но уже и с русского на сей язык переложил три своих статьи и целых сто рублей издержал перед поездкой на совершенствование в немецком разговорном – из своих-то великих капиталов! В панике он выбежал на перрон, принялся, ныряя под чужие зонты, совать свою квитанцию одному, другому, третьему, в ком только чудилась способность понять и спасти. Без толку – вся Силезия точно сговорилась говорить непонятно. Однако среди прочего всякий раз непременно слышалось картавое: «Айнандаха банххо! Айнандаха банххо!»
И вдруг его озарило: «Bahnhof!» – «Вокзал!» И он стал тыкать пальцем вниз, в доски дебаркадера: «Ja, ja, der Bahnhof ist da!» – «Да, да, вокзал здесь!»
Но ему указывали куда-то в сторону.
И только когда квитанция вконец измялась, а желтый костюм, вовсе съежившись, утратил свою неотразимость, плачущие небеса наконец сжалились и прислали доброго ангела в облике веселого носильщика-поляка. И хотя польского Иван Петрович не знал совсем, а познания носильщика в русском тоже ограничивались десятком слов, ангел вник в его беду, хлопнул брата-славянина по плечу и утвердил: «Инный двожец! Инный банхоф! Айн андер!.. Пан розуме?..»
Господи! Оказывается, в Сосновицах он ухитрился адресовать багаж на вокзал, куда прибывают курьерские, а сам-то из экономии прикатил со своими пересадками поездом, который приходит на другой.
Тут ангел сунул квитанцию в карман и сказал: «Карашо, делаю!»
Иван Петрович залопотал, как мог, что он приехал к профессору Гейденгайну работать. В университет. Работать к Гейденгайну. К Гейденгайну. Ангел снова сказал: «Карашо, Хайденхайн!» – осенил его своим большущим зонтом и повел из улицы в улицу, срезая путь где-то сквериком, где-то мелким переулочком, так что, если б Ивану Петровичу вздумалось вернуться на вокзал, он обратную дорогу не нашел бы нипочем.
Носильщик позвонил в какой-то дом, трехоконный по фасаду, бойко залопотал с хозяйкой, мгновенно уставившейся на мокрый желтый костюм, – Иван Петрович из всего скопления звуков разобрал только «фон Русслянд» и еще «херр профессор Хайденхайн». Затем хозяйка ввела его и носильщика в комнатку, очень чистенькую и милую, и стала что-то говорить. Иван Петрович в ответ только улыбался и неопределенно тряс головой. Тогда носильщик достал квитанцию и карандашом написал на обороте цифру, весьма подходящую, после чего Иван Петрович закивал головой уже вполне сознательно. Для увенчания достоинств квартиры носильщик подвел его к окну и, ткнув большим пальцем по дуге куда-то направо и напротив, победительно произнес: «Херрн профессор Хайденхайн! Лабораториум! Карашо!» Хозяйка покивала головой, но взгляда с костюма на окно не перевела. А носильщик снова хлопнул его по плечу, ткнул пальцем в пол и, почти перейдя на родной Ивану Петровичу русский, торжественно взгромоздил целых пять слов: «За една годзина вещ-щи тут!» – и ушел с квитанцией и хозяйкой.
Иван Петрович выглянул в окно. Дома напротив все – и двух– и трехэтажные – были в три окна по фасаду. Но один, поодаль, был окон в шесть, если не больше. И это его удовлетворило, и он наконец внимательно обвел взглядом комнату, а потом и свой костюм. Покачал головой: «Эк, как в Апраксином надули!»
И вдруг в нем проснулся классический страх россиянина: «А багаж!» Бог знает кому он отдал квитанцию, – что из того, что ангел в форме, коли не только носильщицкого номера не запомнил, но не заметил даже, была ли бляха с номером у поляка. Конечно, багаж не бог весть какой, но все же багаж – там тетради с записями, бельишко, три статьи, пальто! Там деньги в кармане сюртука – единственного! Обмишулят его, растяпу, вахлака рязанского, в чужестранном городе, где ни он никого, ни его самого никто не понимает!.. Не прожить ведь в этой желтой тряпке и без денег!.. Лишь могучим усилием воли заставил он себя ждать, одолевая и этот страх, и стыд за такие свои дурные мысли. Собственных часов по его достаткам еще не было заведено, и время тянулось совершенно мучительно. Однако все-таки раздался наконец веселый дверной колокольчик, тяжкие ангеловы шаги, и весь его багаж вступил через растворившуюся дверь в комнату. Иван Петрович радостно распахнул кошелек, но добрый поляк выбрал только две довольно скромные монеты, и тогда Иван Петрович с неожиданной для носильщика внятностью произнес: «Die Kneipe!» И услышал: «О, кнайпе! Карашо!» Большой перст ангела описал у окна дугу – теперь уже налево. Иван Петрович мигом переоделся в сухое, и когда вышли, то именно за левым углом обнаружилась великолепная маленькая «Кнайпе», где было пиво светлое и пиво темное, и хороший шнапс, и жареные колбаски, и даже бигос, и все недорого, отчего расставались они со Станиславом Даленским – так в миру звали ангела – долго, как и надлежит лучшим друзьям, даже когда они говорят на разных языках и именно когда на улице дождик.
А наутро желтый костюм был обнаружен отглаженным, правда несколько укоротившимся, да замечательная его окраска сделалась не совсем ровной и отчего-то впрозелень. Тем не менее Иван Петрович нашел, что смотрится в нем хоть и не так, как Цион во фраке, но все-таки недурно, и, перейдя улицу наискосок, вступил под своды лаборатории Рудольфа Гейденгайна, имея цель элегантно и победительно доказать светилу задерживающее действие атропина на секрецию поджелудочной железы.
Ему очень нужно было это доказать, и как можно убедительнее, поскольку надо было наконец объявить миру о плоде своей первой научной любви, то есть попросту напечатать эту работу. Какой от нее прок, когда валяется в ящике: не для того делалась. Не назовешь ведь публикацией две строчки в печатном протоколе: «2. Павлов и Афанасьев говорили о своих исследованиях над панкреатической железою». Но куда сунешься, коли тебя никто не знает? Вот Людвиг в своих «Трудах Лейпцигского физиологического института» печатает только то, что у него на глазах в его институте сделано. Работал у него Сеченов, работали Цион, Бернштейн, Устимович, Пашутин, ездили к нему Овсянников, Чирьев, Бакст, Ворошилов – напечатаны статьи. А то, что сделано в Петербурге, чаще печатает Пфлюгер, но и к нему в Бонн тоже просто так не пошлешь. Он же открывает статью и, только в чем-то усомнится, принимается сам пересчитывать данные. Найдет случайную марушку, и – все в корзину. Был бы Илья Фадеевич, он бы удостоверил, что опыты чисты и точны, – так его нет. Кого просить? Овсянникова? Тарханова? Ни за какие коврижки! А Устимович для Пфлюгера все равно что сам Иван Петрович, лицо неведомое. К тому же, поскольку речь о поджелудочной железе, нет лучшего авторитета, чем Гейденгайн. Но он, говорят, и колюч, и насмешлив – немцы очень его не любят.
Год ждал, ехать было не на что, стипендия – четвертной в месяц. Только проработав после Чирьева ассистентом полтора семестра, получил вознаграждение – триста рублей. Написал за Устимовича письмо: не дозволите ли моему ассистенту приехать к вам поработать? Патрон расчеркнулся.
Пришел ответ: «Высокочтимый коллега! Недостатка места в моем, в общем-то мало кем посещаемом институте еще никогда не было. Ваш господин ассистент в любое время сможет найти у меня приют». И дальше – что хорошо бы уведомить заранее, чем господин намерен заняться, не будет ли нужды в специальной аппаратуре и в какой именно, ибо инструмента у них вдосталь, только нет приборов для газометрии.
Господин ассистент сообщил, чем намерен заняться, – новый ответ: быть того не может, жду, рад буду убедиться, что не прав. Треть вознаграждения – на уроки разговорного немецкого. На дорогу в оба конца и за багаж – почти всю вторую: девяносто без малого рублей. Прочее – на два месяца житья. Слава богу, экономия на третьем классе позволила купить костюм…
И только Иван Петрович раскрыл дверь указанной служителем большой лабораторной комнаты, где было много людей, – верно, что-то обсуждалось, – как сидевший на углу стола субтильный, лет сорока господинчик со встрепанной рыжеватой бородкой, с пейсами соскочил, вперился в его костюм бесовскими карими глазами, которых и очки не гасили, и, тыча пальцем, точно уличный мальчишка в нелепого прохожего, захохотал: «Der Kanarienvogel! Ха-ха!.. Herr Kanarienvogel! Хи-хи!» И за ним вся комната закатилась смехом.
Слова были понятны – кричал он на «хохдойч», на литературном немецком. Иван Петрович сразу перевел в уме: «Канарейка! Господин Канарейка!» Нет, правильней – «Господин Канарейкин!»
Растерянно понюхал свой рукав, словно бы пробуя запах цвета. И сам рассмеялся.
И это все решило.








