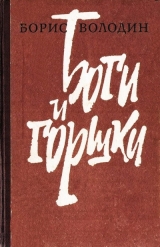
Текст книги "Боги и горшки"
Автор книги: Борис Володин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
А найдите-ка пример красноречивей! Вот только нос у Чирьева задран – самому Илье Фадеевичу впору. Он с Ционом и Бакстом в сердечном приятельстве, в домах принят – самый первый по счету их ученик, и лучший, и ныне им равный, звездочка восходящая. И впрямь талант: гимназию – в пятнадцать! И разом. – классы землемеров. Два года работал таксатором у себя на Витебщине. Из Московского университета вылетел сразу – за студенческую сходку, и еще – на год домой под гласный надзор. Зато Петербургский – за три года вместо четырех, и когда Иван Петрович первый курс окончил, Сергей Иванович, который его на целый год моложе, уже осенился кандидатским саном и был оставлен на кафедре «для приготовления к профессорскому званию». И уже выступал в Киеве с докладом на съезде русских естествоиспытателей. И другая его работа, совместная с академиком, которая, наверно, лет сто проживет, – о влиянии раздражения чувствительных нервов на кровяное давление и секрецию слюнных желез – уже напечатана в Бюллетене Академии наук. Причем все заметили – в ней манера Филиппа Васильевича совсем придавлена. Академик что говорил, что писал – про все всегда неспешно, повествовательно: «Получив эти данные, я приступил к выяснению, не влияет ли упомянутое на то-то да на это, для того-то сделал так-то». А здесь – энергический стиль: «Собака кураризирована, искусственное дыхание, манометр соединен с сонной артерией, канюля в левом протоке подчелюстной железы, нервы раздражались по полминуте». И таблицы: какой нерв, какое раздражение, давление крови, количество слюны – раз по пятнадцать за опыт. И за другой. И за десятый. Столько-то опытов, такие-то результаты, объясняем их так-то.
И вдруг, тотчас как Илья Фадеевич занял кафедру в Медико-хирургической, кандидат в профессоры Чирьев из университета прочь – опять в студенты и в ассистенты к Циону: физиолог без медицины немыслим! И сразу за работу: «Зависимость сердечного ритма от колебаний внутрисосудистого давления» – огромнейшую! Вот-вот окончит – и его ассистентское место вам, Иван Петрович.
И посему каждый день после лекций, перекусив в студенческой кухмистерской, новые соавторы спускались с университетской набережной на лед – там, где летом, белея стругаными брусьями, покачивался на барках наплавной Дворцовый мост. Пересекали натоптанной тропой Неву. И пешочком-пешочком по морозу, кратчайшим путем: либо по сугробам вдоль кронверка Петропавловки – к Большой Дворянской, либо противоположными набережными, Дворцовой и Французской, – до Арсенала, а там от основания плашкоутного Литейного моста, тоже в ледостав разобранного и распроданного на дрова, – к Нижегородской, к анатомо-филологическому институту. (Весной в ледолом и в паводок путь получался на версту длиннее: через Тучков мост и Петроградскую сторону. Конки там еще не проложены: одна катила по Невскому, одна – по Садовой и одна – по Васильевскому острову, от Стрелки до 6-й линии, а извозчики об эту пору вовсю дорожились: пути на двугривенный – и полтинник запрашивали, и больше. Не по карману.)
Но как проиграл былой соавтор! Хотя Цион в том своем царстве мелькал зеленой молнией мимо, погруженный в свое, к тому же диссертантам думать надлежит своими головами – недаром «dissertatio» есть «рассуждение», – но все-таки сегодня Илья Фадеевич глянет, завтра что-то подскажет, он же и этот предмет тоже знал не книжно – он же работал в Лейпцигском институте, как раз когда Людвиг и Бернштейн, Людвигов ученик, одессит, мудрили там над новой постоянной фистулой протока этой железы. Серебряные или стеклянные трубочки Клода Бернара вызывали у собак непрерывное, изнуряющее истечение панкреатического пищеварительного сока, да к тому же мутного, измененного, и они испытывали приспособление понежней – этакое «Т» из свинцовой проволоки. Один усик – в проток, другой – в кишку. Ножка проволочной буквы – в рану, чтоб та не зарастала и получился свищик, и сок через него стекал в пробирку.
Людвиг ждал ответов железы, конечно, на раздражения блуждающего нерва – по анатомической логике. Этот парасимпатический «нервус вагус», «бродяга», рассыпает многожильные проводочки на всем своем пути от черепа до кишок – к внутренним органам, к железам, к сердцу (считалось, что и к сосудам тоже). У всякого волоконца свой смысл, своя функция. Не хитрость – заподозрить, хитрость – заставить каждый проводочек заговорить отдельно от прочих. И ведь на идущей в слюнную железу «барабанной струне», тамошней заместительнице вагуса, – она тоже парасимпатическая – Людвигу все удалось! И тогда, в Лейпциге, они с Бернштейном тоже получили два результата. При ихней постоянной фистуле у собаки, проголодавшей сутки, железа все-таки переставала попусту лить сок. А накормят – и секреция вскоре возобновляется. Сдавливал Бернштейн зажимом отрепарированный вагус – начиналась рвота и железа умолкала.
Однако эти опыты раскритиковал Гейденгайн: воздействия слишком грубы, исследованный сок чересчур водянист, клетки железы перерождаются из-за воспаления, эксперимент не показывает истинных жизненных событий. Лучше работать с временными фистулами, аккуратненько и осторожненько оперируя кроликов, у которых железа уже работает, накормленных в самом опыте. И вместо грубых механических воздействий на нерв испробовать введение атропина, который отключает влияние вагуса, – ведь именно с помощью атропина и удалось раскрыть роль «барабанной струны» в инервации слюнной железы!..
Великолепные надежды – результат казался несомненным. И вдруг статья гейденгайнозского ученика Ландау с невразумительными данными, но категорическим утверждением, что атропин секрецию железы у его кроликов не прекращает. И, значит, ее остановка в опыте Бернштейна при пережатии вагуса – общая реакция на травму!..
Илья Фадеевич еле тогда удержался, чтоб не заняться этим самому, – уверен был, что угадал подводный камень. И раз самому некогда – затвердил как конкурсную тему! А Овсянников сей предмет знал отвлеченней – по журналам. И уж поскольку мастерам не дались должные ответы, да и конкурсантам лучше не повторять друг друга, он предложил своему милому Владимиру Николаевичу иной заход: используя временную фистулу, ответить, не участвует ли в событиях другой брюшной нерв – «splanchnicus major» – «большой чревный», несущий симпатические волокна?.. Окажется – не служит? И это прекрасный результат для конкурсной работы: еще один довод в пользу роли вагуса и правильности главного пути, избранного наукой. Достанется ли конкурентам равноценный аргумент?..
Никто не знал, как все обернется. Что в октябре 74-го бунт студентов-медиков сокрушит Ционову профессорскую карьеру. Слово за слово, стычка за стычкой, столько набралось да так за два года накалилось, что от новых двоек и оскорбительной фразы, в раздражении им брошенной, полыхнул взрыв: «Долой Циона! Вон Циона!» А вызвали солдат разогнать сходку да посадили пятерых зачинщиков на гауптвахту – и начались волнения в Технологическом и Горном. И военный министр граф Милютин распорядился приказать назначенному немедленно катить со всех глаз долой из Петербурга – хоть в Париж. «Из-за расстроенного здоровья». На казенный счет. И он укатил – в Париж. В отпуск, ставший вечным. Ровно за день до заседания секции Общества естествоиспытателей, в котором лаборант Академии наук Великий и студент Павлов должны были наконец посрамить Шиффа, подтвердить истинность былого открытия братьев Цион и сообщить про свой пучок.
Но их вполуха слушали. Многих от одного Ционова имени передернуло, и – зашептались…
Вот от тех дней и потянулись струны уже довольно звонких отношений Ивана Петровича с петербургскими коллегами старшего поколения и своего.
Прежде-то студент Павлов был весь в ученье, в заботах о первом истинно своем научном детище и о затеянном издании – вшестером, с однокашниками-физиологами, рефератов новейших заграничных работ в виде приложения к «Трудам Общества»: все они подрядились рефераты готовить gratis, безвозмездно, – ну и, конечно, в кое-каких сугубо личных эмпиреях.
О непрерывном бурлении вокруг Циона мудрено было не знать, но Иван Петрович смотрел на события только из-за спины «несравненного учителя» и считал происходящее досадной суетою. Однако в тот день «брызги» уже и до него долетели. Пришлось очнуться, понять, что спина исчезла, ты на ветру один, – гляди собственными глазами, своим умом определи, не только какая фистула лучше, но и отношение ко всему окрест себя.
Те первые холодные капли на лице он ощутил, когда Филипп Васильевич после доклада выставил своего лаборанта на баллотировку в члены-сотрудники Общества естествоиспытателей, поскольку ученая зрелость господина Великого доказана его работами, в частности опытами, опровергшими Шиффа. А Павлова даже не упомянул.
Что прикажете, объясняться? Услышать: «Ах, не догадался»?.. Или холоднее: «Извините, но Владимир Николаевич уже официально сделался ученым работником, а вы, сударь, сами остались в студентах… Пусть из высших соображений, но!..» Тоже суета все это! Поддашься – пропадешь. Не то важно, кем тебя числят, коль ты мыслящий реалист, self-made man, сам себя как личность созидающий по гордым прописям Писарева и Смайлса. А коли так – тряхни бородой и сам всему определяй цену, себе – тоже. Только вот в ежемесячные заседания Общества тошно стало ходить.
Но далее такое случилось, чего стряхнуть не мог, потому что не тебя коснулось, а кумира – Ильи Фадеевича. В начале января 75-го совет университета исключил г-на Циона из состава профессоров, как поставившего себя в невозможные отношения с остальными коллегам и, – заглазно и единогласно! И, значит, академик не только слова не вымолвил в защиту блистательного физиолога и своего сотрудника, но молча и сам кинул камень. И сразу же начальник Медико-хирургической обратился к Филиппу Васильевичу с просьбою читать в академии курс физиологии за временно отсутствующего профессора, дабы не сорвался у второкурсников учебный год. А когда три дня спустя Овсянников взошел на кафедру академической аудитории, шестьсот набившихся в ней студентов-медиков всех курсов встретили его бурею рукоплесканий как воплощение света, вытесняющего тьму. И граф Милютин тотчас распорядился сообщить профессору Циону рекомендацию задержаться в отпуске, присовокупив с усмешечкой, что он бы на месте профессора счел себя оскорбленным и демонстративно бы ушел в отставку. Усмешечка вмиг пошла, гулять по Петербургу, все расставилось по местам, и ученый мир словно бы полыньей рассекся для Ивана Петровича надвое – на «чужих» и «своих».
В «чужих», в учителевых недругах, – все.
В «своих», в упрямых Ционовых почитателях, – Чирьев, Бакст, он, Афанасьев, Бакстов ученик Ительсон и два академических профессора – анатом Ландцерт и физиолог Устимович с новой кафедры, образованной на ветеринарном факультете академии. Они кипели, клеймили дутые величины, падкие до легкой популярности, вздыхали о стадности толпы, горевали, что истинный гений – не пророк, в своем отечестве; фразы эти, конечно, долетали до академика и не вызывали при этом никакой видимой его реакции.
Но разговоры разговорами, а были и шаги…
3
Устимович, например, всем говорил, что задумал статью с критикою работ академика. Правда, скорого ее появления на свет не ждал никто, и Филипп Васильевич тоже, поскольку свою докторскую диссертацию Устимович сделал всего через пятнадцать лет после университета – богатому помещику спешить некуда.
А Сергей Иванович Чирьев взял да и отказался исполнять при профессоре Овсянникове обязанности лекционного ассистента и перешел в ассистенты к Устимовичу. Филипп Васильевич пожал плечами, и опыты на лекциях для медиков демонстрировать стал, естественно, его верный лаборант.
Студенты Павлов с Афанасьевым тоже изобрели демарш – какой могли.
Когда Филипп Васильевич взял в руки их диссертации – кому же еще было в университете разбирать, какая из физиологических работ достойна награды, золотой, серебряной или никакой! – то, перелистав их для начала бегло, он увидел на последней странице сперва одной, а тотчас и другой выведенную крупными литерами «благодарность профессору И. Циону за советы, которыми он поддерживал нас при проведении наших исследований в лаборатории здешней Медико-хирургической академии».
Все точки над всеми «и» в этой дипломатической ноте поставлены яснее ясного: ведь советы-то Илья Фадеевич давал как профессор университета, чего не указано, ибо оттуда, господин Овсянников, он при вашем участии две недели назад изгнан, а вот эта лаборатория – навек его лаборатория и наша alma mater, помните сие. Сочинения по традиции анонимны – взамен имен девизы, – но и секрет изначально был полишинелев, и этим пассажем забрала демонстративно подняты – по-евангельски, по Матфею: и будем ненавидимы за имя Его – верши, судья, свой суд неправый!.. Можно представить себе, с какой неохотой Филипп Васильевич принялся за чтение.
Однако известно, что на второй странице он насторожился. Дальше – изумился. Увлекся. Восхитился. Взялся за перо и написал отзыв, какого демонстранты не ждали и не хотели от него.
Он педантично объяснил каждое преимущество их работы, для начала – «во первых строках своего письма» – сразу поставив их на одну доску с Клодом Бернаром и всеми другими известнейшими исследователями. Вот корифеям не под силу было с помощью постоянной фистулы поджелудочной железы получить надежные факты, по которым можно было бы судить о ходе событий в неповрежденном органе. А наши авторы сумели доказать, что данный метод при надлежащем исполнении приносит прекрасные результаты!..
Было чему порадоваться, – господи, да как хорошо эти задиры все продумали, все взвесили в жажде увидеть каждое явление в полной чистоте!.. И они же сумели решить ту Гейденгайнову задачку, сумели именно потому, что сперва разобрались, отчего она не далась коллеге Ландау. Временная фистула, травма самой операции – вот корень неудачи, ибо любое сильное чувствительное раздражение, по какому бы нерву ни распространялось, неизменно тормозит – это ими доказано! – поджелудочную железу, «оглушает» ее, лишает способности отвечать на сигналы, призывающие, чтоб она заработала. Все-то ждали, что будет ее стимулировать, как слюнную!
А при постоянной людвиговской фистуле, умело сделанной, уже дня через два-три, когда животное оправилось от операции, железа послушно включается, как только собаке дали пищу. И количество каплющего из фистулы сока – они его измеряли каждые пять минут – возрастает, затем снижается, вновь возрастает и вновь убавляется с одною строгой закономерностью. И надо думать, что это – также ответы на некие сигналы секреторных нервов.
…Да, да, профессор Гейденгайн доказал, что постоянная фистула, постоянное «окошечко в мир», сама по себе – тоже повреждающий фактор. Но дегенерация клеток железы начинается только к девятому дню – и вот оно, время для наблюдений за нормальной деятельностью органа!
Все у них получалось!
Накормят собаку – и железа начинает работать. Введут атропин – секреция тормозится. Введут физостигмин – и железа снова льет сок. А это же азбука: атропин отключает вагус, физостигмин восстанавливает передачу импульсов, – значит, именно блуждающий нерв, «бродячий», как называл его Сеченов, отдает железе волоконца, заведующие секрецией!
Вот он, ответ, – ясный, послушный, повторяемый. А забияки не могут остановиться: еще опыт, еще и еще – та же собака, другая, пятая, атропин, физостигмин, раздражение кожи током, раздражение вагуса, седалищного нерва и нерва голени. Миска с мясом собаке под морду, трубка манометра в артерию – то в сонную, то в собственную артерию железы: совпадает ли секреция с расширением сосудов, с гиперемией, с полнокровием органа?.. Наслаждаются собственной умелостью, словно акробаты у Чинизелли: может на «bis» и такой кульбит, и этакий, – да как иначе, если дело дается. Если чувствуешь, что природа трафаретна. Что ощупываешь истинные закономерности. Что, может, еще какой-то поворот, и уже просто рукой потрогаются паутинки проводочков – и тех, что запускают железу в работу, и тех, что приказывают остановиться по принципу нервного антагонизма. Да иного и быть не должно: ведь мы живем в семидесятые годы могучего XIX века, и лучшие умы физиологии предвидят, что механизм обязан быть таков!
…Но вот в этих ли точно выражениях воплощались мысли Филиппа Васильевича, возникшие от чтения диссертаций Павлова и Афанасьева, или в других, про это биться об заклад не станем. Быть может, у Овсянникова, соответственно его сану, в голове звучали слова посуше, почопорней. А вот что чувства и мысли были в этот час именно такими, академик сам подтвердил нижеследующими фразами: «В представленных исследованиях… мы находим веские доказательства и опыты, которые нам говорят…» Или: «Оба автора нашли, что…» А еще: «Исследование нервных влияний на поджелудочную железу принадлежит к самым трудным…» И, наконец: «Ввиду этих обстоятельств и интересных новых результатов… я бы полагал вполне справедливым удостоить их золотой медалью».
Чем и обрек своего любимца утешаться всего серебряной, на каковую его тогда же и представил.
Думаете, Павлов с Афанасьевым растаяли от присужденной награды? И от этого отзыва, меж строк которого и признание читается: «А я-то вас, коллеги мои молодые, прежде не ценил, как вы того заслуживаете», и виднеется протянутая учителева рука – он же все-таки их былой учитель, хоть и не главный!..
Много ль надо! Взять да на торжественном акте, получив желтенькую кругляшку величиной с империал, с червонец, либо еще прежде вручения подойти, улыбнуться, подержаться за длань, поблагодарить, спросить, не считает ли патрон возможным представить работу Обществу естествоиспытателей, – ах, как же, как же, будет украшением и заседания, и «Трудов», издаваемых Обществом. Все как в басенках, любимых Иваном Петровичем с детства, с житья у крестного, преосвященного Афанасия: забудем прошлое, уставим общий лад, а там do ut des[3]3
Даю, чтоб ты мне дал (лат.).
[Закрыть] благосклонность станет покровительством – всего лишь маленькая сделка с самим собой, self made man-ом – не думать о вчерашнем, не замечать сегодняшнего… Черта с два! Ни Иван Петрович, ни Михаил Иванович ту медаль с красивым Гением, несущим лавровый венок «ПРЕУСПЕВШЕМУ», вживе и в руках не держали. Совет университета присудил. Чеканили их не по одной – не на один раз. Шкатулка с запасом, где надлежало, хранилась в сейфе. Канцелярский порядок при новом ректоре Петре Григорьевиче Редкине, докторе прав, тайном советнике и многих орденов кавалере, тоже был исправный, и предписанное высочайшим указом поощрение занятий студентов наукою, чтоб у них не оставалось ни времени, ни мыслей для политики, – неукоснительным.
Да они-то на акт не явились за вручением.
И целый год не изволили обратиться к Филиппу Васильевичу с просьбой о докладе. А Общество-то и родилось, и жило при университете, и коллеги Овсянникова по университетскому совету в нем тоже главные действующие лица. Они же, присуждая награды трем сочинениям, вышедшим из стен его кафедры, поздравляли первоприсутствующего нашей физиологии с выдающимся приращением научных сил, им выпестованных. Уж кто читал, кто листал, кто лишь от его авторитетных похвал пришел в изумление, не суть важно, – ведь как разделились, голосуя! Двадцать пять – за золотую медаль, десять – против, ибо не за одну, а за две золотых, чтоб и Афанасьеву – свою, и Павлову – свою. И натурально, после этого то Карл Федорович Кесслер, председатель Общества, то Андрей Николаевич Бекетов, декан факультета: дескать, где это вы удачнейших своих питомцев прячете, почему их не слышно? Что ответить, – в медики подались, и теперь их Грубер с кашей ест, бакенбардами утирается, знаете же Венцеля Леопольдовича?.. Но сколько можно ссылаться на Груберовы «обеды»? Словом, в январе 1876-го Филиппу Васильевичу пришлось открыть заседание зоологической секции Общества рефератом «серебряного» сочинения лаборанта Великого и студента Лебедева «Об отделении панкреатического сока», вернее – об участии или неучастии большого чревного нерва в побуждении секреции. А коли честнее – так о невозможности по результатам, полученным авторами, ответить на данный вопрос.
И на сей раз в зале очутились все тогдашние физиологи Медико-хирургической.
Приват-доцент Ворошилов, чопорный аккуратист, с осени назначенный временно на опустелую кафедру читать курс до конкурса, – его-то Филипп Васильевич поддерживал и на эту вакансию, и разом на более надежное место в Казани. Подле Ворошилова – студент из вольных слушателей: он сейчас ассистентские обязанности при нем исполняет, незнакомый, в университете не учился.
Засим другой, весьма приятный конкурент на вакантную кафедру: приват-доцент князь Иван Романович Тарханов, как его называют на русский лад (по-настоящему-то он Рамазович и Тархан-Моуравов, – по слухам это значит, что потомок какого-то знаменитого правителя). Вальяжный красавец. Как говорилось, кровь с молоком, глаза – маслины, вороная шевелюра волной. Ученик всех – Филиппа Васильевича, Ивана Михайловича, Ильи Фадеевича. И только что воротился в родные пенаты после трехлетней командировки – от Бернара, Шарко, Ранвье, Марея, Гольца, Гоппе и Реклингаузена – воистину из всех столиц Европы. А уж эрудит! Кажется, что нет такой физиологической статьи, какую бы не читал, не помнил, не цитировал наизусть.
Но ветеринарная кафедра особняком. Барственный ироничный Устимович и – в военных полукафтанах, словно к бою, – вся его компания будущих докторов медицины: Чирьев, Афанасьев, Павлов.
…Сообщение, для вящей скромности, сделал Лебедев, и – скверно. Нервничал, говорил лишнее, сбивался из-за язвительных реплик – «удачнейшие питомцы» не щадили. Из-за этого с непривычной для себя быстротою поднялся Ворошилов. Похвалил идею, воздал руководителю, слегка посетовал, что опыты немногочисленны, выразил пожелания на будущее. Тут Павлов вскочил было, блеснул новенькими погонами, тряхнул бородищей, ожег синим взглядом – все угадалось! – сейчас пойдет: замысел нелеп, исполнение дурно, без хорошего метода нечего соваться. Но его Афанасьев придержал. Пошептались, и он сел, улыбающийся, махнул рукой: дескать, победителям к лицу быть великодушными.
Филипп Васильевич с председательского места оборотился к ним: «Ну, а вы отчего, господа, не спешите? Будем рады в следующем заседании услышать наконец и ваше сообщение».
И 28 февраля услышали. Даже не одно – два! Извольте видеть, при продолжении работы у господ соавторов возникли расхождения. Часть результатов Павлов считает ненадежными и не заслуживающими обсуждения (целые опыты!). Но Афанасьев не согласен, строит из них выводы и намерен искать подтверждений таким-то и таким-то способом – прелюбопытная дискуссия, в которой участия не мог принять никто, помимо них. Филипп Васильевич слово им предоставил почти в самом начале – ради этого свой собственный доклад передвинул на седьмое место. И, господи, каким прекрасным получилось это заседание – парадом физиологической науки!
Изысканные выкладки Владимира Николаевича Великого о ветвлении электрического тока в мозжечке. Опыты доктора Гиляревского – свидетельства отсутствия сосудодвигательных центров в больших полушариях. Очень современные – это ответ Гольцу и Лепину, оспаривающим сейчас уникальность сосудодвигательного центра продолговатого мозга, детища Филиппа Васильевича. И остальное недурственно. И публики человек шестьдесят – знали, что предстоит сегодня большая физиологическая сенсация. Врачей пришло немало.
Час настал – взошел сам на кафедру.
– Сообщение наше, совместное с господином Истоминым, – Филипп Васильевич поклонился своему соавтору, – посвящено исследованию образования мочевины в работающих мышцах. Нами произведено пятьдесят опытов на собаках, с соответствующим числом анализов количества мочевины в крови, взятого до работы и после нее. Анализы выполнялись Валерианом Аркадьевичем, как известно, хорошо владеющим нужными методиками. Подробное изложение работы и относящиеся к ней таблицы будут помещены в Бюллетене Императорской Академии наук.
Сделал паузу. Посмотрел в глаза коллегам: поняли, что работу считает завершенной? Поняли.
– Суть нашего труда такова. До сих пор на основании многочисленных исследований считалось, что мочевина количественно не увеличивается во время работы мышц. Тем более что при обычных исследованиях над целым организмом продукты распадения белков могли быть отнесены на счет то одного, то другого органа…








