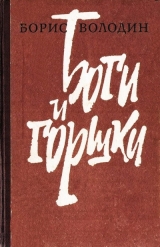
Текст книги "Боги и горшки"
Автор книги: Борис Володин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
4
Никогда он так не жаждал признания, как в этот вечер. Ни в одну его работу не было, как в эту, вложено столько лихорадочной изобретательности и отчаянного труда, взамен обычного неспешного наблюдения, полного удовольствий от новонайденных штрихов. Еще в юности, в Дерпте, Биддер, муштруя в гистологии, учил его всматриваться в любой предмет, стократ виденный, будто ничто в нем не знакомо: свежий глаз – искусство натуралиста! И сколько раз оно его вознаграждало! К примеру, четыре года назад, в Самаре, в экспедиции, предпринятой ради затеянных Обществом работ по искусственному разведению стерляди для пустеющих рек, он ставил опыты со стерляжьей икрой, – начинать-то, конечно, надлежало с тщательного изучения цикла развития рыбьих эмбрионов! И вот, промывая ту икру, он обнаружил, что некоторые яйца почему-то светлее и больше объемом и у них внутри как бы этакий черный поясок. Схватил лучшую свою лупу и увидел этакие «стволики» с почками. А в чистой воде икринки через несколько часов лопнули, и оттуда показались целые колонии этаких мелких – не более двух миллиметров – животных. Паразиты, похожие на гидроидов, – а за этим классом ничего подобного не водилось! Собрал материал, привез в Петербург, попробовал поселить в аквариуме – подохли. Вновь на Волгу сразу не пустишься – дела! Физиология! Уже с Людвигом списался, что приедет. И поехал. Сделал у него в Лейпциге самую свою славную работу и вернулся. А тут осенью от Астрахани до Саратова поднялась по реке вторая экспедиция Общества, и ему в Питер привезли новую порцию зараженной икры. Вылупившиеся полипы прожили дольше: он оборудовал особый крошечный – три дюйма на четыре – аквариум, населил его разной микроскопической речной живностью, создал должную среду. Удалось описать три стадии развития. Только вот паразит остался безымянным: самому изобретать нечто вроде «Cordylophora Owsjannikowi» неловко, а другие не догадались предложить. Журналы открытие прославили: найдена причина, отчего уловы падают! Другому такая находка – счастье всей жизни, а ему, первоприсутствующему физиологии, обернулась в укоризну – за спиной, конечно: вот оно, его настоящее-то дело, – стерлядка да икорка! И снова о падкости на легкую популярность. Но куда обидней этих злопыхательств почти дружелюбные суждения, что вот гистолог-то он безупречный, но ни одной собственной физиологической идеи не родил, вкуса к хорошим вивисекциям не проявил, и его работа о расположении сосудистого центра – вся на методиках Дитмара и Циона. Будь глух, как тетерев, все едино доброхоты заставят услышать, что и за шестьсот верст говорится, в Москве, – не только что за шесть, на Выборгской. А ведь наука – не сенат. Право на место в ней, если из ума еще не выжил, тебе самому не подтвердят ни должности, ни классный чин, ни анненская лента, через левое плечо под фрак надеваемая в нужных случаях. А главное – наука разрослась, и вправду на все тебя не хватает. Оттого он и согласился пойти с Менделеевым к графу Дмитрию Андреевичу Толстому, теперь едину уже в трех лицах, и министру, и обер-прокурору Синода, и академическому президенту, поддакивал химику, что надо воротить Сеченова из Одессы в Петербург, поделить предметы университетской кафедры: Ивану Михайловичу – физиологию, ему – гистологию и эмбриологию, и что все это будет только на пользу делу, да и в академики Сеченова давно пора!
Но при сем невыносимо жаждалось доказать напоследок, что выбор его не вынужденный, не от слабости, а разумный, добровольный. Что мог и остаться, если бы хотел. И что ничем не хуже того, ныне отсутствующего вивисектора…
И вдруг – толчок. Услышал, что Александр Порфирьевич Бородин, на час-другой отвлекшись от блистательной музыки, придумал способ определения количества мочевины, стократ удобнее и проще прочих, и прибор к нему, – у них в Медико-хирургической высшим достоинством считается изобрести что-нибудь этакое, что врачам в помощь и под силу. И тотчас – идея ошеломительного живосечения, каких никто, даже неистовый Броун-Секар, не видывал: измерить с помощью особенных снарядов процесс диссимиляции в отдельно взятых работающих ногах.
Пригласить Истомина, прозябающего в неудачной службе, – он же студентом помогал Циону доказывать на изолированной печени, что синтез мочевины в ней и происходит! Они тогда вдвоем сделали снаряд для прокачки через удаленный орган крови, взятой от другого животного. Правда, здесь не печень в колбе, на стеклянные трубки насаженная, а работающие части тела млекопитающего, какие ни в одну стекляшку не засунешь, но у Валериана Аркадьевича руки хорошие!..
И всегда же в таких случаях все всплывет, что нужно!
В Париже при нем Клод Бернар, милый учитель, как-то осчастливил чрезвычайной радостью старца Раншеваля, отставного военного врача, который каждый полдень, будто служащий, минута в минуту приходил в лабораторию College de France – лишь ради трепетной надежды, что гениальный мэтр доверит еще разик подержать расширяющий рану крючок, и к высокой науке прибавится еще капелька его, Раншевалевых, усердий. А тут его наградили большим делом: крутить колесо, от которого через привод вращалось другое, вроде переднего велосипедного, с педалями, – старик пыхтел не столько от труда, как от волнения, – к рычагам колеса были привязаны ноги распластанной собаки: «Осторожнее, месье Раншеваль, они должны равномерно бежать, а не дергаться!» А сам мэтр с Леконтом мучились из-за канюли, которая в тот день все грозила выскочить из лимфатического протока, – они собирали оттекающую из движущейся ноги лимфу.
Вот точно такую машину Истомин с университетским механиком сделали преотлично. Изрядно возни досталось, правда, со вторым снарядом, который должен был подобно сердцу поддавать дефибринированную кровь в работающие ноги, – пришлось в ционовской конструкции кое-что переменить. Ведь чтобы от других органов мочевина не поступала, собаку надлежало в опыте разрубить пополам. Внутренности убрать. И мигом подсоединить к сосудам задней половины насос, дабы кровь непрерывно прокачивалась через ноги, работающие благодаря вращению машинки, и они все-таки во время опыта еще жили бы сами по себе. Да кровь-то эту надобно еще и подогревать – поддерживать хотя бы приблизительно постоянную температуру, а там – то вода из подогревателя в нее просачивалась, то кровь наружу! Всем досталось – и Истомину, и Великому, и служителю, и механику, и ему самому, конечно.
Освоились, слава богу. Валериан Аркадьевич отправился было в медицинскую академию обучаться определять мочевину по упрощенному бородинскому способу. Но Александр Порфирьевич вдруг расхохотался, – оказывается, его прием и прибор годны лишь для исследования небелкового субстрата, именуемого мочой. А коли в жидкости до черта белка, придется по старинке, громоздко, по Либиху – с азотнокислой ртутью, либо по Кьёльдалю – с нордгаузеновской серной кислотой.
Крутили собачьи лапы. Брали пробы крови. Истомину работы досталось выше головы. Опыты ведь для сравнения ставили то с подогретой кровью, то с холодной, – ощутительная выходила разница. Однако надо было и предвидеть возражения. Первое, конечно, будет, что движения мышц происходят без влияния нервных возбуждений. Но коли уже набили себе руку, то можно было попытаться присоединять к своему насосу не только лапы.
– …Не довольствуясь этими исследованиями, – повествовал с нарочитым бесстрастием Филипп Васильевич, как бы поворачивая разрисованную им вазу другой стороной, – мы предприняли другой ряд опытов, много более сложный, при котором движения мышц совершались под влиянием нервного возбуждения.
Теперь-то он позволил себе и улыбнуться, и еще пожалеть мысленно, что нынешнего триумфа, наверняка предстоявшего, не увидит милый человек Иван Михайлович Сеченов, – он же на себе изучал, как изменяется в крови количество мочевины при разном питании.
…Ох, медленно раскачивался граф Дмитрий Андреевич, да еще товарищ министра мешался, Иван Давыдович Делянов. Нашептывал про старый судебный процесс по поводу арестования «Рефлексов головного мозга». И все-таки телега стронулась: в университет пришла министерская бумага с рекомендацией совету обратиться к Сеченову с официальным приглашением. Покатилась бы раньше да побыстрей, и сегодня, закончив свой доклад, можно было бы сказать себе: «Functus meus officio» – «Дело мое сделано», сесть с Иваном Михайловичем рядышком и – без слов, жестов, лишь про себя – передать ему дело, зная, что законченное ipsa loquitur за себя само сказало.
Он взял паузу. Длинную, очень длинную, такую, чтобы главный сюрприз прозвучал громом:
– …Во втором ряду опытов мы, напротив, удаляли на уровне тех же поясничных позвонков не переднюю, а всю заднюю половину животного со всеми брюшными органами. Передняя же половина с сердцем и легкими оставалась нетронутою. Собаки были предварительно кураризированы. Дыхание поддерживалось нагнетанием воздуха в трахею. Кровообращение – биениями собственного сердца животного. Некоторые собаки в подобных опытах жили до тридцати минут, и, следовательно, при этом имела место работа мышц. Именно – мышцы сердца, хотя и с резкими нарушениями, а также musculi intercostales exterai et interni[4]4
Межреберных мышц, наружных и внутренних (лат.).
[Закрыть], поскольку дыхательные движения, обеспечиваемые этими мышцами, сохранялись… И во всех этих опытах, как и в предыдущих, сравнение анализов указало увеличение мочевины в крови относительно нормального уровня…
Оглядел слушателей – ошеломлены! Терапевт Чудновский поймал его взгляд и поднял ладони в жесте молитвенного восхищения. Бекетов тоже кивнул ободряюще. Доктор Керниг, соратник по борьбе за женские курсы, сухой, изящный, выкрикнул, точно в опере: «Ех pede Herculem…»[5]5
Геркулеса по стопам (узнают) (лат.).
[Закрыть]
Перевел взгляд на физиологов: однако Тарханов почему-то смотрел себе под ноги, Устимович – тоже в сторону, Чирьев шептался с Павловым, а у этого бурсака глаза раскрыты широко, но будто бы в ужасе.
Что-то получилось не так.
Глянул на часы и словно для соблюдения регламента, хотя и собирался в конце поведать о трудностях, какими все досталось, прервал себя тремя привычными оборотами:
– К сожалению, во всех случаях одинаковое отношение между продолжительностью работы мышц и количеством выделенной мочевины нам вывести не удалось. Тем не менее результаты всех пятидесяти опытов сходны по тенденции. Данные химических исследований отдельно сообщит господин Истомин, а сейчас, милостивые государи, вам будет продемонстрирован один из наших опытов…
5
То ли через час-другой после заседания, то ли наутро, что, пожалуй, скорее, – словом, как только Иван Петрович смог наконец подумать о случившемся спокойно, – у него и отпечатался довольно обоснованный вывод, что тайные мечтания о будущей профессуре теперь-то уж наверняка сделались несбыточными. Во всяком случае – надолго.
Ни горевать, ни сетовать, ни тем более изобретать, как все поправить, он не стал: загнал сей вывод куда-то – ну, где токи ветвятся, «по Великому», – в мозжечок, и принялся думать о деле. А повторись все происшедшее сначала, он бы, и заранее все будущее зная, ничего б не поменял.
Вот разве только, повторись все это снова, он не стал бы, заранее все зная, брать в перерыве, перед докладом академика, папироску из кожаной сигарочницы, любезно протянутой Тархановым, да еще хвалить табак, что душист («Ну, как же – трапезондский!..»). Да, краснея, таять, как сосулька, от черного огня ласковых юношеских глаз приват-доцента и тоненького тенорка, словно бы застольный тост певшего хвалу его вы-сокой строгости, об-личающей не-дюжинность таланта, – в довольно чистой петербургской речи князя все-таки проскакивали иногда кавказские ударения. Да поддакивать его сожалениям, что издание рефератов заграничных работ, задуманное им с Афанасьевым, Великим, Ительсоном, так и не началось, увязнувши в глине рассуждений о деньгах на него. («А это бы освещало лo-гическую сторону нашей работы, по-у-чительнейшую!»)
Но главное – он не дал бы согласия идти к князю Ивану Романовичу в ассистенты. («Илья Фадеевич мне говорил в Париже, Что да-авно обещал вам это место, а господин Войнич, как ни прискорбно, слабо-ватый, виви-сектор».)
…А что только не успели они тогда обсудить! Всего за какие-то двадцать минут, пока зала проветривалась, а коридор наполнялся дымом. С полуфразы, с полуслова понимании друг друга. Почти ровесники – три года разницы. Поклонники Ционова мастерства, приверженцы одних идей, одних стремлений.
…Панкреатическую железу, конечно. Благоглупости Лебедева – Иван Петрович потешил себя отцовой поговоркой: «Под носом взошло, да в голове не посеяно». Непременность математической оценки данных. Принцип опыта без повреждений, чтобы процесс предстал в натуре. Леность Устимовича – всем хорош, да никуда не торопится. Предстоящий конкурс на кафедру: Ворошилов рисковать не станет, отправится в Казань, Ковалевский собирается отступиться, место скорее всего останется за Иваном Романовичем. И конечно же прочертили всю будущность самого Ивана Петровича. Диссертацию – в ближайшие два года, чтоб сразу, с окончанием курса, защитить. Зачисление в Институт врачей для усовершенствования. Заграничную поездку – к кому через пять лет отправиться – и ту обсудили. На все хватило: даже чтобы вспомнить двумя-тремя фразами сочинение Александра Дюма-отца «Кавказ».
– А вы со мной работать не побоитесь? – спросил Иван Романович и добавил уже с нарочитой горской интонацией: – Вы разве не слышали, что мне три га-ла-вы ат-рэ-зать, вжик, вжик, вжик, как сар-вать три apexа! Дитя гор! – И, повращав смеющимися глазами, зарассуждал, что надобно жить в своей физиологической семье в мире и любви, не помня о былых трениях и мелких обидах.
…О том, что Дюма-отец описал приват-доцента отроком в своих непомерно длинных «Impressions de voyage en Russie»,[6]6
«Впечатления о путешествии в Россию» (франц.).
[Закрыть] Иван Петрович, конечно, знал. В Медико-хирургической с момента появления в ней Тарханова о сем ходили многие легенды, непременно сообщаемые каждому новичку. По одной – на тучного француза нападал в горах Кавказских юный дикий абрек. По другой – приват-доцент качался на жирной писательской коленке, пока знаменитый гость кейфовал в доме тархановского папеньки, начальника Нухинского края. По третьей – Дюма обучал его дʼартаньяновскому искусству шпаги. Саму книжку не читал почти никто, хотя семисотстраничный «Кавказ», единственный из девяти томов «Impressions», был по-русски издан. Но – в Тифлисе и пятнадцать лет назад!..
Однако кроме легенд меж медиков ходили и некие цитаты, одна из коих и вложена здесь в уста Ивана Романовича. И автору очень захотелось пристроить к ней еще одну легенду: уже о том, как эта книжка будто все-таки попалась в свое время в руки Ивана Петровича. Ведь его младший брат Петя Павлов был любимым учеником зоолога Богданова, а Модест Николаевич в давней своей экспедиции за кавказскими птицами вполне мог подобрать в Тифлисе сие сочинение где-нибудь на книжном развале – над Курой, у Ишачьего моста. И вот, дескать, когда Богданов пригласил Петю поговорить о будущей его работе в должности прозектора университетского зоотомического музея, младший Павлов вдруг увидел на полке в его кабинете «Кавказ» Дюма. И в итоге всем братьям Павловым стала в доподлинности известна беспардонная болтовня Дюма-отца, выставлявшего себя персонажем всех французских басен о Кавказе, а также преизящная словесность его переводчика г-на Роборовского – чиновника канцелярии его сиятельства наместника. Ну, вот точно так, как они стали известны автору, выкопавшему этот раритет и теперь жаждущему под любым соусом пересказать, как именно великий беллетрист изобразил свою встречу с будущим приват-доцентом, а впоследствии и очень достойным профессором-физиологом.
Вот так:
«…Начальник… мужчина лет 40, небольшого росту, но крепкого сложения, разговаривал с 12-летним мальчиком в черкесском платье и с кинжалом. Мальчик имел прекрасную физиономию; в нем представлялся грузинский тип во всей его чистоте: волосы черные, спереди опущенные до бровей, похожие на волосы Антиноя, брови и ресницы черные, глаза бархатные и сладострастные, зубы великолепные. Увидевши меня он прямо подошел ко мне.
– Не вы ли Александр Дюма? – произнес он на чистом французском языке.
– Да, ответил я, а вы не князь ли Иван Т…?
Я знал его по описанию, сделанному мне Б…
– …Папаша, папаша! – кричал он 50-летнему мужчине здорового телосложения в вицмундире русского полковника. – Папаша, вот г. Александр Дюма!..
– Позвольте мне обнять молодого хозяина, который так сердечно меня принимает, – сказал я мальчику.
– Разумеется, – ответил он и бросился ко мне на шею, – я еще не читал ваших произведений по своей лености, но теперь, познакомясь с вами, я перечту все, что вы написали».
Знал ли мальчик, что пообещал?.. Триста томов!
«[…] Все это было сказано с оборотом речи, который я стараюсь сохранить, и с галлицизмом, невероятным в ребенке, рожденном за полторы тысячи миль от Парижа, в Персии, в каком-то уголке Ширвана, который никогда не оставлял родимой стороны. Я был удивлен, и действительно это было чудо в своем роде».
Далее, как и в других главах, следуют описания пиршеств, охоты и пейзажей – все это дежурными, поношенными фразами. В Нухе никаких происшествий с Дюма не случилось. Однако без экзотики он обойтись не мог. И вот вся она им якобы почерпнута из застольных рассказов, и тут не разберешь, что он действительно услышал меж двумя грузинскими тостами, а что сам родил – уже над рукописью – в своей фантазии, безупречно угадывавшей читательские желания. Во всяком случае, он вывалил на страницы весь кавказский набор: кровную месть, приготовление шашлыка, попытки диких лезгин умыкнуть будущего приват-доцента и джигитские подвиги, о которых будто бы мечтал сам двенадцатилетний Иван Романович, – да, именно: «Когда я отрежу три головы», – сказал юный князь таким тоном, как будто бы говорил: «Когда я сорву три ореха…» И страстные клятвы будущего физиолога непременно заслужить Георгиевский крест: «Глаза ребенка воспламенились. Наши дети в возрасте этого князька, угрожаемого каждую минуту разбойниками и говорящего о рубке головы как о самой простой вещи, еще играют с полишинелями и убегают под защиту своих матерей, когда возвещают им о крок-митене». (Переведем сей перевод: «…еще играют в куклы и утыкаются в мамину юбку, когда их постращали „букой“».)
Эпизод завершала кода, великолепно «аранжированная» переводчиком г-ном Роборовским:
«В продолжении всего великолепного путешествия по России сердце у меня сжималось всего два раза во время прощаний.
И пусть милый князь Иван возьмет на свой счет один из этих разов, и у кого есть память, пусть возьмет на себя другой… Я уносил от всех их на память что-нибудь: от князя Т… – ружье и ковер; от Магомед-хана – шапку и пистолет, от князя Ивана – чугунные вещи и одеяло; наконец, от Б… – шаровары».
Эти штаны анонимного спутника должны были послужить вернейшим подтверждением кавказского обычая дарить гостю все, что только не похвалит. Они, дескать, оказались сняты вмиг, после чего их хозяин целый день гарцевал верхом в одних «невыразимых», но путешественник, увы, не может предъявить сего подарка: шаровары не налезли на знаменитое писательское пузо, и тотчас пришлось их передарить другому «названому брату».
Теперь, удовлетворив свою жажду поделиться с читателем впечатлениями Дюма-отца, возвратимся вновь в 28 февраля 1876 года, в университетский коридор, в конец двадцатиминутного дымного перерыва.
…После того как Иван Романович, процитировав злополучную для него фразу, изобразил свирепого абрека, Иван Петрович обрадовался его умению отнестись с иронией к себе, расхохотался – он был смешлив, – подтвердил, что сочинение «Кавказ» ему известно и княжеский кинжал не страшен, – вот и все три фразы. Но Тарханов тотчас и как бы вскользь посетовал на то, что угораздило его тем летом отправиться из Тифлиса к отцу в Нуху, взамен того чтобы поехать с маменькой в Пятигорск, где ей рекомендовано было полечиться водами. И, увы, под иронией угадалась спрятанная опаска: а все-таки не принимают ли слов Дюма на веру, не числят ли цивилизованного Ивана Романовича тайным дикарем?
…Ах, этот колокольчик, что пресек такую сладкую беседу, призвав на доклад академика! Кстати, первые минуты доклада Иван Петрович все равно провел как бы вне стен университетской аудитории, где заседали естествоиспытатели, а уже в четырехкомнатном раю экспериментальной медицины, что на Нижегородской улице. Мысленно потрогал тамошние преотличные инструменты и замечательный людвиговский кимограф, – кафедре Устимовича досталось только то, что было отправлено Ционом на чердак. Даже кое-что счастливо переставил в одной комнатке, где копошился два года назад с Афанасьевым, дабы поудобнее пооборудовать свой будущий ассистентский уголок. И к Филиппу Васильевичу он в те минуты испытывал лишь чувство благодарности за то, что его элегическое бормотание о продуктах распадения белков, каковые при обычных исследованиях невозможно отнести за счет определенного органа, очень способствовало такому приятному времяпровождению.
И вдруг как обухом: «Мы производили наши исследования над мышцами задних конечностей собаки, предварительно отрезав их от животного на уровне поясничных позвонков, в аппарате, где они двигались искусственно…»
Оцепенело дальше слушал:
«…Кровь… в arteria aorta… помощью особого нагревательного снаряда с термометром…», «препарат был поставлен в различные условия…», «производились с теплым препаратом и кровью при движении… отдельно – при покое», «…с холодным препаратом и холодной кровью при движении и отдельно – при покое…», «удаляли всю заднюю половину…», «…musculi intercostales interni et externi…»
Оглянулся – врачи восхищены. Но Тарханов смотрит в пол. Шепнул Чирьеву, сидевшему обок: «Неужели Овсянников не понимает, что это уже мочевина трупа?..» Сергей Иванович зло хмыкнул: «Вот и скажите!»
И когда, уже после демонстрации опыта, Иван Петрович поднялся, Тарханов замахал ему ладонью: «Не надо! Сядьте!»
Не сел.








