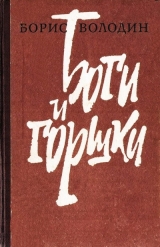
Текст книги "Я встану справа"
Автор книги: Борис Володин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Глава шестая
БОЛЬНОЙ ВОЛОБУЕВ
Когда Шарифов согласился оперировать Семеныча, ему пришлось изрядно поломать голову над тем, кого поставить ассистентом. Без ассистента за такую резекцию приниматься не стоило. Кавелина снова хворала, а Надя уже не могла простоять трех-четырехчасовую операцию у стола, и он решился – поставил ассистентом Мишу.
Он прежде изредка брал его в помощники, если требовались лишние руки, но на третью роль только. Здесь все было серьезней, и ждать нельзя было. Все дни, что были перед этой операцией, – старика надо было поддержать все-таки, кровь перелить хоть два раза, – Шарифов не давал рентгенологу покоя. Что бы ни случилось – аппендицит или пустяковая рана, на которую нужно наложить три шва, – Владимир Платонович вызывал Мишу с приема или поднимал ночью с постели. Он заставлял его обрабатывать раны или помогать на операции, которую в другом случае сделал бы с сестрой. Раза два, когда операция был несложной, Шарифов даже менялся с Мишей местами и ставил его справа, как настоящего хирурга.
Закончив оперировать, Шарифов совал рентгенологу длинную мокрую шелковину и требовал, чтобы он учился быстро завязывать узлы, которыми перетягивают кровоточащие сосуды. В ординаторской Миша перебрасывал скользкую нить через дверную ручку и вязал узлы в мокрых резиновых перчатках, как это приходится делать на операции. У него теперь всегда были в кармане нитки, и Миша остервенело вязал узлы и за обедом, и в Доме культуры, ожидая киносеанса.
Семеныча переложили с каталки на операционный стол, и Миша начал протирать бензином кожу на его животе. Шарифов взял у Лиды стерильное полотенце, чтобы вытереть вымытые руки, а Надя стала наливать эфир в толстостенный стакан-эфирницу от наркозного аппарата.
Сладкий, приторный запах ударил в нос. Голова закружилась. Эфирница глухо треснула о кафельный пол.
В операционной сделалось душно, как под наркозной маской.
Лида охнула. Больше никто ничего не сказал. Говорить было нечего: новой эфирницы тогда нельзя было достать даже в Москве. Санитарка подбежала с тряпкой, быстро затерла лужу и понесла осколки прочь.
Шарифов спросил:
– Сможешь дать наркоз обычной маской?
– Нет, – ответила Надя. Она сидела на табурете, бледная. – Только наливать его стала – и дурно сделалось… Когда обычной маской, я и здоровая еле терплю запах. А сейчас совсем не могу.
– Придется отменить операцию. – Шарифов сказал это тихо. Сказал и, неизвестно уже для чего, машинально продолжал вытирать стерильным полотенцем руки: сначала пальцы, потом кисти, затем запястья и предплечья.
Семеныч приподнялся на столе.
– Нельзя отменять… операцию-то… – Голос был сиплый, а лицо у старика, и, так серое от болезни, стало совсем землистым. – Никак нельзя, Платоныч. Последняя надежда, Платоныч… Сколько ждал-то…
– Наркоз дать некому. Надежда Сергеевна не может. Трудно ей сейчас… Не в форме она.
Шарифов бросил полотенце в таз и протянул руку. Лида стояла и смотрела в одну точку, на инструментальный столик. Он сказал:
– Лида!..
Сестра непонимающе взглянула на руку, потом засуетилась и наконец подала салфетку, смоченную в спирте.
Протирая руки спиртом, Шарифов подошел в Семенычу.
– Давай до завтра отложим. Сейчас все заняты. А завтра кто-нибудь даст наркоз обычной маской.
Старик упрямо замотал головой:
– Нет, Платоныч. Как хочешь, нет! Хоть под местным, хоть живьем режь. Я и часа не прожду. Не уйду я со стола, Платоныч. Хоть силом, не уйду.
Шарифов кашлянул. Запах эфира все стоял в операционной.
– Смотри, дед, трудно придется.
– Один конец. Только не уйду я.
Владимир Платонович сказал, чтобы подали новокаин.
С этим пациентом Шарифова связывали особые отношения. Начинать в Белоусовке было очень трудно. Пациенты – кто чувствовал силы одолеть дорогу – требовали, чтоб их отправляли в город, за сто километров. Раисе Давыдовне доверяли. Кумашенской доверяли. Анфимскому – нет. А Шарифова не знали и относились к нему с опаской, и Семеныч был первым настоящим его пациентом.
Он появился дней через десять после того, как закончили ремонт в корпусе. Потолкался в амбулатории, на прием не пошел, долго бродил по двору. Под вечер остановил во дворе Шарифова, покряхтел, оглядел его гимнастерку, спросил:
– Вы военный?
– Да, был военный.
– Ладно… При Анфимском я боялся грыжу резать, а у вас попробую…
На операционном столе Семеныч повертелся, улегся поудобнее, расправил усы и сказал степенно:
– Ну, доктор, с почином вас…
Две деревни ходили справляться о нем. Случись какая-нибудь мелочь – чуть-чуть нагноился бы после операции шов, – и все прахом…
Семеныч после той – первой в Белоусовке – операции, гордый собственной храбростью, все хвалил Шарифова и даже показывал кой-кому из мужиков идеально заживший шов, для чего ему приходилось, конечно, расстегивать штаны.
И Шарифов чувствовал нежность к говорливому деду. А Семеныч все беседы на сельсоветском крылечке в Ахтырке – он работал там сторожем – обязательно переводил на больничные дела, хвалил порядки, заведенные теперешним главным врачом, а потом хвалил новое здание и глазную докторшу, жену Шарифова. Если старик оказывался в Белоусовке, то обязательно заходил в больницу: Богданова сообщала ему здешние новости. Он не прочь был перекинуться словечком и с Владимиром Платоновичем, но совестился отрывать его от дела.
Когда у Семеныча начались нелады с желудком, он обратился к терапевту – к Кумашенской. После рентгена Кумашенская – она была очень осторожна и осмотрительна – тотчас отправила его на консультацию. В городе Семеныча сразу положили в стационар, делали анализы, опять просвечивали рентгеном. Перевели из терапевтического отделения в хирургическое, снова делали анализы. А когда старику стало хуже, палатный врач назначил уколы морфия.
Про операцию палатный врач ничего не говорил и вообще толком не объяснил насчет болезни.
Семеныч нервничал. И наконец упросил санитарку, душевную женщину, у нее еще брат женился на ахтырской жительнице, узнать, чем же он все-таки болен. Пусть это будет самое страшное, только бы знать. Если ему умирать, он лучше поедет домой и умрет дома и хоть успеет перед этим кое-что сделать для своей старухи.
Санитарка пошепталась с дежурной сестрой и сказала ему что-то невнятное, но Семеныч понял: домой ехать нужно.
Через неделю Владимир Платонович получил от областного онколога извещение о неоперабельном больном Волобуеве И. С., семидесяти двух лет, из села Ахтырка, за которым нужно установить диспансерное наблюдение и при нарастании явлений непроводимости пищевода произвести ему операцию – гастростомию, то есть подшить к брюшной стенке желудок и сделать отверстие для кормления через зонд.
Волобуевых в Ахтырке было полдеревни. Вечером Шарифов встретил ахтырского сторожа в больничном дворе. Шарифов очень спешил – собирался поехать по делам в город. Он сказал:
– Слушай, Семеныч, у вас там один Волобуев, недавно из областной больницы выписался. Пусть зайдет ко мне через пару деньков. Он сам-то ходит?
– Ходит, – сказал Семеныч. – Еще ходит. Видишь?
Он сказал это надсадно, и Шарифов чуть было совсем не забыл об ожидающем его прокуроре. Прокурор тоже собирался в город на маленьком прокуратурском «Москвиче» и обещал подвезти Владимира Платоновича. Шарифов потащил старика к себе домой и, с тоской глядя на его растрепанные усы, слушал Семеныча. А тот с какой-то уже привычной, чуть безразличной горечью рассказывал, что кормится теперь только чаем да сахаром. Другая пища не проходит, а чай проходит; и сахар, когда растает во рту, проглотить можно.
– А что это за пища, – рассуждал Семеныч. – Никудышная пища. Старуха говорит: «Ты б к попу пошел либо к бабке авдонинской». Чего идти-то! Углей этих бабкиных у меня и в своей печи хватит… Может, вырежешь, Платоныч… – старик замялся, – его…
Шарифов вспомнил, как старухи в освобожденных деревнях не называли противника ни «немец», ни «фриц», а говорили «он…», «его...», «его не пустите обратно?».
– Удачи не будет, – зашептал Семеныч, – так я любую расписку тебе дам… А удача будет – пан! И ты пан, и я пан!.. Хоть и за семьдесят, жить-то хочется…
– Полноте, – вмешалась тогда Надя. Голос у нее был профессионально успокаивающим, лживым. – Полноте. Может, у вас совсем другое…
Семеныч глянул на нее и вдруг усмехнулся так мудро и страшно, что Надя больше ничего не говорила.
…Лида приготовила уже шприцы. Санитарка показала этикетку на бутыли и налила новокаин в подставленную стерильную банку. А Шарифов все еще прикидывал: наркоза нет, для спинномозговой анестезии ничего не готово… Только местная. Больше ничего не остается. Лучше отменить… Но Семеныч смотрел на него, и взгляд этот завораживал, приказывал, и Шарифов начал ту операцию, прекрасно понимая, что исход ее, выражаясь языком консультантов, «неясен».
Он вскрыл брюшную полость, стал обкладывать рану полотенцами и вдруг задрожал легонько от радости: метастазов не было. Опухоль ощущалась высоко, почти под самой диафрагмой. Большая, бугристая, плотная. Он подумал: «Наверное, аденокарцинома. Она долго не дает метастазов».
Миша прилежно подхватывал нити, быстро завязывал узлы, он хорошо помогал. Но Семеныч уже начал стонать.
Такую резекцию под обычной новокаиновой анестезией делать трудно, невозможно! Операция нетипичная. Почти весь желудок – прочь.
Вначале он боялся браться здесь за большие операции. Первую в Белоусовке сделал инспектору облздравотдела.
Но у него все было абсолютно типичным… Шарифов оперировал под новокаином. Наркозный аппарат появился потом. Его помог получить инспектор.
По неопытности он долго тогда примеривался, как подшивать кишку к желудку. Больной заметил заминку, решил, что было что-то очень сложно, и называл Шарифова после этого «кудесником». Что бы он сказал, увидев, что кишку приходится подшивать почти к самому пищеводу?..
Семеныч стонал все громче, а потом тише и тише. Шарифов крикнул:
– Переливайте кровь!
Все. Осталось зашить брюшную полость. И тут стали прорезаться нитки: ткани дряблые, старик истощен, и все-таки семьдесят лет.
Он закричал на Мишу, когда у того в руках лопнула шелковая лигатура:
– У тебя руки как у палача! Не дергай! – Поднял голову. Из ампулы, вставленной в штатив, кровь капала в вену. – Какой пульс?
– Сто десять, – ответила Надя.
– Да скорее же!
Семеныч совсем затих. Серое лицо. Капельки липкого пота. Вот оно – шок. Этого тоже боялись в областной, когда не хотели оперировать.
– Грелки. Сердечные… Спирт в вену! Десять граммов спирта, двадцать глюкозы…
…Когда попал в медсанбат, назначили в госпитальное отделение. Он запросился в операционную.
Брегман, суховатый, маленький, спросил:
– Хочешь хирургом стать? Твердо?
– Твердо.
– Если через год останешься в живых, будешь хирургом, – сказал Брегман и перевел из госпитального, но не в операционную, а в приемно-сортировочное, в ПСО, быстро осматривать поступающих раненых и решать: «в операционную», «в перевязочную», «в шоковую», «в первую очередь», «во вторую», «в третью».
Через полгода Брегман спросил:
– Жив? Начал понимать что к чему?
– Начал, – сказал Шарифов.
Подумал: наконец-то. А ведущий перевел его в шоковую палату – выхаживать самых тяжелых. Переливать кровь, спирт, физиологический раствор. Считать пульсы – нитевидные, частые… Многим не удавалось помочь. У них были такие же серые лица, как сейчас у Семеныча. А после шоковой ведущий все же продержал его месяца три в госпитальном.
…Спирт ввели. Старик шевельнул веками. Плохо дышит. И пульс скверный.
– Головной конец опустите!
Опустили.
Сбросил перчатки.
– Спирт… Скальпель… Приготовьте левую руку. Миша, приладь тонометр к ампуле с кровью.
Когда кровь стали накачивать под давлением в плечевую артерию, Семеныч открыл глаза. Губы порозовели. Он прошептал что-то…
– Что? – спросил Шарифов.
– Нельзя ему говорить, – сказала Надя.
Но Семеныч заговорил. Он спросил Шарифова:
– Посмотрел да зашил… или отрезал рак-то?
– Отрезал, – сказал Шарифов. – Вон в тазу лежит. Молчи!
– Молчу, – прошептал старик. – Слышишь? Молчу!
…Семеныч поправился. Только шов зарастал скверно. Старика пришлось перевести в гнойную палату. Он даже ворчал, что лежит уже второй месяц. Пора бы и домой.
Когда наконец выписался и стал, прощаясь, благодарить, Шарифов вдруг сказал ему:
– Благодари Брегмана. Был такой хирург.
Семеныч важно кивнул.
Надя добавила веско:
– Это учитель Владимира Платоновича. Замечательный был человек, хотя многие недолюбливали.
– Он сердитый был? – спросил Семеныч.
– Сердитый.
– Это хорошо… А вы ребеночка скоро ждете?
Надя покраснела.
– Скоро… Я в Москву на днях уезжаю. Чтобы первое время побыть там. Там удобнее, и там мама.
– Это правильно, – сказал Семеныч. – С ребеночком хлопотное дело-то. Счастливо вам. А мне – одно только: чтоб этот рак меня не заел.
…Еще одно, более давнее, воспоминание было у Шарифова связано с Семенычем. Странно иногда получается: вокруг какого-то человека, который тебе ни родня, ни друг закадычный – просто добрый человек, – начинает накручиваться целый клубок твоих событий.
Они виделись со стариком в тот вечер, когда Шарифов наконец решился сказать Наде все: мол, либо так, либо так.
Днем его вызвали в дальний сельский роддом за Ахтыркой. Переправляясь на обратном пути через речушку, он ввалился с конем в омут. Конь, естественно, вел себя мудрее, чем седок. Он чуял, что Шарифов гонит его не туда, куда надо. Он артачился, храпел, бил задом. А крупные капли дождя стекали с кепки за ворот шинели, и Шарифов зло хлестал мерина по крупу, по голове гибким ивовым прутом. Прут сломался, но в эту минуту конь замотал головой, заржал и шагнул в воду. Огни деревни на другом берегу вдруг подпрыгнули. Перед лицом взметнулась и запенилась вода. Шарифов окунулся по грудь. Стремена он потерял и крепко сжал лошадиные бока ногами, готовясь спрыгнуть и поплыть, если Ландыш выдохнется. Противоположный берег казался далеким, а потом сразу взмахнул ветвями у самого лица. Конь споткнулся о корягу, и поверхность реки начала опускаться. С лошадиного брюха и отяжелевшей шинели звонко потекла обратно в реку вода.
На берегу Шарифов соскочил с седла и испугался – ему показалось, что Ландыш охромел, и сразу подумал: раз они у Ахтырки, нужно к Семенычу, тот разберется – и пошел к сельсовету и с трудом растолкал Семеныча, уже совершенно одуревшего от сна. Уж очень уютно было ему на тулупе, разостланном в сельсоветских сенях.
– Кто?.. Зачем?.. – бормотал он сначала, хлопая себя по карманам. – Носит ночью!
Потом нашел спички, посветил, узнал, заохал. Шарифов объяснял сбивчиво, как не нашел впотьмах брода, как Ландыш упрямился:
– …Вот и въехал. Обидно. Речку эту куры вброд переходят.
– Не говори: мелкая-то мелкая, а летось милиционер чуть не утоп. Тоже верхами, – ответил старик. – Не шел, значит, Ландыш? Умной мерин у тебя. Конь известный, он раньше-то исполкомовского рысака обгонял.
Он все знал. Про всех. Даже про всех лошадей.
Домой к нему Шарифов не пошел, хотя Семеныч заманивал его скляночкой, содержимое которой было настояно на зверобое собственноручно. До Белоусовки рысью не более получаса, а со скляночкой они бы засиделись долго. С ногой у Ландыша, по словам Семеныча, ничего страшного не было – ушиб, наверно, о корягу (передохнув, мерин и хромать перестал). Пока Шарифов в сельсовете выжимал шинель, гимнастерку, брюки, старик принес ему пару своего чистого полотняного белья. И пока Владимир Платонович переодевался, только спрашивал коротко:
– В Мятлеве был?
– Да.
– Живот резал?
– Живот.
– Женить тебя надо… Тебе тридцать пять есть?
– Тридцать третий, – ответил Шарифов.
– Вот видишь. В самый раз. И осядешь сразу на одном месте. Ночью надо при жене состоять.
– Не думаю, что удастся мне осесть, – сказал Шарифов. – Дело такое. Все-таки придется и в больнице ночью… и ездить. И потому, наверное, мне жениться не следует.
– Ты со мной не криви, – сказал Семеныч. – Все кругом говорят, что у тебя глазная докторша есть. Аккуратная такая чернявая девица. Видел я ее. Очки подбирала. Она, говорят, вначале все домой хотела. А теперь обвыкла. Да и ты на пути. Мужики-то, они сейчас дорого ценятся. А ты человек самостоятельный.
Ко всему, что произошло у них с Надей через два часа, этот разговор прямого отношения никак не имел. Но потом Шарифов не раз вспоминал сельсоветскую комнату в Ахтырке, освещенную лампой-«молнией», и сторожа, и запах крепкого его самосада, и лужи на полу, и незатейливые Семенычевы рассуждения.
Глава седьмая
КУЛИКОВ ИЗ ОБЛАСТНОЙ
Когда его выпустили из милиции, он вернулся домой и заснул. Он очень был рад, что никого не встретил ни по дороге, ни на больничном дворе и мог сразу лечь и заснуть. Через час – он это понял после долгого разглядывания циферблата часов – его разбудила Кавелина.
– Вы очень крепкий, Володя. – Раиса Давыдовна первый раз за все годы назвала его по имени. – Вы очень крепкий. Смотрите, как вы спали. Год могли проспать.
Она сунула в рот таблетку из жестяного цилиндрика.
– А меня уже вызывал следователь из области. У него пижонские усики, но человек серьезный. Он говорил со всеми, даже с теми, кто ничего про операцию не знает… Володя, говорят, что Лида все ужасно запутала. Она хочет в тюрьму вместо вас. Она говорит, что случайно наклеила на пузырек не ту этикетку и сама подала вам дикаин. А Клава и Глаша, видно, бормочут невнятное, надеются, что с Лидой ничего не случится, раз ее муж следователь. Это она им вбила в головы…
У Куликова из областной прокуратуры действительно были пижонские усики. Он почесал их карандашом и спросил:
– Вы в городе на Троицкой жили? Я фамилию помню.
– На Троицкой.
– Мы с вами дрались в детстве. Вы хорошо дрались. Я Егорка с Нижегородской улицы. Помните?
– Вспомнил, – сказал Шарифов. – У вас голуби были замечательные. Польские.
Куликов кивнул.
– Дрянное у вас дело. Вы не хотели, конечно, а после женщины теперь девчонка – сирота. У вас сын есть. Вы должны понять… Запишем?
– Пишите.
Куликов стал читать ему вслух показания Лиды и тети Глаши. Переписывал их в новый протокол.
Шарифов спросил:
– Судебно-химическое исследование сделали? Акт есть?
Куликов ответил, что еще не получил.
Шарифов подумал: «Вдруг концентрацию дикаина найдут маленькой? И действительно все из-за вилочковой железы?»
– Я ничего сейчас не буду говорить и подписывать. Я не спал двое суток.
Куликов ответил:
– У вас обвинение-то теперь не в убийстве, это здешние накрутили. Теперь по сто одиннадцатой – преступная халатность. Вводили, не зная, что вводите. Вас трясти нужно было, если бы и не случилось ничего.
Шарифов промолчал. Куликов снова почесал свои усики и стал листать папку дела. За два дня и сегодняшнее утро папка стала пухлой. Впрочем, бланки протоколов были на очень толстой бумаге.
– Вас тут любят. Вот райком, например, обычно в такие дела не вмешивается… Конечно, не все любят. Есть люди – плохо о вас говорят. Но это бывает. Главное, человек погиб. Поняли? А почему получилось?
Шарифов не ответил.
– Мне все нужно знать, – сказал Куликов. – Может быть, что-то случилось? Говорят, вы были взволнованы и кричали перед этим.
Шарифов молчал.
– Мне один хирург спас ногу, – сказал Куликов. – Я очень уважаю хирургов. Может быть, знаете: его фамилия Пряхин.
– Михаил?
– Нет. Николай… Кажется, Николай Федорович. Но вот если бы он так… Вы не думайте про Евстигнеева. Про него здесь говорят: «Служака». Но я бы и Пряхина отдал под суд. Молюсь за него десятый год, а отдал бы… Девчоночка-то сирота! Говорите всё.
Шарифов молчал.
– Не поняли?
– Мне еще не все видно. Будет акт экспертизы, скажут, что доза смертельная, тогда – другое. Евстигнеева, конечно, ни при чем. Не знаю, зачем она все запутала.
– Любит вас.
– Бросьте! – зло сказал Шарифов. – Что это вы мне приписать вздумали?
Куликов махнул рукой:
– Ничего вы не поняли. Даже не поняли, каково мне так вот разговаривать. Нам бы про голубей вспоминать за столом, про польских. И хирургов я очень уважаю. У Евстигнеевых из-за вас жизнь разламывается. Мне никто ничего не говорил. Просто вот женщина сидит на этом стуле и требует, чтоб ее вместо вас под суд. Хитрит, юлит и себя оговаривает. А вы человек порядочный. Вы не хотите ее под суд. И сами не хотите. Никто не хочет… Ладно! Акт у меня будет в пятницу. Я вас по телефону вызову в облцентр.
…Шарифов не работал. Старался никому на глаза не попадаться. Из дому уходил, чтобы не приходили и не звали обедать. А то либо Кавелина, либо Миша с Лелей старались проявить о нем заботу. Вот Лиду и Кумашенскую он не видел.
В задней комнате местной чайной, где он столовался, встретился ему маленький прокурор.
Поздоровался первым. Присел, даже предложил пива.
– Это ужасно получилось. Очень жалко. Хорошо, что областное начальство обвинение переквалифицировало как халатность. Но, по-моему, есть все-таки и состав для «убийства по неосторожности». Санкция обеих статей одинаковая – до трех лет, – но дело выглядит более существенным. Вы поймите, такая у нас работа. Я ведь ничего не имею лично против вас. Ведь мы с вами раньше были вполне в нормальных отношениях.
Куликов из областной оказался точным. Он вызвал Шарифова для допроса, как предупреждал, в пятницу.
На автобусной станции в городе Владимира Платоновича встретила мать. К ней специально заходил инспектор облздрава. Он посоветовал взять хорошего адвоката Петюшкина, который выступал в суде, когда инспектор разводился с женой. Мать хотела, чтобы Шарифов пошел к адвокату еще до разговора в прокуратуре.
Петюшкин был лысый черноглазый здоровяк с казацкими усами и круглым добродушным лицом. Он сказал, что к нему обратились рано, так как дело еще не передано в суд.
– Но все же, доктор, – адвокат протянул руку, – о вашем несчастье вообще-то у нас было слышно. И такого клиента защищать приятно. Клиенты ведь у нас разные. – Он не без кокетства ухмыльнулся из-под усов. – Сегодня я выступаю по курьезному делу. Если прокуроры не задержат вас слишком долго, спуститесь в том же здании на второй этаж, в облсуд. Там сегодня процесс. В этом зале вам придется побывать потом, к сожалению, не в качестве зрителя.
Куликова на месте не оказалось, он срочно выехал на происшествие. Шарифов спустился на второй этаж.
Там был полон не только огромный судебный зал, а и коридор, и даже лестничная площадка. Особенно много было старух в теплых платках или вдовьих накидках из черных кружев. Пройти в зал было невозможно, но вдруг кто-то подхватил Шарифова под локоть. Он повернул голову и увидел довольное лицо Петюшкина.
– А! Заинтриговался, доктор!
Милиционеры раздвинули толпящихся, и снизу по лестнице провели арестованных – худенького грустного мужчину и плечистого бородача с длинными волосами.
– Быстро за ними, – сказал адвокат. – Иначе доберемся без единой пуговицы. – Он кивнул на плечистого: – Мой клиент. Иерей Анисим Архангельский. Любите и жалуйте! – Петюшкин хохотнул.
Плохо одетая старушка, высунувшись из-за милиционера, прошипела худенькому арестованному:
– Подвел батюшек-то, анчихрист! Бес ты есть! Бес! Святых людей попутал!
Шарифов ничего не понимал. А Петюшкин увлекал его за собой. Арестованных провели на переднюю в зале скамью с высокой спинкой, громоздкую, как на вокзалах. Там уже сидели четыре тихих на вид старичка, тоже с длинными волосами и бородами. Тотчас кто-то сказал: «Встать!»
Поднялись обвиняемые, зрители, адвокаты, женщина-прокурор. Петюшкин замер в проходе, блестя лысиной. Судьи опустились в кресла с высокими спинками. Люди в зале тоже стали садиться. Петюшкин провел Шарифова к адвокатским местам, и юноша с университетским значком, адвокат-стажер, уступил ему полстула.
Председатель сказал:
– Судебное заседание продолжается.
Судили пятерых попов и инспектора финотдела.
Попы из разных приходов давали грустному инспектору тысячные взятки, а он снижал сумму подоходного налога. Шарифов попытался прикинуть, каковы же были доходы, собираемые с прихожан, если за снижение суммы налога давали такие взятки. Сразу сбился и бросил. Лучше потом спросить у Петюшкина.
В этот день процесс заканчивался. Подсудимым задавали дополнительные вопросы, и все подводные камни их взаимоотношений были оголены.
Шарифов вдруг заметил, что, в отличие от старух в зале, попы относились к бывшему фининспектору очень спокойно. Он не признавался в совершенном, все отрицал и поэтому был для них неопасным. Зато они что было мочи старались свалить вину на плечистого подзащитного Петюшкина. Их злило, что коллега, передавая фининспектору взятки от них, часть денег клал в свой карман. Один из подсудимых просил суд поиметь в виду, что отец Архангельский «личность порочная вообще и во всех отношениях». С запозданием, посреди какой-то другой фразы своего недруга, Архангельский озорно крикнул со скамьи, что, мол, отец Никифор пил с ним вместе и не то чтоб с экономкой, с прихожанками живет.
Но председатель суда тотчас оборвал его:
– Не выкрикивайте, не нарушайте порядка.
Он сказал это тихо, привычным тоном приказа, и снова стал внимательно и строго слушать, что говорит допрашиваемый поп.
И Шарифову стало не по себе, потому что ему-то придется вскорости быть здесь уже не любопытствующим зрителем, а действующим лицом. И все, что будет говорить он сам и что будут говорить о нем, здесь станут сопоставлять и взвешивать. Для председательствующего все это – обычное. Поерзает на стуле с высокой спинкой, чтоб умоститься поудобнее, и скажет: «Судебное заседание начинается».
Публика… Те же – лысый Петюшкин, и прокурор, и юный адвокат-стажер с университетским значком, которому все удивительно интересно, все внове, как Мише, когда его ставят на операцию. А на скамье этой, словно перетащенной сюда с вокзала, будет он, Шарифов. Может, уже сегодня посадят вместе с высоченным попом, с ворами, которых судили позавчера или завтра будут судить… Да, именно его, оперировавшего и выходившего сотни людей, разных, плохих и хороших, под обстрелом и черт-те где, работавшего без сна… И все произошло, как раз когда только принялась как-то налаживаться, начинаться настоящая жизнь и владение ремеслом, своим делом, которому всю жизнь отдал.
Захотелось вскочить, закричать: «Не смейте! Вот они, вот их жизнь, и вот я, и моя жизнь, и мое дело, без которого я жить не смогу. Не здесь мое место! Не здесь!»
Но он не вскочил и не крикнул. В это время Петюшкин поднялся с места, задел его толстой рукой, которую еле выпростал из-под края стола в теснотище, и сказал!
– У меня вопрос к подсудимому Лаврентьеву.
И Шарифов стал смотреть и слушать.
Самый дряхлый, седенький попик, когда назвали его фамилию, поднялся и стал отвешивать поясные поклоны по очереди – суду, прокурору, адвокатам, конвоирам и публике. Откланявшись, он перекрестился на люстру и сложил на отвислом животе холеные ручки.
Женщина-прокурор отвела взгляд.
– Подсудимый! – Прокурор кашляла за своим столом. Произошло замешательство. Попик ел глазами начальство, как фельдфебель полковника. Петюшкин и сам споткнулся на полуслове. – Подсудимый! – Адвокат сердито дернул ус. – В судебном заседании вы показали, что передавали деньги бывшему фининспектору Вялых только через Архангельского. Так? Отвечайте суду.
Попик закивал головой.
– Вы говорили правду? – спросила женщина-прокурор.
– Правду. Видит бог, правду.
Петюшкин хмыкнул и сказал вкрадчиво:
– На предварительном следствии, Лаврентьев, вы показали, что с Вялых сами вступили в сговор, вначале сами передавали ему деньги, всего шесть тысяч, и только один раз через Архангельского тысячу двести рублей. Так? Отвечайте суду.
– Так, – сказал попик. В тусклых глазах, полуприкрытых веками, вдруг мелькнули зеленоватые огоньки. – Так было! – Он вдруг взорвался: – А когда через Архангельского, то он-то, отец Онисим, половину-то себе! И в писании, и в законах государства одно говорится: «Не укради!..»
И Шарифов подумал, что мир для этого старика разделен на два. На большой и чуждый и на свой – малый. В своем – он законник. В чужом – хоть трава не расти.
– И на предварительном следствии вы тоже говорили правду? – цепко спросила женщина-прокурор.
– Видит бог, – ответил Лаврентьев.
– Как же так? На следствии говорили одно, сейчас другое? – снова спросила она.
Старенький поп молчал. Пальчики замерли на подряснике.
– Говорите, Лаврентьев, – сказал председательствующий. – Где же правда?
Старик горестно глянул на женщину-прокурора.
– Так две правды, матушка, – сказал он со вздохом. – Так оно и есть. Две правды-то!
Председательствующий суда зажмурился. Зал на секунду замер, а потом задрожал. Даже конвойные милиционеры тряслись, судорожно вцепившись в спинку скамьи подсудимых.
Председательствующий объявил перерыв.
– В театр ходить не надо! – басил в коридоре Петюшкин. – Оперетта с пением псалмов! Ну, не так, Мария Григорьевна!
Прокурор вытирала слезы.
– Мне, по-моему, придется сокращать речь. А у вас, адвокатов, положение невыгодное.
– Что поделаешь! – усмехнулся Петюшкин.
– Я не понимаю, – сказал Шарифов, – как вы будете его защищать. Что скажете?
– Во-первых, мне удастся показать суду, что Архангельский виновен не больше того же Лаврентьева, ну хотя бы отпадет несколько эпизодов преступных действий. А говорить? – Петюшкин тяжело вздохнул. – Буду говорить о прошлом. Был когда-то Анисим Архангельский крановщиком. Работал в Кинешемском порту. Даже медаль получил за труд. А потом захотелось пожить за чужой счет – и стал тем, что он есть сейчас. Таковы прошлые заслуги моего подзащитного. К тому же теперь он и сана лишился. Профессии. Я прошу у суда снисхождения.
Шарифов инстинктивно потрогал свой орден: «Обо мне и о попе он будет говорить одно и то же. Только тогда в зале будет, наверное, этот парень Вдовин. Оставит кому-нибудь девчушку и приедет…»
Он спросил про попа:
– А может быть, у него появились какие-нибудь настоящие религиозные настроения, вера?
Петюшкин схватился за лысину.
– Что вы, доктор! У Архангельского?! Если б так, его бы здесь не было…
Сквозь гудящую, спорящую толпу пробиралась к выходу плохо одетая старушка, та, что кричала фининспектору: «Бес! Святых людей попутал!»
Услышав конец фразы Петюшкина, она остановилась и тронула его за рукав:
– Вы скажите мне, гражданин адвокат, что ж это за две такие правды? Вот я в бога верую с детства… – Она дернула медную цепочку на морщинистой шее. Она смертельно устала от виденного. – Мы с дочкой живем. Она в артели работает. Я богу деньги несла, от последнего куска отрывала на храм. А они говорят: «Две правды». И эти тыщи считают…
Старуха отошла нетвердой походкой. Петюшкин ахнул:
– Черт меня возьми! Какой адвокат отказался от защиты! По должности это сделать невозможно. Вот как! Вы что, не будете слушать прения сторон?.. А! Ну что ж, собственные дела важнее…





