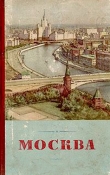Текст книги "Третья столица"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
"Религия – опиум для народа".
Мистер Роберт Смит поселился в России, как англичане поселялись, в Капштадте, Калькутте, Сирии, Дамаске. Россия для него была чужой страной, он был в ней, как в колонии. Мистер Смит поселился в особняке изгнанного из России фабриканта, он никогда раньше не жил так роскошно, как теперь. Это об'яснялось двумя причинами, – во-первых, курсовой разницей валют, благодаря которой жизнь в России была дешевейшей в Европе, и во-вторых – исконною особенностью России: Россия всегда была промышленно и политико-экономически дикой страной, неофициальной колонией сначала англо-саксов, затем германского капитала; предприниматели в России могли строить себе особняки, как нигде в Европе – -
– Соплеменники Роберта Смита, жившие с ним вместе, сплошь мужчины, проводили время, как всегда англо-саксы в колониях, – по строжайшему английскому регламенту плюс все те необыкновенности, что дает колония. Вечерами они были всегда вместе, до сизой красноты накуриваясь сигарами и напиваясь коньяком и ликерами, часто на автомобиле уезжали в злачные места и тогда пропадали целые ночи, – изредка устраивали у себя вечеринки, с отменными яствами, и на эти вечеринки приглашались только русские женщины, чтобы можно было вспомнить древнюю Элладу, которая часто и осуществлялась.
Потом Роберт Смит увидел Русский Кремль, русскую революцию.
– Ложь? – Что, – ложь? – Во имя спасения? Нет. Во имя чего? – Во имя веры? – Да. Нет.
Где-то внизу, должно быть, на парадной лестнице, послышались шаги, должно быть, лакея.
– "Верноподданный, гражданин Соединенного Королевства шотландец Роберт Смит умрет так же просто и обыкновенно, не только, как умирали три тысячи лет назад и как будут умирать еще через три тысячи, – а вот так, как умирают сейчас в этой страшной, невероятной стране, где людоедство и где новая религия. Но ведь, если бы у Роберта Смита не было ушей, он не слышал бы ничего и был бы нем, если бы не было глаз – он ничего не видел бы, – если бы не было его – ничего бы не было – и ничего не будет тогда, когда не будет его. Цирюльники убирают шевелюры русских священников так, чтобы они походили на бога-отца, изображаемого на русских иконах, – но почему же на них похож и Карл Маркс, цитаты из которого на всех заборах в России – ?"
Лакей прошел в кабинет, бесшумно убирается.
– "История иногда меняет свою колесницу на иные повозки. Сейчас история впряглась в русскую телегу, древнейшую, как каменные бабы из русских – поокских раскопок. Две тысячи лет назад тринадцать чудаков, при чем один из них был сыном бога-отца, похожие на Карла Маркса, перекроили историю и человеческую культуру – не потому, конечно, что они несли новую правду, а потому, что их семена упали – на новую землю и: у них была воля творить, воля видеть – не видя. В Европе пели песнь о Роланде и песни нибелунгов, по Европе ходили и крестоносцы, и гугеноты, и табориты, – и шел на костер Ян Гус, – а теперь кафэ и диле заменяют бани, в танцах дикарей, и ломятся киношки в сериях из жизни негров и американских индейцев, – не случайно гуситствует Штейнер и лойольствует Шпенглер: телега, дроги истории поползли по корявым колеям и ухабам валютных и биржевых жульничеств, когда выгоднее было продавать и покупать вагоны теплых слов, чем создавать ценности, когда щетинились баррикады границ и виз, когда разваливались государства, религия, семья, труд, пол, – когда Европа походила на старую-старую суку английской породы, всю в лишаях. – Тогда не было уже в Европе Турции и единственная Азия оставалась – Россия. Пять с половиной веков назад, в Галиполи впервые появились турки, и ислам через Балканы и венгерские равнины дошел до стен Вены, где он был отбит соединенными силами погибшей теперь Габсбургской империи и вновь воскресшей. Турции теперь нет в Европе. Много государств и народов погибло и воскресло вновь за эти пять с половиной веков. В Анатолии, в Галиполи (где впервые появились турки) – умирали в тот год русские изгои. В тот год по Европе, как некогда в России, было много черт оседлости, и русские изгои хорошо узнали, что значит быть евреем, а в Палестине вновь, после тысячелетий, возникло еврейское государство. Глухо зачахли в те годы Армения, Сирия, Палестина, Аравия – – к чему бы?"
– но это говорит не мистер Роберт Смит, это говорю я, Пильняк. Мистер Смит знал иное.
– "Религия, семья, труд, пол" – Мистер Смит знал, как в тихой Шотландии – даже в тихой Шотландии в те годы перепряжек истории, когда мужчины шли, шли, шли убивать друг друга, разваливалась семья. Мужчине, европейцу, англичанину – бог уделил господство над миром, искание и труд – и каждому мужчине бог уделил еще – интимное, уютное, властное безвластье у сердца страшного зверя-женщины. – Уже совсем рассвело: раньше в России Олеги пили брагу из вражьих, человечьих черепов. В полумраке, Роберт Смит взглянул в зеркало, волосы сбились на лоб, лицо показалось лошадиным. Во рту, от недоспанного сна, ощутился привкус свинцовой горечи. Смерть. Смерть. – И все же мистер Смит не поспешая принимал ванну, натягивал на повлажневшие костлявые ноги шелковые тугие кальсоны, тщательно заправлял рубашку с негнущеюся крахмаленой грудью, выбирал в гардеробе костюм, избрал черный и затягивал сзади у брюк хлястик, защелкивал пряжки у ботинок. – Лакей принес кофе, в необыденный ранний час. – Смерть. Смерть. – Телеграммы:
– мистрис Смит, Эдинбург: – Мама, прошу Вас, встретьтесь с Мистрис Елисавет, она не виновна.
– Мистрис Чудлей, Париж: – мистрис Елисавет, встретьтесь с моей матерью.
– Мистеру Кигстон, Ливерпуль: – -
– Королевский банк, Лондон: – – -
Обстоятельство третье.
Мистер Роберт Смит получил воспитание такое же, как все англичане. В детстве – мать, мисс и церковь. Затем колледж в своем приходе, в Эдинбурге, коньки, тэннис, парусная лодка, кружевной воротничок и штаны до колен. Потом Кембридж, сюртук, бокс, футбол, виски, француженка – впервые и единственный раз до женитьбы. Затем годы путешествий, в Камеруне, в Австралии, в Сибири, – банки, онкольные счета и фунты и – где-то – никогда не видимые, но прекрасно знаемые и изученные, – товары. Тогда – у себя в Эдинбурге, в замке у моря, – любовь. Она – Елисавет – хрупкая девушка в белом платье, с волосами, как закат в тумане, и с глазами, как море в облачный день. В пять часов, когда он делал визиты, она разливала чай, они играли в тэннис. Он пригласил ее однажды поплыть с ним на боте, под парусом, – она отказалась испуганно, и он плавал в заливе один, всю ночь. Она стала его женой. Венчание было в двенадцать часов дня, в этот же день они уехали в замок, чтобы побыть несколько дней наедине перед поездкой в Италию и Египет, – и в первую же ночь, в холодной огромной спальне, – она отдалась ему, сжав губы от боли и наблюдая не за ним, а за собой. Так Роберт Смит прожил год. – И тогда пришла война. Женщины на улицах одаряли мужчин белыми лентами, значащими, что этот мужчина добровольцем идет на фронт. Футбольными командами мужчины уезжали обучаться военному ремеслу. Мистер Роберт Смит поехал во Францию, рядовым, в одном из первых полков.
– В Шампани, после недели пребывания в окопах, их роту отвели в тыл, на отдых. Их взвод расположился в сарае фермы. В те годы все европейцы мужчины знали, что такое: окоп, с единственной, промозглой, затаенной мыслью-ощущением: – "не меня, не меня, не я – -". И все знали, что такое – отдых в тылу, когда весь мир – мой и я – бесконечно. У германцев всех проституток мобилизовали на фронт, и солдаты на отдыхе получали от врачей ордера к проституткам. – Тогда был весенний вечер, весь в золотом закате солнца, взвод играл перед сараем в футбол, Роберт Смит писал письма, ему захотелось выпить вина, и он пошел на кухню, около фермерского домика. Ферма жила так, будто никакой войны не было. В кухне мыла посуду молодая девушка, работница, с тупым веснущатым лицом. Она улыбнулась мужчине, не умеющему говорить на родном ее языке, и принесла бутылку красного вина. Роберт Смит, совсем юный в военной форме, жестом предложил ей выпить, – она заулыбалась и принесла еще стакан. Вечером, когда уже стемнело, она прошла около сарая в виноградник и сейчас же вернулась оттуда. Поднималась луна, Роберт Смит знал, что она прикрыла ставни у кухни и одна ушла туда. Роберт Смит сделал большой круг по винограднику, уйдя из сарая в противоположную сторону от кухни, и он оказался у кухни. Он постучал, Девушка что-то спросила из-за двери. Он постучал еще раз, тогда она отперла; она стояла в ночной рубашке, из грубого полотна, почему-то очень короткой, прикрыв грудь рукою. Он хотел только попросить вина, но на пороге вдруг блеснула под луной железка скребка, – он сделал большой шаг и вошел в кухню. В кухне пахло свежим хлебом. Она, эта француженка-работница, оказалась девственницей, – когда Роберт Смит вновь отворил дверь, он заметил, что в тени у кухни жмется солдат-француз, француз сейчас же за Смитом юркнул в дверь бани. Утром девушку нашли в бане мертвой, ночью был дождь, и пол бани был затоптан грязными ногами, точно здесь прошел полк.
– Роберт Смит, – знал ли тогда он, что в мире есть старенький, – не моральный, а физический, почти механический – закон: "Мне отмщение, и Аз воздам", – что человеческий мир складывается – из человеческих единиц, только, – что есть вина разных культур, что Европейской культуры, романо-германской, одноженной, – вино и вино и уксус, – однолюбность, а одна функция всегда – не может не влечь за собой другую? – Но однолюбовность: есть всегда – созидание, порой горькое очень. – – Мистер Роберт Смит много женщин познал, многих национальностей, и молодых, и старых, и целомудренных и извращенных, пока не узнал старенькой этой истины, той, что человек самое ценное – и любовь: единственное – в этом мире. Другого же мира человеку – нет.
– В Эдинбурге уходили мужчины на фронт. Несколько раз над тихими улочками Эдинбурга, в ночи, во мраке, летали цеппелины, тогда люди прятались по домам, а в небе ножницы прожекторов кроили темноту, и всем было нехорошо, одиноко и сиротливо. Потом открылись лазареты и появились искалеченные на фронтах люди, жаждущие жить, и они были с большими деньгами, которых не жалели. На тихих улочках, вне центра города, где дома все, как один, появились кафэ и кабаре, и кинематографы стали ломиться от посетителей, театры опустели. Появились гигантские, несуразные, беспокоящие плакаты о войне. – Мистрис Смит – старуха – знала, что церкви пустеют, и еще она знала – старухи в квартале шептались озабоченно и испуганно – молодые женщины стали сестрами милосердия – девушки очень охотно уплывали в море на ботах под парусом – вон в том доме, напротив, N 27, девушка ходила к акушерке на street в другом конце города, – а в этом доме видели, как на рассвете из окна выпрыгнул офицер, у офицера рука была в белой повязке, кинематографы ломились от пар. – Мистрис Смит – жена Роберта стала сестрой милосердия; старуха не знала, что раз, в ночное дежурство, после обхода израненных мужчин, у молодой закружилась, закружилась голова и в этот момент в комнату, в дежурку, где была она одна, вошел рыжий ирландец, замкнул дверь, как раз тот, которому она улыбнулась несколько раз вечером и которого она видела однажды во сне: молодая тогда очнулась, разобралась в ощущениях только утром, она поразилась, как все это просто, и она другими упрощенными, глазами увидела свет, мужчин, своих подруг, матерей. Над Эдинбургом летали – изредка ночами немецкие цеппелины. – После года отсутствия, после контузии приехал муж, Роберт, – и в первую же ночь муж испугал жену, тогда еще наивную, тем, что он не мог уже удовлетвориться естественной страстью, и то, что он делал, показалось ей мерзостью; но когда муж уехал снова на фронт и у нее был любовник, на десятом свидании она захотела, чтоб любовник сделал с ней то же, что делал ее муж. -
– Потом было все, что нужно для того, чтоб они разошлись, чтоб жена мистрис Смит вновь стала мистрис Чудлей. Тогда уже взорвала Европу Россия русской революцией, и советская революция умирала в Венгрии. Германию карнали во имя революции и мозгового оскудения Версальского мира, мятежничала вновь и вновь Ирландия, вымирала Франция. – – Мистер Смит понял тогда, что значит "Мне отмщение, и Аз воздам", – но случилось так, как должно случиться: мир заслонил любовь, и – как часто случается: Роберт Смит не мог примириться с любовью к ушедшей жене. Она очень скоро применилась, она уехала в Париж.
Роберт Смит знал:
– В великий пост в России – в сумерки, когда перезванивают великопостно колокола и хрустнут ручьи под ногами, – как в марте днем в суходолах в разбухшем суглинке, – как в июне в росные рассветы в березовой горечи, – как в белые ночи, – сердце берет кто-то в руку, сжимает, зеленеет в глазах свет, и кажется, что смотришь на солнце сквозь закрытые веки, – сердце наполнено, сердце трепещет, – и знаешь, что это есть мир, что сердце в руки взяла земля, – что ты связан с ее чистотой так же тесно, как сердце в руке, – что мир, земля, человек, кровь, целомудрие (целомудрие, как березовая горечь в июне) – одно: чистота, девушка, Лиза Калитина. -
Мистрис Смит знала:
– Самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком, – и, когда он идет по возже к уздцам рысака, не желающего стоять, – они стоят на снежной пустынной поляне, – неверными, холодными руками она наливает коньяк, холодный как лед, от которого ноют зубы, и жгущий, как коньяк, – а губы холодны, неверны, очерствели в жестокой тишине мороза, и губы горьки, как то яблоко с пятнышком. А дома домовый пес-старик уже раскинул простыни и подлил воды в умывальник. -
Роберт Смит никогда не познал, никогда: – как
– Лиза Калитина, одна, без лыж, пробирается по снегу, за дачи, за сосны. Обрыв гранитными глыбами валится в море. Буроствольные сосны стоят щетиной. Море: – здесь под обрывом льды – там далеко свинец воды – и там далеко над мутью в метели красный свет уходящей зари. Снежные струи бегут кругом, кружатся, около, засыпают. Сосны шумят, шипят в ветре, качаются. – "Это я, я". – Снег не комкается в руках, его нельзя смять, он рассыпается серебряной синей пылью – "Надя, сейчас у обрыва меня поцеловал Павел. Я его люблю".
Телеграф.
Телеграф – это столбы и проволоки, которые сиротливо гудят в полях, гудят и ночью и днем, и веснами, и в осени, – сиротливо, потому что кто знает, что, о чем гудят они? – в полях, по оврагам, по большакам, по проселкам: -
Телеграф выкинул из России в Европу четыре телеграммы – мистрис Смит, мистрис Чудлей, мистеру Кигстону. -
Россия – Европа: два мира?
В колонном зале польской миссии – на Домберге – парламент миссий. Древнюю Колывань осаждал когда-то Иван Грозный, – публичному дому тогда было уже полтораста лет. Здесь все, кто вне России, кто глядит в Россию. Свет черен – не понятно, ночь иль окна в черных шторах. Парламент мнений. Здесь все. Сорокин и Пильняк – не явились. У секретарского столика Емельян Разин и Лоллий Кронидов. Ротмистр Тензигольско-Саломатино-Расторов сел на окне, без шпаги. Рядом стала серая старушка – мать – мистрис Смит. Генерал Калитин не может об'ясниться по-английски с мистером Кигстоно из Ливерпуля. Министр Сарва, посланник Старк сторонятся Ллойд-Джорджа. В зале нет мистрис Чудлей. – Иль это только бред, иль это только муть, туман, навожденье? – в зале только истопник, и кресла, и тишина – над мертвым городом, – а где-то там, во мгле лежит – Россия, где с полей, суходолов, из лесов и болот – серое, страшное, непонятное, – что? – ..Докладчик, кто докладчик?
– В зале нет мистрис Чудлей
– И Париж. Автобусы, такси, трамваи, мотоциклы, велосипедисты, цилиндры, котелки, женские шляпки. В Париже нет извозчиков. На углу, где скрещиваются две улицы, люди, как сор в воронку, проваливаются в двери метрополитена. Гудит, блестит, – мчит город – в солнце, в лаке, в асфальте. Оказывается, женщин надо, как конфекты, из платья выворачивать. Дом там, против бульвара – весь в оборках жалюзи, – и мистрис Чудлей, в прохладной тени, идет из одной комнаты в другую: – кружево, кружево, шелк, пеньюар – утро. В умывальнике, в ванной – горячая и холодная вода. Мистрис Чудлей у зеркала – мистрис Чудлей в зеркале, – и губы пунцовеют в кармине, бледнеют щеки и нос, а глаза как море в облачный день, и под глазами синяки, такие наивные, такие печальные. И плечи – чуть-чуть припудрены. Она знает, что женщину, как конфетку, надо из платья выворачивать. Она идет по комнате, ее мопс бежит за ней. Уже поздний час. Она знает: – как у нее, так у всех парижанок, у немок, у англичанок, – у всех или визитная карточка, или блокнот (в черепаховой оправе), – и так легко добиться этой карточки, чтоб там был указан час, и к этому часу, конечно, пусть это днем или ночью, в ванне – теплая вода, простыни и полотенца. В комнате за жалюзи – прохладно, и на улице – за жалюзи – котелки, цилиндры, лак ботинок. – Мистрис Чудлей в белом платье, в белом пальто, с сумкой в руках. Лифт мягок, лифт скидывает вниз. На тротуарах, в жестяных пальмах – кафэ. За углом, в переулке, где тихо, – парикмахер. Мистрис Чудлей идет делать прическу, маникюр и педикюр. – И вот
– и вот, когда мистрис Чудлей сидит в кресле, за стеной, где живет джентльмен-парикмахер, – плачет ребенок, мальчик девяти лет, мальчик плачет неистово. – В чем дело? – Мальчик потерял грифель от аспидной доски, и его завтра накажут розгами учитель в школе. – Потом, когда джентльмен-парикмахер склонялся у ног, мальчик неистово ворвался сюда и завертелся неистово, в счастии, – потому что он нашел грифель и его не будет бить учитель. Перед этим мальчик неистово плакал, его побили бы.
– Мистрис Смит идет по бульвару, в кафэ, – ее джентльмен, с тростью в руках, уже был утром на бирже, он в курсе, как пляшут доллары, фунты и франки, он уже потрудился. Ах, должно-быть, должно-быть, она даст ему свою визитную карточку. – Он бодр, он весел, он шутит, – но он немного устал. Он говорит: – "Pardon madame", – и заходит в писсуар, от удовольствия он бьет тросточкой по стене. Она идет медленнее. В кафэ пустынно. День. – Ну-да, в пять часов разбухнут кафэ от кавалеров и дам, и будут острить, что костюм дам состоит – из кавалера впереди и из ничего сзади: это совсем не потому, отчего в России и мужчины и женщины ходят кругом голые. И тогда из пригородов, из подворотен казарм, с фабричных дворов – выйдут – пойдут – черные блузники – и где-то соберутся еретики, фантасты и отступники – поэты и художники. – В этот день мистрис Чудлей принесли телеграмму -
– Ну, вот мистрис Чудлей не было в колонном зале польской миссии, но неистовый плач того мальчика, ребенка, которого будет драть педагог за утерянный грифель, – этот плач был в этом зале. Детский неистовый плач стал рядом с Смит, около ротмистра – губернатора Тензигольского. Поэты, художники, еретики и блузники пришли потом. – В тот год – в те годы – не знали еще в Европе, что это пришло: кризис или крах – или нарождение нового? – В Ливерпуле в порту толпились корабли, титаники, дредноуты, над мутной водою, в нефти – в порту – с каменных глыб набережных свисали гиганские грузопод'емные краны, горами валялся уголь, лежали бочки, хлопок, под брезентами, высились нефтяные баки, каре кварталов элеваторов, складов и холодильников замыкали порт кругом. Кругом все было в саже, в дыму, в каменноугольной пыли, звенели и дребезжали лебедки, вагонетки, вагончики, вагоны, гудели паровозы и катера, гонимые человеческой волей. – Там дальше был город контор, банков, фирм, магазинов. Здесь толпилась толпа – людей всех человеческих национальностей, туда в город контор автомобили, трамваи и автобусы увозили только тех, кто был в цилиндрах, котелках и крахмалах. – В элеваторах, складах и холодильниках, должно-быть, конечно, было много крыс. – И в конторе мистера Кигстона, как во многих конторах королевского банка, знали – вот что, не о крысах:
– В тот год – в те годы – никто не знал, что пришло в Европу: – гибель, смерть или рождение нового. Но мистер Кигстон, как многие, кто научился читать цифры, знал – – Впервые за две тысячи лет гегемония над миром ушла из Европы. Уже прошли годы человеческих бойнь, но народы, как звери, зализывая болячки, жили военными поселениями, глухо готовясь к новым и новым войнам. Вся Европа, и победители, и побежденные, страны, которые грабят, и которых грабят, – вышли из войны – побежденными. Во всех странах, у всех народов пустели университеты, вымирала интеллигенция – мозг народов, пылились, разваливались, разветривались музеи, картины и книгохранилища, – народами управляли солдат, мудрый, как казарменная вахта, и шибер, энергичный, как кинематограф, полагавший, что вся промышленность и экономическая жизнь народов – есть только: биржа и жульничество на высоких и низких валютах: не поэтому ль в Англии, Франции, Италии – не дымились домны, заводы и фабрики – и заливались водой каменноугольные железорудные шахты, извечно черные и пыльные, и одни за другими, сотни, тысячи, лопались, банкротились – фирмы, торговые конторы, банки, предприятия, – а рабочие, десятки, сотни тысяч, миллионы, безработные – люмпен-пролетариат шли в больших городах от одной профессиональной конторы к другой фабричной конторе, в штрейк-брейхерстве, ночуя неизвестно где, потому что вот уже много лет ничего не строилось в Европе, и в одной Англии необходима была постройка миллиона домов, – не потому ли тогда ощетинились нации баррикадами виз и таможен, и даже Англия, великий торговец, изменив столетью своего фритредерства, построила заборы таможен – для побежденного врага, Германии, которая нонсенсом затуманила смысл побед и Версалей и за Версалем оставила одно лишь – разбойничество – -? Тогда говорили в Европе, что это промышленный экономический кризис. – И, хотя государства грозились заборами таможен, как баррикадами, все же были люди, которые видели гибель Европы в уничтожении международного братства, и тогда учинялись Канны, Генуя, – и там фельдфебеля хотели учинить новый Версаль, – и эти глядели на Россию – в Россию, чтоб утвердить равновесие мира – новой колонией. Но государства еще жили и властвовали, как на войне, раз'единяя, кормя и – властвуя: тогда многие в Европе разучились знать, как достается хлеб, – но многие и многие поля в те годы были засеяны – не пшеницей, а картечью, – об этом хорошо знал европейский крестьянин, мужик, – и многие и многие те, для которых не хватало моргов, разучились есть хлеб: ведь едали же в Лондоне и Берлине дохлых лошадей и собачину. И хозяйственный кризис все рос и рос, все новые останавливались заводы, все новые рушились фирмы, все новые товары оказывались ненужными миру – медь, олово, хлопок, резина, – и новые миллионы людей шли – в морги. Но киношки, но кафэ, диле и нахт-локалы были полны, женщины всегда имели визитные карточки. – И эти глядели на Россию – в Россию, чтоб утвердить равновесие мира: колониальной политикой.
– Но в Европе были и еретики, и безумцы, и поэты, и художники, которые – -
– Но Европа мала; – Европа, кошкой изогнувшаяся на земном шаре, где старая кошка нюхает молоко Гибралтара, где Пиренейский полуостров – голова, а нога – Апенинский полуостров
– и гегемония над миром ушла из Европы, с Атлантики – к Тихому Океану:
– В Америке сытно, обутно и одетно, в Соединенных Штатах на каждых четырнадцать человек – автомобиль и половина мирового золота там, и доллар чуть ли не выше своего паритета, и ее тоннаж, в четверть мирового тоннажа, догоняет Англию. В Японии дымят заводы, снуют основы и челноки, и японскому флоту – ближе до Австралии, чем английскому. В Китае, который спал шесть тысяч лет, – полезли китайцы под землю за каменным углем, за залежами железных, оловянных, медных руд, – в Китае загорелись домны. – В Австралии теперь – свои заводы. – Тихий Океан – он же Великий – Аргентина, Боливия, Перу – краснокожие, желтолицые, негры – – но Европа Европа -
– Докладчик мистер Кигстон сходит с кафедры. В черном зале польской миссии темно. Иль это бред и подлинен один лишь детский – горький плач? – Мистера Кигстона сменяет другой докладчик, Иван Бунин, – иль это только бред, поэма, метель над Домбергом – ? – Корабль мирно идет из Америки в Европу. "Горе тебе, Вавилон, город крепкий", Апокалипсис. Это эпиграф.
– "...почти до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно и даже без качки, пассажиров на пароходе оказалось много. И все люди крупные, пароход – знаменитая "Атлантида" – был похож на самый дорогой европейский отель со всеми удобствами, – с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, – и жизнь на нем протекала по самому высшему регламенту: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пиджамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в мраморные ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодною свежестью океана, или играть в шеффль-борд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать подкрепляться буттербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газеты и спокойно ждали второго завтрака, еще более питального и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху: все палубы заставлены были тогда лонгшезами, на которых путешественники лежали, укрывшись плэдами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в первом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким, душистым чаем с печеньями; в семь повещали трубным сигналом об обеде из девяти блюд... По вечерам этажи "Атлантиды" зияли во мраке как бы огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных складах с особенной лихорадочностью. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека, чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появляющегося на-люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвигивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену – ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в огромной двухсветной зале, отделанной мрамором и устланной бархатными коврами, празднично залитой огнями хрустальных люстр и золоченых жиронделей, переполненной декольтированными дамами в бриллиантах и мужчинами в смокингах, стройными лакеями и почтительными метр-д'отелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как какой-нибудь лорд-мэр... Обед длился целых два часа, а после обеда открылись в бальной зале танцы, во время которых, мужчины, задрав ноги, решали на основании последних политических и биржевых новостей судьбы народов и до малиновой красноты лица накуривались гаванскими сигарами... – Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях... – в смертной тоске стенала удушаемая туманном сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке – – -".
Телеграф.
Телеграф: это столбы и проволоки, которые сиротливо гудят в полях, гудят и ночью и днем, и веснами и осенями, – сиротливо, потому что – кто знает, что, о чем гудят они? – в полях, по оврагам, по большакам, по проселкам. – – В Эдинбурге у матери Смит в пять часов было подано кофе, блестел кофейник, сервиз, скатерть, полы, филодендроны, – в Париже у мистрис Чудлей разогревалась ванна, чтоб женщину, как конфекту, из платья выворачивать, – и тогда велосипедисты привезли телеграммы.
– "Мистер Роберт Смит убит в Москве" -
Фита.
Но в Европе ведь были – еретики, безумцы, поэты и художники, которые – – В Европе гуситствовал Штейнер и лойольствовал Шпенглер – – В Ливерпуле, Манчестере, Лондоне, Гавре, Париже, Брюсселе, Берлине, Вене, Риме, – в пригородах, на фабричных дворах, из подворотен, в дыму, копоти и грязи, на рудниках, шахтах и заводах, в портах, – в элеваторах, – поди много крыс, – рабочие, безработные, их матери, жены и дети – правой рукой – сплошной мозолью, выкинутой к небу и обожженными глотками
– и с ними еретики, безумцы, поэты и художники
– вчера, третьего дня, завтра – ночами, восходами, веснами, зимами, осенями – в метели, в непогодь и благословенными днями – одиночками, толпами, тысячами, – обожженными глотками, винтовками, пистолетами, пушками
– кричали:
– Третий Интернационал!
В черной зале польской миссии – бред. Маленький мальчик горько плачет в польской миссии, потому что он потерял грифель, и педагог будет его бить. Лиза Калитина – в польской миссии. Метель в польской миссии. Но вот идут еретики, поэты, художники, безумцы, рабочие, все, для кого морги. Ротмистр Тензигольский – обветрен многими ветрами – Ллойд-Джордж вместе с Тензигольским – расстрелян. Бред – ерунда – глупость – вымысел. В черном зале польской миссии бродят тени, мрак, ночь. Мороз. Нету метели. – И вот идет рассвет. Вот по лестнице снизу идет истопник, несет дрова.
В Москве, с Николаевского вокзала – из колонии, имя которой Россия, уходил вагон за границу, в метрополию, он должен был дойти до порта Таллина. Он должен был уйти в 5,10, но ушел в 1,50, – это по-российски. На вокзале, ибо в эти часы не было поездов, было пустынно. В вагоне ехали эсты. Русские понимали по-эстонски только два слова: куррат – черт, и якуллен – слушаю; слушали друг друга – и русские носильщики с усмешкой, и эстонские курьеры дипломатически вежливо – "якуллен", – но не понимали. Уборная в вагоне обозначалась по-эстонски, что не изменяло, конечно, ее назначения, как это бывало в России. Вагон грузили ящиками в пломбах, похожими на гроба, которые именовались дипломатическими пакетами. Потом, вместе с людьми, запломбировали вагон. Ночью вагон ушел. Ночью было холодно в вагоне. – Во всем вагоне оказалось пять человек, при чем двое из них – русские, – впрочем, был еще шестой: в одном из дипломатических пакетов находился труп Роберта Смита. Ночью в вагоне на дипломатических гробах горели свечи. Стены вагона, деревянные, были крашены серым, вагон был невелик, окна были замазаны известью, при остановках и толчках в дипломатических пакетах перекатывались бутылки, все пятеро были в енотовых шубах, пахло нафталином и сардинками, – и вагон походил на общую каюту третьего класса внизу, в трюме, плохенького морского пароходика: бутылки из-под шампанского, которые перекатывались в дипломатических гробах, напоминали звон рулевых цепей, и как в трюмах – в окнах ничего не было видно. Так заграница подперла к самой Москве, так уходил вагон из колонии. Утром и весь день ничего из вагона не было видно: окна были хорошо закрашены. Двое русских, все же успели за ночь обжить свое купэ и свои гроба – окурками, бумажками и разговорами по душам. Вечером в вагоне запахло трупным удушьем – от трупа Роберта Смита.