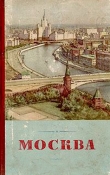Текст книги "Третья столица"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Надежда знает, что губы князя – терпкое вино: самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком. Разговор, пока Лиза наверху, короток и вульгарен. Здесь не было камина и помещичьей ночи, хоть и был помещичий вечер, коньяк не жег холодом, от которого ноют зубы и который жжет коньяком, – здесь не утверждался – Иннокентием Анненским Лермонтов, но французская пословица – была та же.
– Ты останешься у нас ночевать? – Останься. – Я приду.
– Знаете, Надин, все очень пошло и скучно. Мне все надоело. Я запутался в женщинах. Я очень устал -
Лиза сбегает, – ссыпается – с лестницы.
– Лиза Калитина, здравствуйте.
– Здравствуйте, князька! – а я была у обрыва, – как там гудит ветер! После ужина пойду опять, – пойдемте все! Так гудит ветер, так метет – я вспомнила нашу нижегородскую.
Надежда сидит на диване с ногами, кутается в шаль. Лиза садится в кресло, откидывается к спинке, – нет, не шахматная королева, – зеленая стрела зеленого горького лука. Князь расставил ноги, локти опер о колени, голову положил на ладони.
– Я задумал написать картину, – говорит князь, – молодость, девушка в саду, среди цветущих яблонь, – удивительнейшее, прекрасное – это когда цветут яблони, – девушка тянется сорвать яблоновый цвет, и кто-то, негодяй, вожделенно – смотрит на нее из-за куста: – пол-года, как задумал, сделал эскиз – и не хватает времени как-то... Очень все пошло...
– Обязательно пойдем после ужина к обрыву, – это Лиза.
– Что же, пойдемте, – это князь.
Из кабинета приходит генерал, кряхтит – добрый хозяин – здоровается, шутит: – давно не виделись, надо выпить коньячишка, – Лизе надо распорядиться, чтобы мама позаботилась об ужине повкуснее. За ужином князь чувствует, как тепло водки разбегается по плечам, по шее, – привычное, изученное тепло алкоголя, когда все кругом становится хрупким и стеклянным, чтобы потом – в онемении – стать замшевым. Генерал шутит, рассказывает, как мужики в России лопатки, те что на спине, называют крыльями: от водки всегда первым делом, тепло между крыльями; Лиза торопит итти к обрыву, – и князю нельзя не пойти, потому что в метели есть что-то родное яблоновому цвету – белым снегам цветения яблонь. Генерал недовольно говорит, что ему надо посекретничать с князем. Надежда повторяет: – "я иду спать, пора спать" -
Сосны шипят, шумят, стонут. Ничего не видно, снег поколена. У обрыва ветер, невидимый, бросается, хватает, кружит. С моря слышно – не то воет сирена, не то сиреною гудит ветер. Князь думает о яблоновом цвете, гуляет тепло алкоголя между обескрыленных крыльев. Там, у обрыва, стоят молча. Слушают шипение сосен. Лиза стоит рядом, плечо в плечо. Лиза стоит рядом, князь берет ее за плечи, поднимает ее голову, заглядывает в глаза, глаза открыты, Лиза шепчет: – "Как хорошо" – князь думает минуту минута как вечность, князь тоже шепчет: "моя чистота" – и целует Лизу в губы; губы Лизы теплы, горьковаты, неподвижны. Они стоят молча. Князь хочет прижать к себе Лизу, она неподвижна, – "моя милая, моя чистота, мое целомудрие" -
– Пойдемте домой, – говорит Лиза громко, глаза ее широко раскрыты, я хочу к маме.
Лиза идет впереди, почему-то очень деловито. Из прихожей генерал зовет князя к себе в кабинет. Лиза проходит наверх, Надежда стоит у окна в ночном халатике.
– Князь пошел спать? – спрашивает Надежда.
Генерал закрывает двери кабинета поплотнее, крякает.
– Видите ли, князинька, хочу вам показать – не купите ли -
Генерал показывает князю серию порнографических фотографий, где мужчины и женщины в масках иллюстрировали всяческие человеческие половые извращения, – и князь краснеет, сизеет мучительно, ибо на этих фотографиях он видит себя, тогда в Париже, после Константинополя и Крыма, спасшего себя этим от голода. -
Генерал говорит витиевато:
– Видите ли – нужда – жалованья не хватает – дети, дочери – вам – художнику -
Лермонтов не подтверждается Анненским этой метельной ночью. На самом ли деле, самое вкусное яблоко – это то, которое с пятнышком -
Лиза – наверху в мезонине – говорит Надежде, – Лизу Калитину впервые поцеловал мужчина, Лиза Калитина, как горечь березовая в июне, – Лиза говорит Надежде, – покойно, углубленно, всеми семнадцатью своими годами:
– Надя, сейчас у обрыва меня поцеловал Павел. Я его люблю.
У Надежды, – нет, не ревность, не оскорбленность женщины, – любовь к сестре, тоска по чистоте, по правде, по целомудрию, по попираемой кем-то – какой-то – справедливости – сжали сердце и кинули ее к Лизе – в об'ятия, в слезы
а – в -
с
Нет, не Россия. Конечно культура, страшная, чужая, – публичный дом в пятьсот лет, за стеной, у Толстой Маргариты и Тонкого Фауста. Внизу у печки, еще хранятся медные крюки для рыцарских сапог. В "Черном Вороне" – была же, была шведская гильдейская харчевня.
– Над городом метель. В публичном доме тепло. Здесь – богема теперь, вместо прежних рыцарей. Две девушки и два русских офицера разделись донага и танцуют голые ту-стэп: голые женщины всегда кажутся слишком коротконогими, мужчины костлявы. Музыки нет, другие сидят за ликером и пивом, воют мотив ту-стэпа и хлопают в ладоши, – там, где надо хлопать смычком по пюпитру. Час уже глубок, много за полночь. – Иногда по каменной лестнице в стене, парами уходят наверх. Поэт на столе читает стихи. И народу, в сущности, немного, – в сущности, сиротливо, – и видно, как алкоголь – старинным рыцарем, в ботфортах – бродит, спотыкаясь, по сводчатому, несветлому залу. – Ротмистр Тензигольский сидит у стола молча, пьет упорно, невесело, глаза обветрены – и только ветрами, и ноги трудились в обветривании. Местный поэт с русским поэтом весело спорят о фреккен из "Черного Ворона", – русский поэт, на пари заберется сегодня ночью к ней: к сожалению, он не учитывает что в "Черный Ворон", вернется он не ночью, а утром, после кофе у Фрайшнера. – Николай Расторов, еще с вечера угодил в этот дом, с горя должно быть, – и как-то случайно уснул возле девушки: в нижней рубашке, в помочах, в галифе и женских туфлях на ногах, он спускается сверху, смотрит угрюмо на голоспинных и голоживотых четверых танцующих, подходит к поэтам и говорит:
– Ну, и чорт. Это тебе не Россия. Заснул у девки, а карманы – не чистили. Честность. – Сплошной какой-то пуп-дом. Я успел тут со всеми перепиться – и на ты, и на мы, и на брудер-матер. Не могу. Собираюсь теперь снова выпить на вы послать всех ко – е – вангелейшей матери и вернуться в Москву. Не могу, – самое главное: контр-разведка. Затравили меня большевиком. Честность...
– Ну, и чорт с тобой, – брось, выпей вот. На все – наплевать. – Даешь водки.
Ротмистр Тензигольский встает медленно, – трезвея, должно быть, всползая вверх по изразцам печи, – ротмистр царапает затылок о крюк для ботфортов, глаза ротмистра – растеряны, жалки, как головы галчат с разинутыми ртами.
– Сын – Николай...
И у Николая Расторова – на голове галченка: – тоже два галченка глаз, удивленных миру и бытию.
– О – отец?.. Папа. -
– Утром в публичном доме, в третьем этаже, в маленькой каменной комнате, как стойло, – желтый свет. Здесь за пятьсот лет протомились днями в желтом свете тысячи девушек. В каменной комнате – нет девушки, здесь утром просыпаются двое, отец и сын. Они шепчутся тихо.
– Когда наступала северо-западная армия я ушел вместе с ней из Пскова. Запомни, – губернатор Расторов убит, мертв, его нет, а я – ротмистр Тензигольский, Петр Андреевич. Запомни. – Что же, мать голодает, все по прежнему на Новинском у Плеваки? – А ты, ты – в че-ке работаешь, чекист?
– Тише... Нет, не в чеке, я агент комминтерна, брось об этом. Мать ничего, не голодает. О тебе не имели сведений два года.
– Ты что же, – большевик?
– Брось об этом говорить, папа. Сестра Ольга с мужем ушла через Румынию, – не слыхал, где она?
– Оля, – дочка?.. – о, Господи.
Пятьсот лет публичному дому – конечно, культура, почти мистика. Шопот тих. Свет – мутен. Два человека лежат на перине, голова к голове. Четыре галченка воспаленных глаз, должно-быть, умерли -
Ночь. И в "Черном Вороне", в тридцать девятом номере – то-же двое: Лоллий Львович Кронидов и князь Павел Павлович Трубецкой. В "Черном Вороне" тихо. Оркестр внизу перестал обнажаться, только воют балтийские ветры, седые, должно-быть. Лоллий – в сером халатике, и из халата клинышком торчит лицо, с бородою – тоже клинышком. Князь исповедывается перед протопопом Аввакумом, князь рассказывает о Лизе Калитиной, о парижских фотографиях, о каком-то конном заводе в России. -
... Где-то в России купеческий стоял дом – домовина – в замках, в заборах, в строгости, светил ночам – за плавающих и путешествующих – лампадами. Этот дом погиб в русскую революцию: сначала из него повезли сундуки с барахлом (и вместе с барахлом ушли купцы в сюртуках до щиколоток), над домом повиснул красный флаг и висли на воротах вывески – социального обеспечения, социальной культуры, чтоб предпоследним быть женотделу (отделу женщин, то-есть), – последним – казармам, – и чтоб дому остаться, выкинутому в ненадобность, чтоб смолкнуть кладбищенски дому: дом раскорячился, лопнул, обалдел, все деревянное в доме сгорело для утепления, ворота ощерились в сучьи, – дом таращился, как запаленная лошадь
– И нет: – это не дом в русской разрухе, – это душа Лоллия Львовича в "Черном Вороне", ночью. – Но в запаленном, как лошадь, каменном доме, – горит лампада:
– В великий пост в России – в сумерки, когда перезванивают великопостно колокола и хрустнут ручьи под ногами, – как в июне в росные рассветы в березовой горечи, – как в белые ночи, – сердце берет кто-то в руку, сжимает (зеленеет в глазах свет и кажется, что смотришь на солнце через закрытые веки) – сердце наполнено, сердце трепещет, – и знаешь, что это мир, что сердце в руки взяла земля, что ты связан с миром, с его землей с его чистотой.
– Эта свечка: Лиза Калитина.
Ночь. Мрак. "Черный Ворон".
– Ты, понимаешь, Лоллий, она ничего не сказала. Я коснулся ее, как чистоты, как молодости, как целомудрия; целуя ее, я прикасался ко всему прекрасному в мире. – Отец мне показал фотографии: и меня мучит, как я, нечистый, – нечистый, – посмел коснуться чистоты...
– Уйди, Павел. Я хочу побыть один. Я люблю Лизу. Господи, все гибнет... – Лоллий Львович был горек своей жизнью, он был фантаст, – он не замечал сотен одеял, воткнутых во все его окна, – и поднятый воротник даже у пальто – шанс, чтоб не заползла вошь. Но – он же умел: и книгам подмигивать, сидя над ними ночами, – книгам, которые хранили иной раз великолепные замшевые запахи барских рук. -
Ночь. Мрак. "Черный Ворон".
Фита. -
В черном зале польской миссии, на Домберге, – темно. Там, внизу, в городе – проходит метель. В полях, в лесах над Балтикой, у взморий – еще воет снег, еще кружит снег, еще стонут сосны, – не разберешь: сиреналь кричит на маяке или ветер гудит, – или подлинные сирены встали со дна морского. Муть. Мгла. И из мути так показалось – над полями, над взморьем, как у Чехова черный монах, – лицо мистера Роберта Смита, как череп, – не разберешь: двадцать восемь или пятьдесят, или тысячелетие: на ресницы, на веки, на щеки – иней садится, как на мертвое: лицу ледянить коньяком – в морозе черепов, и коньяк – пить из черепа, как когда-то Олеги.
– В черном зале польской миссии темно. Полякам не простить – Россию: в смутные годы, смутью и мутью, – сходятся два народа делить неделимое. В Смутное время воевода Шеин бил поляков под Смоленском, и в новую Смуту в Россию приходили поляки к Смоленску. Не поделить неделимое и – не найти той веревочки, которой связал Россию и Польшу – в смутах – чорт. В черной миссии – в черном зале в вышгороде – в креслах у камина сидят черные тени. О чем разговор?
В публичном доме, которому, как мистика культуры, пятьсот лет – танцует голая девушка, так же, как – в нахт-локалах – в Берлине, Париже, Вене, Лондоне, Риме, – тоже так же танцовали голые девушки под музыку голых скрипок, в электрических светах, в комфортабельности, в тесном круге крахмалов и сукон мужчин, под мотивы американских дикарей, ту-стэп, уан-стэп, джимми, фокс-троте. Как собирательство марок с конвертов, промозглую дрожь одиночества таили в себе эти танцы, в крахмалах и сукнах мужчин, – недаром безмолвными танцами на асфальте улиц началась и кончилась германская революция, – чтоб к пяти часам во всей Европе бухнуть кафэ, где Джимми и где женщины томили, топились в узких рюмках с зеленым ликером, в плоти, в промозглости ощущений, чтоб вновь разбухнуть кафэ и диле к девяти, – а в час за полночью, в ночных локалах, где женщины совсем обнажены, как Евы, в шампанском и ликерах, – чтоб мужчинам жечь сердца, как дикари с Кавказа жарят мясо на шашлычных прутьях, пачками, и сердца так же серы, как баранье шашлычное мясо, политое лимонным соком. Ночные диле были убраны под дуб, днем мог бы заседать в них парламент, но по стенам были стойльца и были диваны, как в будуарах, ярко горело электричество, – были шампанское, ликеры, коньяки, – в вазах на столах отмирали хризантемы, оркестранты, лакеи и гости-мужчины были во фраках, – и было так: голая женщина с подкрашенным лицом, с волосами, упавшими из-под диадемы на плечи, – матовы были соски, черной впадиной лобок и чуть розовели колени и щиколотки, – женщина выходила на середину, кланялась, – было лицо неподвижно, – и женщина начинала склоняться в фокс-троте – голая – в голом ритме скрипок: голая женщина была, в сущности, в сукнах фраков мужчин. -
– И еще можно видеть голых людей – так же – даже – ночами. В Риме Лондоне – Вене – Париже – Берлине – в полицей-президиумах – в моргах лежали на цинковых столах мертвые голые люди, мужчины и женщины, дети и старики, – в особых комнатах на стенах были развешаны их фотографии. Все неопознанные, бездомные, нищие, без роду и племени, – убитые на проселках, за городскими рвами, на перекрестках у ферм, умершие на бульварах, в ночлежках, в развалинах замков, выкинутые морем и реками, – были здесь. Их было много, еженощно они менялись. – Это задворки европейской цивилизации и европейских государств, – задворки в тупик, в смерть, где не шутят, но где последнего даже нет успокоения, где одиноко, промозгло, страшно, – нехорошо, – но, быть может, в этом тоже свой фокс-трот и ужимки Джимми? неизвестно. Здесь социальная смерть. В морг итти слишком страшно, там пахнет человеческим трупом, запахом, непереносимым человеком, так же, как собаками – запах собачьего трупа – там во мраке бродят отсветы рожков с улиц, – в моргах рядами стоят столы и мороз, чтобы не тухнуло – медленно тухнуло – мясо. – Вот с фотографии смотрит на тебя человек, фотография выполнена прекрасно, глаза в ужасе вылезли из орбит и он ими смотрит – в ужасе – на тебя: – глаза кажутся белыми с черной дырой зрачка, – так выполз белок из орбит. Вот – молодая женщина, у ней отрезана левая грудь, кусок груди – мяса – лежит рядом на цинке. Вот лежит юноша, и у юноши нет подбородка: там, где должен быть подбородок, каша костей и мяса – и первого пушка усов и бороды. – Но фотографии воспроизводят не только морг, фотографии запечатлевают и место, и то, как и где нашли умерших. – Вот – в замочном, кирошном и ратушном городке – за стеной во рву лежит человек, головою в ров, ногами на шоссе; человек смотрит в небо, и на нем изодранный – пиджачишка, человек – vogabon – бродяга. Почему у убиваемых всегда открыты глаза? – и не столкнешь уже взора мертвых с той точки, куда он устремлен. – Здесь социальные задворки государств, они пахнут тухлым мясом. – Ночь. Мороз. Нету метели. Пахнет запахом человеческого трупа, непереносимым человеком также, как собаками – собачий трупный запах. Их много, этих голых мертвецов в Европе, их собирают, убирают, меняют ночами. Они тоже пляшут в этой своей череде уборок, про них никто не помнит, их никто не знает. – Ах, какое промозглое, продроглое одиночество – человечески-собачье одиночество – испытывать, когда женщина, девушка, самое святое, самое необыкновенное, что есть в мире, несет бесстыдно напоказ сукнам мужчин с жареным шашлыком сердец, – когда она, женщина, девушка, должна – должна была бы притти к одному, избранному, – не ночью, а днем в голубоватом свете весенних полдней, в лесу, около сосен на траве. – Помните
– – ...В черном зале польской миссии – бродят тени, мрак. Ночь. Мороз. Нету метели. За окнами – газовый фонарь, и газовые рожки бросают отсветы на колонны и на лепной потолок. В колонном зале – ночное совещание – враги: мистер Смит, министр Сарва, посол российский Старк и – хозяин – польский консул Пиотровский. Враги. И разговор их вне политики, выше, – над – – Иль это только бред? – Колонный зал безлюден, – кресла спорят? – докладчик: Питирим Сорокин.
– Милостивые государи, – не забудьте, что в Европе восемь лет под-ряд была война. Шар земной велик: не сразу вспомнишь, где Сиам и Перу. В мире, кроме белой, есть желтая и черная человеческие расы. Последние две тысячи лет мир на хребте несла Европа, человеческая белая раса, одноженная мужская культура. Людей белой расы не так уж много. – Милостивые государи! война унесла тридцать три миллиона людей белой расы, – желтая и черная расы почти невредимы. Тридцать три миллиона – это больше, чем половина Франции, это половина Германии, это Сербия, Румыния и Бельгия вместе. Но это не главное: не главное что вся Европа в могилах, что нету семьи, где не было бы крэпа, не главное, что мир пожелтел от войны, как европейцы пожелтели в преждевременной дряхлости, от страданий и недоедания. – Милостивые государи! – Равенство полов нарушилось, ибо война мужской аггрегат, и гибли мужчины, носители мужской европейской культуры – за счет одиночества, онанизма, проституции и иных половых извращений. Но война унесла в смерть самых здоровых, самых работных – и физически и духовно, – оставив жить человеческую слякоть, идиотов, преступников и шарлатанов, скрывавшихся от войны. Но война унесла, кроме самых лучших физически и духовно, и мозг народов; – это касается не только России Россия – страна катастрофическая; – Англия – богатая страна, – на тысячу населения в Англии два университетских человека, – едва ли после войны осталось на тысячу полчеловека: студенты Кембриджа – все пошли на войну офицерами – и к маю 1915 года живыми из них осталось лишь 20%. Европа обескровлена. Мозг ее высушен. Остались жить и плодиться: больные и калеки, старики, преступники, шарлатаны, трусы безвольные. Но это не все. "По векселям войны платят после нее", – это говорил Франклин, и он был прав. Есть в мире закон, который гласит: каковы семена, таковы и плоды, такова и жатва. Война уничтожает не только лучших, но и их потомство. Война унесла не только лучших, но вообще мужчин. Новые семена будут сеяться в дни развала семьи, половых извращений. Те мужчины, что вернулись с фронтов, навсегда понесут в себе разложение смерти. Где-то Наполеон сказал об убитых в сражении: "Одна ночь Парижа возместит все это". – Нет Sir был не прав: тысяча ночей Парижа, и Лондона, и Рима не возместят эту гибель лучших производителей, – количественное возмещение – это не значит еще качественное, а новый посев будет посевом "слякоти". – Милостивые государи! Вы все знаете старую истину, – что совершенство государственной организации, исторические ее судьбы. – находятся в исключительной, в единственной зависимости от культуры, быта и особенностей народности этого государства: каков поп, таков и приход, – русский император Николай II в Англии должен был бы быть парламентским королем, а английский Георг VII стал бы в России деспотическим императором, – – восстановятся разрушенные фабрики, заводы, села и города, задымят трубы, – но человеческий состав будет окрашен человеческой слякотностью. – Милостивые государи! Мало нового под луной. В Европе много могил, если помнить историю Европы, – под Лондоном, Римом, Парижем гораздо больше человеческих костяков, чем живых людей, – но за две тысячи лет гегемонии Европы над миром, – впервые теперь центр мировой культуры ушел из Европы – в Америку и к желтым японцам. В Европе много кладбищ. В Европе не хватает моргов. Вы знаете об этом жутком помешательстве Европы на танцах дикарей. И еще надо сказать о России. Эстия, Латвия, Литва – отпали от России. Вместе с Россией они несли все тяготы, но у них нет советов, разрухи и голода, как в России, потому что у них нет русской национальной души, русско-сектантского гипноза. Я констатирую факт. – В черном зале польской миссии бродят тени, мрак. Ночь. Мороз. Нету метели. – И вот идет рассвет. Вот по лестнице снизу идет истопник, несет дрова. В белом зале – серые тени, в белом зале пусто. За истопником идет уборщик. В печи горит огонь. Уборщик курит трубку, закуривая угольком, и истопник закуривает сигаретку. Курят. Тихо говорят. – За окнами, под крепостной стеной внизу – ганзейский древний город, серый день, синий свет, – где-то там вдали, с востока, из России мутное восстает, невеселое солнце.
– И в этот час, в рассвете, под Домбергом идут (– в те годы было много изгоев, и – просто, русский наш, сероватый суглинок) офицеры русской армии из бараков, те, что не потеряли чести, – за город, к взморью, в лес – пилить дрова, лес валить, чтобы есть впроголодь. Впереди их идет с пилой Лоллий Кронидов, среди них много Серафимов Саровских и протопопов Аввакумов, тех, что не приняли русской мути и смуты. Они не знают, что они лягут костьми, бутом в той бути, которым бутится Россия, – они живут законом центростремительной силы. Благословенная скорбь.
– Но в этот миг в Париже – еще полтора часа до рассвета, ибо земной шар – как шар, не всюду сразу освещен, в Париже шла страшная ночь. Нация французов, после наполеоновских войн понизилась в росте на несколько сантиметров, ибо Наполеон был неправ, говоря об "одной ночи Парижа" и ибо после Наполеона осталась слякоть человеческая. – В эту ночь еще с вечера потянулись толпы людей на метрополитенах, на автобусах, на таксомоторах, на трамваях и пешком: на такую-то площадь, у такой-то тюрьмы, у такого-то бульвара. Все кафэ были переполнены и не закрывались всю ночь. В три часа ночи толпа прогудела о том, что приехала гильотина. Гильотину стали безмолвно собирать у ворот тюрьмы, в пятнадцати шагах от ворот, против ворот, на площади, чтобы толпа могла видеть, как будут резать голову. Полиция все время просила толпу быть бесшумной, ибо тот, которому через час отрежут голову, – спал и должен был ничего не знать о приготовлениях к отрубанию головы. Казнь, по закону, должна была быть до рассвета. В тюрьме – в такой-то тюрьме, у такого-то начальника тюрьмы прокурор, защитник, священник и прочие начальники томились от неурочного бездействия и пили глинтвейн, на минуту заходил палач, в черном сюртуке, в белых перчатках и белом галстуке. Имя палачу – такое-то. Имя палача такое-то – было во всех газетах, вместе с его портретом. А когда пришли к тому, которому должны были отрубать голову, он на самом деле спал. Прокурор разбудил его, коснувшись плеча.
– Проснитесь, Ландрю, – сказал прокурор и заговорил о законах Французской Республики.
Ландрю попросил уйти всех, пока он вымоется и переоденется. Священнику он сказал, когда тот хотел его исповедывать, – что ему не надо посредников, тем паче, что он очень скоро будет у Бога. Ландрю тщательно оделся, надел высокий крахмальный воротничек, выпил стакан кофе. Прокурор спросил, и Ландрю ответил, чо он не считает себя виновным. Внизу в парикмахерской палач остриг Ландрю и тщательно обрезал ворот рубашки вместе с крахмальным воротником, обнажив шею: – концы галстуха упали за жилет. Батюшка вторично приступил к молитвам. Из парикмахерской было слышно, как морским прибоем гудит на площади толпа: в гул человеческих вскриков и слов врезывались бестолково гудки автомобилей. Но когда ворота открылись и вместе с прокурором, защитником, батюшкой и прочими палачами и сволочью Ландрю вышел к гильотине, к палачу, в белом галстухе, толпа смолкла.
Мерзко, знаете ли, братцы!
Фита.
Но эта фита не из русской абевеги.
В Лондоне, Ливерпуле, Гавре, Марселе, Триесте, Копенгагене, Гамбурге и прочих портах портились в тот год корабли за бездействием и бестоварьем. В Лондоне, Ливерпуле, Гавре, Марселе, Триесте, Копенгагене, Гамбурге и прочих городах, на складах, в холодильниках, в элеваторах, подвалах – хранились, лежали, торчали, сырели, сохли – ящики, бочки, рогожи, брезенты, хлопок, масло, мясо, чугун, сталь, каменный уголь. Сколько квадрильонов штук крыс в Европе?! -
–
Обстоятельство первое.
"Гринок", судно Эдгара Смита, идет на пол-румба к северу. Судно находится 70°45' северной широты. Льды, которые обязательно должны были бы быть здесь, не видны. Над волнующеюся свинцово-серою поверхностью нет уже никаких живых существ кроме обыкновенных чаек, буревестников да изредка темных чаек – разбойников, которые бросаются на простых чаек, только-что поймавших в воде рыбу. Морская тишь оглашается тогда жалобным криком обижаемой птицы. Весьма возможно, что, когда судно войдет во льды, лоцману посчастливится высмотреть из обсервационной бочки белого медведя. К одиннадцати часам вечера светлело как днем. Телеграфист шлет радио. Динамо гудит все сильнее и сильнее, жалобные призывы уносятся с антен в небесный простор, упорно повторяясь через ровные промежутки. Динамо останавливается, и телеграфист прислушивается к ответу. Югорский шар ответил, передали письма.
К часу по полуночи – синее небо, открытое море и полный штиль. Солнце начинает золотить небо и скоро появится над горизонтом. Море совсем покойно и кажется таким безбрежным, что в три часа "Гринок" меняет курс, повернув почти на норд-норд-ост, чтобы пройти Белый Остров. Твердо уверенный, что это удастся, капитан мистер Эдгар Смит, начальник экспедиции, пошел спать.
Но в шесть часов капитан Смит проснулся от толчка. Стало-быть, опять лед. Оказывается, лед уже давно виднелся с севера, но теперь появился и впереди. Судно наткнулось на небольшую льдину, не повредив даже обшивки. Кругом полосами полз синий, как датский фарфор, туман, его уносил утренний восточный ветер. Все оказалось пустяками, и мистер Смит собирался уже вернуться в рубку. Но тогда прибежал полуодетый телеграфист с лицом, покрасневшим и побледневшим пятнами и с разбитой прической: от толчка провод сильного тока упал на изоляционные катушки, пробил изоляционные обмотки, и радио-аппарат был испорчен непоправимо. "Гринок" оказался отрезанным от мира. Небо на севере сильно бледнело, стало-быть, там был сплошной лед. Солнце блистало так, что надо было одеть предохранительные очки.
Телеграфист озабоченно рассматривал погибшие катушки, поправить погибшее возможности не было. Динамо гудит все сильнее и сильнее, антены выкидывают в небесный простор призывы – и безмолвно: судно и люди на нем отрезаны от мира. Последнее радио было от матери мистер Смита, – мать, по обыкновению, благословляла сына и писала о том, что даже в канонной Шотландии разрушалась семья и земное счастье. Неконченным, недопринятым было письмо брата, из Москвы.
"– Москва – это азиатский город, и только. Ощущения, которые вызывает она, аналогичны тем, которые остались у меня в памяти от Пекина. Но кроме этого здесь чрезвычайно тщательно сектантское – – -"
– и на этом оборвалось радио.
Капитан Смит, начальник экспедиции, спустился в салон. Стюарт готовил кофе. Пришли врач и лоцман. Телеграфист не явился. Лоцман сумрачно сообщил, что ему совершенно не нравится быть отрезанным от вселенной. Туман окончательно рассеялся. Кругом были ледяные поля. Весь день дул слабый бриз, сначала с северо-запада, потом с запада, затем снова с северо-запада. К вечеру ветер посвежел и небо покрылось тучами. Течение по-прежнему шло заметно к югу, но было слабо. Смит и врач играли в шахматы. Судно стояло. Лоцман занимался фотографией. Вечером Стюарт особенно заботливо накрыл стол, раскупорил несколько бутылок рому. – К рассвету льды рассеялись. Капитан спал в своей каюте, его разбудили, и судно двинулось. Телеграфисту было поручено вести дневник.
Обстоятельство второе.
Мистер Роберт Смит – в России, в Москве, ночью. Мистер Смит с вечера перед сном сделал прогулку по городу, спустился по Тверской ко Кремлю, возвращался улицей Герцена и затем прошел бульварным кольцом. И ночью, должно быть, перед рассветом, в пустынной своей большой комнате – он проснулся в липкой испарине, в страхе, в нехорошем одиночестве, в нехорошей какой-то промозглости. Это повторялось и раньше, когда, в старости уже, сердечные перебои кидали кровь к вискам, а сердце, руки и ноги немели. Сейчас же, проснувшись, Роберт Смит первой мыслью, первым ощущением осознал совершенно ясно, промозгло-одиноко, что он – умрет. Все останется, все будет жить, – а его дела, его страдание, его тело – исчезнут, сгниют, растворятся в ничто. Это осознание смерти было физически-ощутимым, и пот становился еще липче, ничего нельзя было сделать. Обезьяной вылезла другая мысль – та, что все же у него осталось еще пятнадцать, двадцать лет, и – вновь физическое ощущение – надо – надо сейчас же: делать, работать, не потерять ни минуты.
В окна сквозь гардины шел мутный свет. Роберт Смит вставил ноги в ночные туфли, у ночного столика налил воды в стакан. Заснуть возможности уже не было. В доме было безмолвно. Дверь в кабинет, под портьерой была полуоткрыта, – из кабинета шла дверь в зимний сад с пальмами и фонтаном. Костлявое тело в пижаме волочилось беспомощно. Мистер Смит сел в кресло у окна, отодвинул гардину. По улице шли нищие оборванцы, граждане Российской республики, женщины – одетые по-мужски и мужчины в женском тряпье, прошли солдаты в остроконечных шапках, как средневековье. Мистер Смит прошел в зимний сад, фонтан плескался тихо, пальмы в углах сливались со мраком.
"Верноподданный, гражданин Соединенного Королевства шотландец Роберт Смит умрет так же просто и обыкновенно, не только как умирали три тысячи лет назад и будут умирать еще через три тысячи, а вот так, как умирают и сейчас, сию минуту – вот в этой страшной, невероятной стране, где людоедство". Учитель русского языка господин Емельян Емельянович Разин, об'яснил однажды, – что "с. с." – два "с" с точками после них обозначают русское ругательство – сукин сын, сын самки-собаки; мистер Смит тогда разложил в уме свою фамилию, С-мит, – но мит, по-немецки, тоже с, – и мистер Смит сказал сейчас вслух:
– Конечно, в смерти мы равны собакам.
В кабинете на столе лежал блокнот дневника, – простыни на кровати остыли. Мистер Смит был в Китае, в Индии, в Сиаме и еще в Англии, перед от'ездом в Россию, он прочел Олеария. И когда он в'ехал в Россию его поразило сходство – и с теми: описаниями, – что есть у Олеария, что сделаны триста лет назад, – и с Азией. На вокзале в Москве ему прочли об'явление: – "Остерегайтесь воров". Кругом галдела толпа ненормальных людей, никто не шел, но все бежали. У мистера Смита вырезали бумажник (через неделю вор почтительнейше прислал документы). Костюмы мужчин и женщин были почти неотличимы, особенно когда мужчины подпоясывали пальто веревками, а женщины были в картузах, кожаных куртках и сапогах, и в мужских брезентовых пальто; несколько женщин, из внутренней охраны, были с винтовками и в солдатских штанах; все же мужчин в юбках не было. Сейчас же за вокзалом, где толпились и ругались друг с другом кули, извозчики и ломовики, – был поистине азиатский базар: на столиках, на повозках, в палатках торговали жареной колбасой из конского мяса, кипели самовары и кофейники, жарились блины; тут же продавалась и мука в мешках, и куски ситца, и мыло, и сломанный велосипед; мальчишки сновали с пачками папирос и спичек; за столиками в ряд стояли стулья, на стульях сидели мужчины и цирюльники брили им усы и бороды, – когда стулья пустели, цирюльники зазывали желающих бриться специальными окриками; и, как во всех азиатских городах, – стоило одному провопить громче, чем вопила вся толпа, или неподвижно уставиться взором в небо, – как около него возникала толпа, сначала мальчишек, потом женщин и наконец мужчин: но тогда приходили мужчинообразные женщины или женообразные мужчины и начинался митинг, где обсуждался Карл Маркс. – Мистеру Смиту тогда на вокзале не сразу подали автомобиль, – мимо него на носилках пронесли несколько десятков мертвецов, умерших от голода, тифов и убитых, снятых с поездов, найденных на складах, в цейхгаузах, в бараках. Потом автомобиль повез мистера Смита по истинно-азиатским улицам Москвы с несуразными палатками на углах и с коврами плакатов на стенах, по кривым переулкам и тупикам, со сбитыми мостовыми и тротуарами, с кривыми подворотнями, с пустырями, заросшими деревьями; со дворов веяло запахом человеческого навоза. Затем за пустынными площадями – стал Кремль, единственный в мире по красоте. По площади у театров солдаты вели русских священников, платье русских священников в неприкосновенности сохранилось от древних веков, и цирюльники убирали шевелюры священников так, чтобы они походили на бога-отца, изображаемого на русских иконах, или на Иисуса Христа. У древнейшей русской святыни, у иконы Иверской божьей матери, несмотря на революцию, толпились оборванцы, а напротив, на стене красного здания было намалевано: