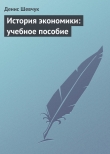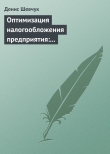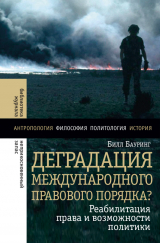
Текст книги "Деградация международного правового порядка? Реабилитация права и возможность политики"
Автор книги: Билл Бауринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Встречаются авторы, вроде Кристофера Куэйе, которые игнорируют роль СССР в продвижении юридического оформления права на самоопределение или поддержке национально-освободительных движений169169
Quaye (1991).
[Закрыть]. Но вот Галия Голан, хотя, по-видимому, и не представляла значение международного права, писала в контексте национально-освободительных движений, что «Советы предпочитали термин „самоопределение“ [вместо „независимости“] в качестве общей, всеохватывающей цели»170170
Golan (1988) p. 136.
[Закрыть]. Ее книга позволяет обратить внимание на огромные ресурсы, вложенные СССР в поддержку всевозможных национально-освободительных движений в третьем мире. В составленных ею таблицах представлены 43 движения в 26 странах и 13 инструментов «советской деятельности»171171
Golan (1988) pp. 262–267.
[Закрыть]. Роджер Канет отметил, что «советская торговля с развивающимися странами выросла более чем в одиннадцать раз с 1955 г. до 1970 г.». В 1970 г. она увеличилась еще на 15,7%172172
Kanet (1974) p. 1.
[Закрыть]. Кроме того, Бхабани Сен Гупта указал, что, «культивируя дружественные жизнеспособные силы, Советский Союз настойчиво пытался удовлетворить некоторые видимые потребности властных элит стран третьего мира. В Южной Азии он выступил в поддержку программ индустриализации в Индии, для которых индийцы не могли получить ресурсы ни внутри страны, ни от западных стран…»173173
Gupta (1974) p. 123.
[Закрыть].
Я бы возразил этим авторам, что вовсе не в результате советской пропаганды, а по логике нового международного права, развитой усилиями СССР и его союзников, народ, имеющий право на самоопределение и сталкивающийся с агрессивными попытками отрицать это право, получил право на самозащиту по статье 51 Устава и должен был во всех отношениях считаться субъектом международного права. Так, Португалия в то время вела войну против народов Анголы и Мозамбика; эти народы были поэтому жертвами агрессии и пользовались правом на самозащиту, а третьи государства обладали правом и долгом прийти им на помощь174174
Блищенко (1968) с. 76–77.
[Закрыть]. Г. И. Тункин годом ранее в более официальной статье, защищая спорное понятие «пролетарского интернационализма», также связал «борьбу за мир во всем мире и безопасность» с «борьбой за свободу и независимость народов», сославшись именно на Резолюцию 1514 (XV)175175
Тункин (1967) с. 144–146.
[Закрыть].
ВЬЕТНАМ И «ПРАЖСКАЯ ВЕСНА»: ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В САМООПРЕДЕЛЕНИИ
1968‐й был не только годом советского вторжения в Чехословакию, но также и решающим моментом в войне США во Вьетнаме. Вторжение в Чехословакию велось на фоне становления нового «социалистического международного права», с новым подходом к традиционному понятию суверенитета. Г. И. Тункин опубликовал переработанное второе издание своего учебника по международному праву176176
Тункин (1970).
[Закрыть]. По его словам, комментаторам в Соединенных Штатах казалось, что новая советская позиция может быть возведена к выводу Пашуканиса 1920‐х, что Советский Союз может использовать и действительно использует общепринятые нормы внутреннего и международного права как в управлении государственными делами, так и осуществляя взаимодействие с иностранными государствами. Посредством этой практики она придала буржуазным нормам новое социалистическое содержание177177
Hazard (1971) p. 143.
[Закрыть].
Комментируя чехословацкие события, Тункин заявил, что они были логическим выражением концепции, уже хорошо разработанной и опробованной в Венгрии в 1956 г. Это была форма законного предотвращения вторжения влияний капитализма на социалистическое государство178178
Тункин (1970а) с. 493, цит. в: Hazard (1971) p. 145.
[Закрыть]. Международно-правовая база обеспечивалась анализом концепции суверенитета. Тункин заявил, что как общее, так и социалистическое международное право уважает концепцию «суверенитета», но заключил, что уважение это не совпадает в двух системах179179
Тункин (1970) с. 495.
[Закрыть]. Социалистические государства будут продолжать настаивать на уважении этого принципа в том виде, в каком он был разработан в общем международном праве, когда речь идет об отношениях между ними и капиталистическими государствами, чтобы препятствовать капиталистическим государствам вмешиваться во внутренние дела социалистических государств, но, когда речь идет о взаимодействии социалистических государств, концепция суверенитета развивается в концептуальных рамках «пролетарского интернационализма». Его переводчик, Уильям Батлер, сделал такой комментарий: «Советское вторжение в Чехословакию явно было трудным моментом для его подхода к международному праву, и кажется, справедливо или нет, что он относился к „социалистическому международному праву“ менее чем восторженно»180180
Butler (2002) p. 394.
[Закрыть].
Аргументы Тункина следует противопоставить тому, что смог написать в том же году американский ученый Алвин Фриман:
Фриман осудил то, что он считал «политической догмой, облаченной в фальшивое юридическое убранство», а именно официальную советскую доктрину «мирного сосуществования». Он сослался, как и многие американские ученые того периода и как президент Кеннеди в своих выступлениях после инаугурации, на якобы существовавшее обращение Хрущева к партийной аудитории 6 января 1961 г.182182
Цит. в: American Bar Association (1964) Peaceful Coexistence: A Communist Blueprint for Victory, 14.
[Закрыть] Тот утверждал, что «имеет место величайший подъем антиимпериалистических, национально-освободительных революций»183183
Хрущев (1961) с. 6.
[Закрыть], и оговаривал, что «коммунисты целиком и полностью поддерживают такие справедливые войны и идут в первых рядах народов, ведущих освободительную борьбу»184184
Хрущев (1961) с. 20.
[Закрыть].
Воздействие слов Хрущева чувствовалось в самих США и в их последующей политике:
Речь, опубликованная в советской прессе всего за два дня до того, как новоизбранный президент Джон Кеннеди принес присягу, оказала глубокое впечатление на новую администрацию, которая расценила ее как предзнаменование грядущих войн. Кеннеди и его советники пришли к выводу, что холодная война вступает в новую фазу, которая будет проходить в «третьем мире» и характеризоваться партизанскими войнами. Соответственно, они стремились повысить способность страны вести борьбу с повстанцами, значительно увеличив численность армейского спецназа, «зеленых беретов». Перед убийством в Далласе в 1963 г. Кеннеди отправил более 16 000 из них в Южный Вьетнам для участия именно в таком конфликте. Война за «третий мир» и новая фаза холодной войны начались всерьез185185
Speed (2005).
[Закрыть].
Эта речь вполне может быть недостоверной; у меня не получилось найти точную ссылку. Но есть все основания полагать, что ее воздействие было именно таким, как описано. Она подействовала и на исследователей также. С точки зрения Фримана, в то время как в 1968 г. возможно было договориться о взаимоприемлемых принципах, прогресс в международном праве был невозможен до тех пор, пока «Советский Союз не будет готов отказаться от своей мессианской, навязчивой поддержки доктрины мировой революции»186186
Freeman (1968) p. 722.
[Закрыть]. Фриман, конечно, писал в разгар Вьетнамской войны: он выражает возмущение тем, что срежиссированная СССР блокировка общественного мнения «фактически наложила вето на применение Соединенными Штатами слезоточивого газа в случаях, когда это было в интересах гуманного обращения с гражданским населением»187187
Freeman (1968) p. 720.
[Закрыть].
Ведущие советские ученые в конечном счете должны были отказаться как от позитивизма, так и от революционной составляющей самоопределения. Блищенко, писавший в 1991 г., незадолго до распада СССР, и использовавший новый язык «перестройки», «общечеловеческих ценностей» и «общего европейского дома», также предлагал «пересмотреть принятую нами периодизацию современной истории международного права и вести отсчет его становления не с Октября 1917 г., как это было ранее, а с Французской буржуазной революции, впервые выдвинувшей такие общепризнанные нормы и принципы международного права, как право народов на самоопределение, права человека, территориальное разграничение»188188
Блищенко (1991) с. 135–136.
[Закрыть].
Однако принцип, а затем право самоопределения играли, на мой взгляд, гораздо более значительную роль, как в своем практическом влиянии на международный порядок, так и в качестве «отвратительного Другого» советского позитивизма в международном праве.
Мьевиль совершенно упускает из виду этот парадоксальный, диалектический аспект советского международного права. И таким образом, надо сказать, он занимает свое место в сложившейся традиции критики «социалистического права». Мне кажется, что требуется радикальная переработка вклада Пашуканиса, чтобы удовлетворительно объяснить роль права в мире, в котором капитализм – как он и должен, и как это предсказывал Маркс – распространился повсеместно. Турбулентность росла пропорционально взаимозависимости. Иракская авантюра – убедительный пример не всемогущества американской власти, а ее радикальной ограниченности и неукротимости человеческого духа.
Что Мьевиль вполне правильно берет у Пашуканиса – это то, что он называет «материализмом», то есть признание решающего значения экономических и политических исследований для анализа развития права, при котором сохраняется память о реальном существовании права и его относительной автономии как постоянного, но бесконечно изменяющегося аспекта человеческого существования – подобно религии, с которой как человеческим конструктом у него так много общего.
Право народов на самоопределение в международном праве получило статус права в контексте деколонизации и – совершенно парадоксальной и лицемерной – советской поддержки как принципа, так и национально-освободительных движений. Это закон, настоящий столп международного верховенства права.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ – И ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
Здесь я хотел бы предложить альтернативное прочтение безжалостно пессимистической трактовки Чайна Мьевилем послевоенных движений за деколонизацию и «права народов», особенно право на самоопределение и право на развитие – Новый международный экономический порядок, о котором он упоминает мимоходом.
Здесь можно привести по-настоящему диалектический довод. Нет никаких сомнений в том, что движениям за колониальную свободу и деколонизацию, как было показано выше, решительно противостояли все империалистические державы. В каждом случае – Франция во Вьетнаме и Алжире, Британия в Кении и Малайзии, США доныне в Пуэрто-Рико, Португалия в Мозамбике и Анголе, южноафриканский и израильский опыт – реакция империализма была свирепой и кровавой. Недостаточно отметить, что некоторые из них сами стали мелкими империализмами или во многом просто служили интересам бывшей колониальной державы.
Для меня жизненно важно отметить, что требование самоопределения стало жизненно важной частью внешней легитимации и идеологического самоутверждения этих движений. Парадоксальным – и диалектическим – образом СССР, несмотря на абсолютно неестественное искажение его подхода к международному праву, как это можно видеть у Вышинского189189
Vyshinsky (1979).
[Закрыть] и Тункина190190
Tunkin (1974).
[Закрыть], столкнулся с необходимостью оказывать весьма значительную материальную поддержку борьбе за самоопределение, несмотря на то что это было не только чрезвычайно дорого, но и часто противоречило его собственным геополитическим интересам. Я говорю о диалектичности в следующем смысле: содержание предлагаемой нормы часто вступало в резкий конфликт с ее правовой формой, и при этом содержание наполнялось новым значением, со временем трансформируя и форму.
В каждом случае процесс был не идеальным – это не было работой профессоров, – но вполне материальным. Это то, что Патрисия Уильямс в «Алхимии расы и прав» называет ниспровержением и присвоением буржуазных правовых норм – действием алхимии191191
Williams (1991).
[Закрыть]. Таким образом, сама Организация Объединенных Наций была преобразована, но не в отношении эффективности или абсолютной независимости, а в отношении уникальной возможности, которую она дает менее могущественным государствам – и международному гражданскому обществу – собираться и говорить.
ГЛАВА 2. ДЕГРАДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА?
ВВЕДЕНИЕ
В этой главе разбирается недавняя предыстория нынешнего кризиса международного права, а также описывается способ выхода из этого тупика.
Несколько лет назад Тони Карти писал о «Разложении международного права»192192
Carty (1986).
[Закрыть]. В провидческом отрывке он утверждал:
Официальная позиция неизбежно ограничивается односторонними утверждениями правового принципа, к которому [правительство] прибегает, равно как и ко многим «не правовым» аргументам, обращаясь к внутренней аудитории или к конкретным союзным силам. Попытки «урезонить» оппонента исключительно редки. Правовая доктрина пытается продвинуть дискурс именно в этом направлении. Ей нечего терять, кроме своей порядочности193193
Carty (1986) p. 115.
[Закрыть].
В 2002 г., после американско-британского ответа на события 11 сентября, Дэвид Чандлер провозгласил уже «деградацию» международного права. Теперь, после вторжения в Ирак и его оккупации с 2003 г. по настоящее время, трудно спорить с его выводом: «Международное право больше не воспринимается как законное ограничение на применение силы западными державами, притом что принудительное вмешательство западных держав в дела других государств все более легитимизируется посредством „международного правосудия“… Разрыв между „правосудием“ и „законностью“ привел к деградации международного права, а не к его развитию»194194
Chandler (2002) p. 158.
[Закрыть]. Этому утверждению близка точка зрения Ноэль Кениве, представленная в ее работе о том, действительно ли международное право переменилось после 11 сентября195195
Quenivet (2005).
[Закрыть]. Ее заключение сурово. Основным следствием событий 11 сентября стала «значительно бóльшая допустимость применения военной силы в ответ на терроризм… Степень, в которой некоторые версии доктрины „справедливой войны“ попали в зависимость от такого подхода, создает определенные удобства. […Но,] Как отметила Делькур196196
Delcourt (2002) p. 214–215.
[Закрыть], происходящее оказывается прежде всего признаком „вырождения международного права и отмирания системы коллективной безопасности“, что главным образом вызвано появлением „гегемона“»197197
Quenivet (2005) p. 577.
[Закрыть].
В этой главе я попытаюсь показать, что случилось с международным правом, и понять, можно ли вновь привести право и власть к отношениям, в которых будет место для правосудия. Я говорю «вновь», ибо настаиваю, что развитие международного права во время холодной войны происходило на основаниях совершенно демократических, прогрессивных и гуманных. Этот тезис я вывожу в этой книге под именем «революционный консерватизм».
Настоящую главу я начинаю с дьявольской метафоры, соотносящейся с отсылкой к капиталу во введении – то была жуткая прелюдия к последующему. Хотя эта глава представлена трагедией в трех актах – Ирак (с 1991 г.), Сербия (с 1999 г.) и Афганистан (началась в 2001 г. и не завершена на момент написания книги), – моя отправная точка – 1986 г.; свершившийся тогда акт мести, оказавшийся леденящим душу пророчеством, мог заставить нас поверить, что история – просто порочный круг. Следует также отметить, что ни одна из трех описанных мною катастроф не закончилась. Каждая из них продолжает мстить, по крайней мере отчасти это связано с действием закона непреднамеренных последствий; закон, который с особо жестоким цинизмом действует в отношении Соединенных Штатов. Это особенно верно в случае кампании в Ираке, начатой в марте 2003 г.
Еще один контрапункт задается ироническим аккомпанементом самого солнечного оптимиста, нормативного либерала par excellence, истинного адепта легитимности норм и правил международного права Томаса Франка198198
Franck and Patel (1991); Franck (1999); Franck (2001).
[Закрыть].
Эта глава посвящена главным образом научным трудам, касающимся трех вышеназванных событий. Я имею в виду откровенную критику, которую дает Хилари Чарльзуорт развитию международного правоведения, исследуя его «кризисы»199199
Charlesworth (2002).
[Закрыть]; здесь я должен признать себя виноватым. Однако сама Чарльзуорт предлагает следующее: «Один из путей продвижения вперед – переориентация международного права на проблемы структурного правосудия, лежащего в основе повседневной жизни. Как может выглядеть международное право повседневности?»200200
Charlesworth (2002) p. 391.
[Закрыть] Одна из целей настоящего анализа будет состоять в том, чтобы попытаться показать, как международные права человека и международное право, включающее в себя права человека, могут быть защищены, если они понимаются не как дискурс, в котором «упадочное видение социального мира» служит «поддержанию веры в себя правящего класса»201201
Chandler (2002) p. 235, цитируя K. Malik, The Meaning of Race: Race, History and Culture in Western Society (London: Macmillan, 1996) p. 105.
[Закрыть], но как продукт и катализатор реальной борьбы. Это и есть тот содержательный взгляд на права человека, о котором я буду говорить далее в этой книге.
Не в последнюю очередь эта глава стремится подкрепить вывод Майкла Байерса, который в 2002 г. дал оценку предыдущему десятилетию насильственных мер против Ирака: «Хотя право неизбежно является результатом и отражением политики, оно, однако, сохраняет специфику и сопротивляется краткосрочным переменам, что позволяет ему сдерживать внезапные изменения в относительной мощи и внезапные изменения в политике, обусловленные последовательной эволюцией восприятия возможностей и собственных интересов»202202
Byers (2002) p. 35.
[Закрыть]. Это особенно верно в случае, когда право является результатом и отражением не только силы, но и борьбы и сопротивления: возможно, именно так само право сможет оказывать сопротивление.
ВАМПИРЫ
Международное право не просто деградировало, оно было нарушено, причем нарушено, судя по всему, при его полном энтузиазма участии. Три примера применения вооруженной силы – против Ирака, Сербии и, наконец, Афганистана – выглядят тремя актами трагедии жестокого обмана в отношениях между правом и властью, которые могут быть уподоблены макабрическим отношениям вампира и его невесты. Эти три стадии могут быть описаны следующим образом. Первая – консумация (доказательство брачных отношений), когда право и власть, освобожденные к концу холодной войны, казалось, были готовы к долгожданному счастливому союзу; вторая – совращение, когда власть стремилась овладеть средствами формирования права, т. е. международным обычаем; и третья – отвержение, когда власть, завладев правом и обчистив его, развернулась и ушла прочь.
Антонио Кассезе в своем первом замечании относительно американского ответа на 11 сентября указал еще на одно свойство вампиров – воспроизводиться посредством ядовитого укуса. «Итак, реакция на ужасную трагедию 11 сентября может послужить приемлемым правовым изменениям в международном сообществе только в случае принятия разумных мер, насколько это возможно на коллективной основе, которые противоречат общепринятым принципам этого сообщества. В противном случае будет открыта дорога установлению той анархии в международном сообществе, к которой так рьяно стремятся террористы»203203
Cassese A. Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law // European Journal of International Law. 2001. Vol. 12. No 5. Р. 1001.
[Закрыть]. То есть, выражаясь более прямо, терроризм породил терроризм; оказалось, что его жертва, его собственный заклятый враг, слишком охотно повторяет цикл смерти и разрушения.
НЕМНОГО «СТАРИННОГО» МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ
По одному вопросу эта глава занимает решительно позитивистскую, исторически укорененную позицию – революционный консерватизм. Я имею в виду простые слова Устава ООН, взятые вместе с тяжело доставшейся государственной практикой и opinio juris относительно применения силы, «неотъемлемым» правом на самозащиту и в особенности доктриной «упреждающей» самообороны, ведущей на скользкую дорожку204204
В первом издании своего «Международного права» (International Law. Oxford: Oxford University Press, 2001) Антонио Кассезе разбирает практику и opinio juris и заключает: «В случае упреждающей самообороны более разумно рассматривать такие действия как запрещенные законом, притом что общеизвестно, что могут быть случаи, когда нарушение запрета может быть оправдано на моральном и политическом основании и сообщество в конечном счете смирится с ним или вынесет снисходительный приговор» (p. 310–311). Во втором издании (2005) это на с. 362.
[Закрыть].
С 1945 г. однозначным принципом международного права было, что Организация Объединенных Наций обладает, за одним строго оговоренным исключением, монополией на применение силы в международных отношениях. Он был закреплен в статье 2.4 Устава ООН, которая запрещает «угрозу силой или ее применение как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций».
Все члены ООН строго связаны этой статьей, ибо Устав ООН – это обязательный договор, а сама ООН была основана для того, чтобы предотвратить повторения ужасов Второй мировой войны.
Только Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, действуя во исполнение главы VII Устава, имеет право «предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности» (статья 42). Совет Безопасности, как в случае Войны в Заливе, может делегировать право действовать подобным образом государствам или группам государств. Но он должен сделать это абсолютно прозрачно, оставаясь контролирующей инстанцией.
Единственное исключение из этого принципа содержится в статье 51 Устава ООН: право на самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации. Обычное международное право, значительно более старое, нежели Устав ООН205205
См.: Caroline case, 1837: 29 British and Foreign State Papers 1137–38, and 30 British and Foreign State Papers 195–6.
[Закрыть], говорит, что самооборона дает право только на меры, пропорциональные вооруженному нападению и необходимые для ответа на него. Этот принцип и статус доктрины самообороны как обычного права, независимого от Устава ООН, были подтверждены Международным судом в деле «Никарагуа против США» в 1986 г.206206
Nicaragua Case (1986) ICJ Reports 14. См. также ответ Великобритании на вторжение в 1982 г. на Фолклендские (Мальдивские) острова как необходимый и пропорциональный акт самообороны – Byers (2002a) p. 406.
[Закрыть]
Кроме того, статья 51 также гласит, что самооборона может осуществляться только «до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности».
Притом что в принципе общеизвестным является факт, что Совет Безопасности, его состав и функции нуждаются в демократической реформе, а Международный суд должен иметь возможность пересматривать решения Совета касательно определения фактов угрозы или нарушения международного мира и безопасности, сам Совет Безопасности также нуждается в защите. Говоря словами профессора Куигли, он рискует стать «беспомощным заложником»207207
Quigley (2000).
[Закрыть]. Куигли отмечает, приводя при этом важные компрометирующие доказательства:
Возникли четыре типа ситуаций, отражающих неспособность Совета Безопасности должным образом выполнять свои функции – прежде всего, в результате господства Соединенных Штатов. Во-первых, в ситуациях «угрозы миру» Соединенные Штаты докладывали о сомнительных фактах прежде, чем это делал Совет Безопасности, и Совет действовал так, как будто эти факты верны, не проводя собственного расследования. Во-вторых, несколько раз Соединенные Штаты действовали якобы на основе предоставленных Советом Безопасности полномочий, но на самом деле без каких-либо фактически принятых решений на этот счет. В-третьих, Соединенные Штаты в ряде случаев убеждали Совет Безопасности уполномочить их предпринять военные действия в одностороннем порядке, а не под контролем Совета. В-четвертых, Соединенные Штаты при помощи своего права вето препятствовали Совету Безопасности в проведении работы по наиболее длительному территориальному спору в истории ООН, то есть спору между Израилем и Палестиной208208
Quigley (2000) p. 130.
[Закрыть].
Слова профессора Куигли были пророческими; израильско-палестинский конфликт был неизбежным основанием, играющим роль и причины, и следствия, причем и на уровне пропаганды, и в действительности для событий 11 сентября и войны в Афганистане.
Тем не менее, оглядываясь назад, я склонен утверждать, что система ООН, являясь результатом компромисса между «первым» и «вторым» миром, капиталистической и коммунистической системами, приобрела свои важнейшие концепции и юридическое содержание через процесс деколонизации. Не случайно принципы государственного суверенитета и невмешательства, проведенные в жизнь с трудом завоеванным юридическим правом народов на самоопределение, стали главными источниками законности для Организации Объединенных Наций как конечная цель устремлений новых государств и стремящихся к независимости народов.
НАЧАЛО ПОРОЧНОГО КРУГА – БОМБАРДИРОВКА ЛИВИИ
Конец 1980‐х стал поворотным моментом в судьбе не только (теперь уже бывшего) СССР, но и международного права как потенциального средства защиты «слабых» государств от «сильных». В 1986 г. Соединенные Штаты проиграли в Международном суде дело, возбужденное против них Никарагуа209209
Nicaragua Case (1986) ICJ Reports 14.
[Закрыть]. А 15 апреля 1986 г. Соединенные Штаты атаковали пять целей на ливийской территории, запросив и получив согласие Маргарет Тэтчер на использование Великобритании как транзитного пункта для своих бомбардировщиков. Стоит заметить (не только сообразно целям настоящей главы), что события 15 апреля 1986 г. служат страшным предвестником того, что впоследствии произошло 11 сентября 2001 г. Как было признано еще тогда, количество погибших мирных жителей Триполи и Бенгази, если соотнести его с размерами крошечного ливийского населения, было сопоставимо с по меньшей мере десятками тысяч невинных жертв от ударов по Нью-Йорку и Вашингтону. Ни международное право, ни правосудие не могут признать правомерным воздаяние по принципу «око за око», насилие в ответ на насилие. Но действия Соединенных Штатов в апреле 1986 г. были по меньшей мере ужасным предвестием, а возможно, и одной из возможных причин событий 11 сентября210210
Нелишне отметить, что Совет Безопасности ООН осудил нападение как нарушение Устава ООН. Голоса разделились в соотношении 9–5–1 (США, Великобритания, Франция, Австралия и Дания голосовали против, а Венесуэла воздержалась).
[Закрыть].
Однако в данном разделе нам надо вспомнить написанные вскоре после этого пророческие слова профессора Поста211211
Paust (1986).
[Закрыть]. Сразу нужно уточнить, что Пост вовсе не стремился осуждать Соединенные Штаты. В его выводе по сути содержалось предчувствие Косово и Афганистана: «Если бы доминирующая государственная система не признала применение силы допустимым при разумной необходимости защиты фундаментальных прав человека, то, конечно же, такое отрицание с неизбежностью продемонстрировало бы собственную незаконность». На первый взгляд это, конечно, софизм, демонстрирующий отсутствие логической связи, но мы это пропустим. Более интересны траектория рассуждения Поста и предлагаемое им описание железной последовательности политики США в отношении международного права.
Пост начинает с ныне забытой «доктрины Шульца», изложенной 15 января 1986 г., непосредственно перед бомбардировкой Ливии. Джордж Шульц, бывший в тот момент госсекретарем США, заявил в своей речи в Университете национальной обороны: «Заблуждением будет утверждать, что международное право запрещает нам захватывать террористов в международных водах или воздушном пространстве, нападать на них на территории других государств даже с целью спасения заложников или применять силу против государств, которые поддерживают, обучают и укрывают террористов или партизан». Он также добавил: «Нация, подвергшаяся нападению террористов, когда у нее нет других средств, имеет право применять силу превентивно для предупреждения будущих нападений, для захвата террористов или спасения своих граждан»212212
Выступление перепечатано в: 25 International Legal Materials 204 (January 1986).
[Закрыть].
Пост противопоставляет это утверждение почти единодушному (воздержались только США) осуждению Советом Безопасности ООН силовой операции Израиля против Организации освобождения Палестины на территории Туниса в 1985 г. Совет Безопасности осудил это действие как «скандальное нарушение Устава Организации Объединенных Наций, международного права и норм поведения»213213
UN Doc S/RES/573 (4 October 1985), голосование 14–0–1, также 24 International Legal Materials 1740–41 (November 1986).
[Закрыть]. При этом, объясняя позицию США, глава американской делегации Вернон Уолтерс принес правительству Туниса «искренние соболезнования в связи с гибелью его граждан»214214
US Mission to the UN Press Release No. 106 (85), 4 October 1985.
[Закрыть].
Пост написал следующее: «Непременно сталкиваешься с рядом вопросов: допускает ли международное право нападение на террористов на территории другой страны без согласия последней? Действительно, допустимо ли нападать на государства, которые поддерживают, обучают или укрывают террористов?»215215
Paust (1986) p. 714.
[Закрыть]
Изучив Устав ООН, Декларацию о принципах международного права 1970 г. и множество авторитетных суждений широкого круга специалистов – целых две страницы сносок, – порицающих как упреждающие, так и ответные репрессивные акции, Пост заключает: «Осуществление „доктрины Шульца“ через упреждающее или ответное применение силы вводит Соединенные Штаты в противоречие с международным правом и должно быть отвергнуто»216216
Paust (1986) p. 719.
[Закрыть].
При этом Пост явно не стремился занять позицию, которая не давала бы Соединенным Штатам возможности отвечать на террористическую угрозу. Поэтому он отмечал, что «может возникнуть ситуация, когда применение силы есть разумная необходимость для обеспечения полного соблюдения целей Устава [ООН]», в случае если механизм Организации Объединенных Наций не функционирует217217
Paust (1986) p. 721.
[Закрыть]. Однако он добавил, что «[такие] обстоятельства должны быть непреодолимы, а фактическое применение силы должно находиться в рамках разумной необходимости, быть пропорциональным и никаким образом не должно предполагать нападение на недопустимые цели – отдельных лиц или объекты»218218
Paust (1986) p. 722, также цитируя: Paust (1983) pp. 307, 310.
[Закрыть].
Я утверждаю, что закон о самообороне является гораздо более ограничивающим. Собственно, фокусом моего анализа будут юридические обоснования, если только они вообще предполагались, предъявленные США и Великобританией для их действий против Ирака, Сербии и Афганистана. Но что же предлагалось в случае Ливии? Пост указывает219219
Paust (1986) pp. 729–730.
[Закрыть], что вскоре после налета США дали довольно «путаные» – это еще мягко сказано – объяснения, ссылаясь на ряд дичайшим образом различающихся оправданий нападения. Во-первых, утверждалось, что сила была применена как ответная мера или возмездие за предшествующий – совершенный десятью днями ранее – террористический акт в Берлине (повлекший смерть американского служащего при взрыве в ночном клубе)220220
См.: “US Calls Libya Raid a Success” New York Times 16 April 1986.
[Закрыть]. Во-вторых, применение силы было «главным образом сигналом полковнику Каддафи прекратить террористические акты»221221
См.: “US Aides Deny Attack Is Start of an Escalation” New York Times 16 April 1986; и Ambassador Vernon Walters, statement to the UN Security Council on 15 April 1986, «чтобы сдержать будущие атаки террористов», перепечатано в (1986) 80 American Journal of International Law p. 633.
[Закрыть]. В-третьих, США намеревались запугать элитную ливийскую гвардию, на которую опирался Каддафи222222
См. “Chose Targets to Fuel Coup Against Kadafi, Schultz Says” New York Times 16 April 1986.
[Закрыть]. В-четвертых, они полагали, что осуществляли акт упреждающей самообороны223223
Ronald Reagan “We Have Done What We Had to Do” Washington Post 15 April 1986; также юрисконсульт Абрахам Софейр свидетельствовал перед подкомитетом Палаты, что американская «военная акция самообороны… дабы упредить и удержать» Ливию и «нанести военный удар… на ее собственной территории, подпадает под конкретные условия» резолюции о военных полномочиях: (1986) 80 American Journal of International Law 636. Софейр защищал конституционность действий, предпринятых против Ливии на двух основаниях: 1) полномочия президента применять силу для самообороны; и 2) неявное одобрение Конгрессом через ассигнования.
[Закрыть]. В-пятых, эта акция подавалась как мера самообороны в ответ на уже совершенные нападения на граждан Соединенных Штатов и американские посольства224224
“US Defends Raids Before UN Body” New York Times 16 April 1986; and statements of Ambassadors Okun and Walters before the UN Security Council on April 14–15 1986.
[Закрыть]. Пост разбил каждый из этих аргументов. В итоге он дал сдержанное заключение, что действия США были «весьма сомнительными» с точки зрения международного права225225
Paust (1986) p. 732.
[Закрыть].
Эта путаница – или, скорее, высокомерное пренебрежение – в отношении необходимости дать обоснование с позиций международного права удивительно напоминает рассуждения по поводу Афганистана, а позже – Ирака.
ВОЙНА В ЗАЛИВЕ – КОНСУМАЦИЯ
Теперь мы подходим к явному доказательству установления брачного союза – как казалось в то время энтузиастам – между властью и международным правом в 1991 г. Вспомните, что всего три года между налетом на Ливию и падением Берлинской стены в прошло октябре 1989 г. СССР и сам был на краю позорного распада, его идеологические основы полностью прогнили. Кроме того, подготовка к новым событиям на теоретическом уровне действительно была своевременной. В 1990 г. появилась «Власть легитимности в международных отношениях» (The Power of Legitimacy Among Nations)226226
Franck (1990).
[Закрыть] Томаса Франка. Разумеется, не вследствие публикации этой книги 2 августа 1990 г. Ирак вторгся в Кувейт, и – после удивительно долгой паузы – 29 ноября 1990 г. Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 678227227
См.: (1990) 29 International Legal Materials 1565.
[Закрыть]. Эта резолюция, казалось, ознаменовала конец стесненного положения Совета Безопасности – столь характерного для холодной войны. Система, казалось, вот-вот вступит в свои права.