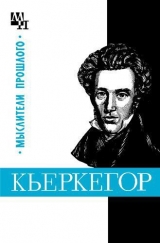
Текст книги "Кьеркегор"
Автор книги: Бернард Быховский
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Законченный фидеизм несовместим с теодицеей. Наш разум не может быть ни прокурором, ни защитником, ни тем более судьей всевышнего. Любовь к богу должна быть безусловной. Никакие страдания, лишения и невзгоды, никакие испытания и муки не могут ее поколебать или умалить. Библейский миф о многострадальном Иове для Кьеркегора – парадигма такой любви. Разве, предоставив человеку свободу выбора (и тем самым выбора своего отношения к страданию), бог не одарил его высшим даром? «Весь вопрос об отношении божественной благодати и всемогущества ко злу может быть, пожалуй... разрешен очень просто: высшее, что вообще может быть сделано для всякого существа,– это сделать его свободным» (7, 239). А коль скоро это существо свободно, т. е. вольно жить как ему самому угодно, никакие претензии к его создателю недопустимы. Ведь само страдание при правильном выборе становится источником добра и блага.
Но последуем дальше по сумрачному лабиринту кьеркегоровских раздумий. Человек, одаренный творцом свободой, сделал свой выбор, злоупотребив свободой. Адам совершил первородный грех, использовав свободу для грехопадения. Этот «скачок» от невинности к греховности тяжким бременем лег на плечи всего человечества. С тех пор все мы грешники. Над всем человеческим родом, над каждым из нас, потомками Адама, тяготеет грех. Почему это так – не доступно рациональному познанию, «никакая наука не может дать объяснения греха» (6, 11 —12, 78). Тем не менее «грех является решающим выражением религиозного существования... решающим исходным пунктом...» (6, 16, I, 262). Всякое существование проходит под знаком вины. Чувство вины, обусловленное греховностью человека, непреходяще, неустранимо, непреодолимо, оно углубляет человеческое страдание. Только с осознанием вины существующий ввергается в подлинное страдание и горечь. Вина, по словам Кьеркегора, есть «решающеевыражение экзистенциального пафоса» (6, 16, II, 235).
Перед кем виновен человек? Против кого он согрешил? Не против других людей. Грех – не антиобщественный проступок, не нарушение норм социального поведения. Человек виновен перед богом. Вкусив запретный плод, Адам использовал дарованную ему свободу для нарушения божественной заповеди. Первородный грех и жертвоприношение Исаака – два полюса религиозной морали: зло и добро. Долг понимается здесь исходя из совершенно иного критерия, чем на этической стадии. Грех – не этическая, а религиозная категория. Единичный противостоит здесь не общему, а абсолютному. Грех определяется не отношением между людьми, каким является этическое отношение, а отношением человека к богу, непричастному к межчеловеческим отношениям. Мы подошли здесь вплотную к уяснению того, что по сути дела является главным, решающим для понимания принципиального отличия религиозной стадии существования, проповедуемой Кьеркегором, от вытесняемой и отвергаемой им этической стадии. С этой точки зрения формула антропологического гуманизма, выдвинутая Фейербахом, согласно которой «человек в своем отношении к другому человеку становится богом», представляется Кьеркегору не чем иным, как «пустой болтовней» (6, 10, 99), а вовсе не религиозной этикой.
Наряду со свободой, страданием, грехом и виной одной из основных экзистенциалистских категорий является страх – это также одна из неотъемлемых всеобщих форм, атрибутов, человеческого существования. Страх находится в нераздельном единстве с грехом, страданием и свободой. Кьеркегор специально оговаривает, что «страх» в его понимании не следует отождествлять с «боязнью». Это не боязнь чего-либо определенного, грозящей человеку опасности. Страх – беспредметное чувство, владеющее человеком, страх перед «ничто», тревога, беспокойство. «Страх – по определению Кьеркегора, – есть отношение свободы к вине» (6, 11—12, 109). Подлинный страх – это страх грешника перед богом. Это не низменное чувство, не животный инстинкт, а признак совершенства человеческой природы: «Тот, кто... научился страшиться по-настоящему, тот научился наивысшему» (6, 11—12, 161). Как и страдание, страх – движущая сила религиозного сознания. Он вытекает из веры и обучает вере. Без страха божьего нет веры, нет религии. «Уничтожьте страшащееся сознание, – говорит Кьеркегор,– и вы можете закрыть церкви и сделать из них танцевальные залы» (6, 4, 221). Поразительно, как совпадает здесь кьеркегоровское понимание психологии религиозного сознания с фейербаховским анализом эмоциональных корней религиозной веры! Поистине, крайности сходятся. Фанатический апологет религии подтверждает здесь диагноз, поставленный атеистом.
Средоточием страха является страх смерти. «Чего больше всего страшится человеческое существо? По всей вероятности, смерти...» (5, Х12, А422). Страх смерти, как тень, сопровождает человека на всем его жизненном пути. Смерть – это не то, чем завершается жизнь, а то, что висит над ним, со дня рождения приговоренным к смерти. Жизнь человеческая – это «жизнь к смерти». «Мне представляется, – гласит запись в „Дневнике“ за 1837 год,– будто я раб на галере, прикованный к смерти; каждый раз, с каждым движением жизни, звенит цепь, и все блекнет перед лицом смерти – и это происходит каждую минуту»(7, 85). Испокон веков страх смерти является излюбленной религиозной темой и влиятельнейшим средством воздействия в устах церковных проповедников. Кьеркегор продолжает эту традицию, стараясь достичь максимального психологического эффекта увещеваниями о том, «что есть смерть и что она есть для живущего, как представление о ней должно преобразовать всю жизнь каждого человека...» (6, 16, I, 159). Все люди смертны, я человек, следовательно, я смертен, неминуемо обречен на смерть – как эхо звучит в его сознании на каждом шагу жизненного пути. Причем смерть для него не отдаленная перспектива. «...В каждое мгновение существует возможность смерти» (6, 16, I, 74). Неминуемость ее сочетается с неопределенностью смертного часа. Она скрывается за каждым углом, непрестанно угрожает своей внезапностью. Это сочетание еще более обостряет страх смерти, делает его постоянным спутником жизни.
Следуя за Кьеркегором, мы подошли к поворотному пункту его пессимистических раздумий. Если жизнь есть не что иное, как страдание, страх, вина, то есть ли в ней смысл? Оправдана ли привязанность к жизни? Не бессмысленно ли человеческое существование? Не является ли все время, проведенное человеком на земле, тратой времени? Ведь время – это «злейший враг человека». Не лучше ли «убить время»? Ведь, кончая самоубийством, «я этим выстрелом убиваю время» (7, 199). Не является ли в конце концов вся жизнь пустой и никчемной «детской игрой?» (6, 11—12, 95). Ответ Кьеркегора на эти вопросы основан не на воле к жизни, не на любви и привязанности к существованию, а на отчуждении от жизни и презрении к существованию. Если жизнь лишена ценностей, то не все ли равно, как жить? С горькой иронией безнадежности Кьеркегор замечает: «Женись, ты об этом пожалеешь; не женись, ты и об этом пожалеешь: женишься ли ты или не женишься, ты пожалеешь в том и другом случае... Повесься, ты пожалеешь об этом; не повесься, ты и об этом пожалеешь, в том и другом случае ты пожалеешь об этом. Таково, милостивые государи, резюме всей жизненной мудрости...» (6, 1, 41—42). «Величие, познание, слава, дружба, наслаждение и добро – все это лишь ветер и дым, а вернее говоря, все это ничто»,– приводит он стихи Пеллисона как эпиграф к первой части «Либо – либо». «Телесное здоровье, непосредственное хорошее самочувствие – гораздо большая опасность, чем богатство, власть, слава» (7, 404).
Отчуждение от земных благ, пренебрежение ко всем конечным, земным интересам – это не безразличие, не равнодушие, а выбор, решение, принятое и проповедуемое Кьеркегором. «Первое истинное выражение отношения к абсолютной цели есть отречение от всего...» (6, 16, II, 111). Монашество, аскетизм для этого недостаточны: решающим является не внешнее проявление, а внутреннее отношение. Слова апостола Иоанна: «Царство мое не от мира сего» – начертаны на экзистенциалистском знамени Кьеркегора (6, 34, 27). «Христианское учение возвещает, что страдание есть благо, что благом является самоотрицание, что отречение от мира есть благо. И в этом нерв этого учения» (5, XV, А666). К вопросу о том, как уживается эта проповедь самоотрицания с кьеркегоровским эгоцентризмом, мы еще вернемся. Как бы то ни было, пафос, вдохновляющий все его отношение к жизни, с предельной выразительностью звучит в словах его последней записи в «Дневнике» (25.IX. 1855): «Назначение этой жизни—довести себя до высшей степени презрения к жизни (tedium vitae)». Таков окончательный приговор, вынесенный Кьеркегором человеческому существованию. Тем не менее отчаяние – не последнее его слово.
Пробираясь на страницах своих сочинений тернистым путем безысходного страдания, страха, грозной свободы, ни в чем не повинной вины и презрения к жизни, Кьеркегор приходит к краю пропасти. Приходит и останавливается перед ней. Нет, не впадать в отчаяние! Не покончить с жизнью. Отчаяние – не только слабость, но и грех. Сама по себе жизнь бесцельна и бессмысленна. «Страдать, переносить страдания, идти к смерти. Но страдание не цель» (6, 16, II, 311). Жизненному страданию следует придать смысл, сделав его средством к цели. Достигнув презрения к жизни, надо жить во искупление вины, обретая в жизни возмездие за грех. Из нужды Кьеркегор делает добродетель. «Христианин не мазохист... поскольку страдание есть средство и трамплин скорее, чем самоцель» (41, 222).
Признавая отчаяние конечным результатом мысли, Кьеркегор противопоставляет мысли веру. Его окончательная альтернатива: либо вера, либо отчаяние. Он отвергает отчаяние как неверие, неверие в спасение. Как и в сфере познания, фидеизм утверждает свои права в сфере морали. Жизнь, полная страдания, приобретает смысл и оправдание как путь к спасению через искупление. Страдание – дорогая цена, за которую всемогущий бог продает человеку грядущее спасение.
Если разум приводит к отчаянию, вера спасает от него – таково основоположение религиозного экзистенциализма. Если разум убеждает в безнадежности, вера дает надежду, служит утешением. Вера – единственное утешение, «единственное средство против слабонервного нетерпения» (6, 36, 190). Эта надежда иррациональна. Она не основана на разумных доводах. Она недоказуема. Надежда у Кьеркегора, сказали бы мы, дочь Веры, а не Софии. В эту надежду надо верить, даже если она безнадежна,– таков очередной парадокс религиозной стадии. «Когда бедный рабочий влюбляется в принцессу и верит в ее любовь к нему, каким будет тогда самый смиренный способ убедиться в этом?» (6, 16, II, 202). Он не может предъявлять никаких претензий. Его согревает его вера.
Надежда на что? На бессмертие души. Жизни как преходящему, временному страданию противостоит вечное блаженство. Человек стоит на перекрестке. Перед ним два пути. Одно из двух: либо временная, земная жизнь, страх и страдание, «либо презрение к земному, жертвенностью и страданием возвещая христианство» (6, 27—29, 166) как путь к потустороннему вечному блаженству. Вера претворяет страдание в подвиг искупления, освобождает от страха смерти. Смерть превращается в избавление, становится надеждой. И если, «по-человечески говоря, смерть есть самое последнее и, по-человечески говоря, надежда есть лишь до тех пор, пока есть жизнь, то, по христианскому пониманию, смерть отнюдь не самое последнее... и, по христианскому пониманию, в смерти бесконечно больше надежды, чем, по-человечески говоря, есть не только в жизни, но в жизни в полном здравии и силе» (цит. по: 42, 66). Так пессимизм «преодолевается» апологией смерти. Страх смерти уступает место ее ожиданию как упоительной надежды, как избавления. «...Смерть есть всеобщее счастье всех людей...» (6, 1, 200). Скачок от морали к религии, проповедуемый Кьеркегором, есть в буквальном смысле слова salto mortale, смертельный прыжок, избавляющий от отчаяния, страха и страдания. Страх смерти устраняется не презрением к смерти, а презрением к жизни, волей к смерти, преклонением перед ней. Таков патологический финал патетического фидеизма.
За этим следует безудержная мистика бессмертия души и загробного блаженства. Но пощадим читателя, ограничившись лишь приведением нескольких его высказываний, говорящих сами за себя и не нуждающихся в комментариях. «...Вполне ли надежно,– задает он вопрос,– что нас ждет вечное блаженство?» Ответ на этот вопрос ставит нас перед «пропастью, через которую рассудок не может перейти...». Но это не меняет дела, «ибо я,– признается Кьеркегор,– вовсе не намеревался доказывать, что есть вечное блаженство...» (6, 16, II, 129—132). Дело в том, что «вопрос о бессмертии по существу своему вовсе не научный вопрос... Объективно вопрос этот вообще не поддается ответу... Бессмертие – самая страстная потребность, в которой заинтересована субъективность, и в этой заинтересованности как раз и состоит доказательство» (6, 16, I, 164). Чем не убедительна такая реклама? Вот где Кьеркегору изменила его прославленная ирония. «...Чисто метафизически ни один человек не бессмертен и нет уверенности в его бессмертии» (6, 11—12, 160). «Эта проблема вовсе не логическая проблема; что общего у логического мышления с ультрапатетическим (вопросом о вечном блаженстве)?» (6, 16, II, 66). А то, что не может быть доказано, не может быть и опровергнуто, не так ли? Но «я, Иоанн Климакус (псевдоним Кьеркегора в „Философских крохах“.– Б. Б.) ...заверяю, что меня ждет высшее блаженство, вечное счастье... И я слышал, что христианство рекомендует себя как условие для достижения этого блаженства!..»
Такова «абсолютно единственная надежда», предлагаемая человеку Кьеркегором, «безнадежная надежда» (см. 6, 11, 69). «...Если к правде святой мир дороги найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!» – могли бы воскликнуть его последователи [11]11
Это «самая ужасная, самая несносная книга из всех когда-либо напечатанных,– писал И. С. Тургенев Полине Виардо (20. VI. 1859) по прочтения „Мыслей“ Паскаля.– Он растаптывает все, что есть дорогого у человека, и бросает вас на землю, в грязь, а затем, чтобы вас утешить, предлагает вам религию, которую разум (разум самого Паскаля) не может не отвергнуть, но которую сердце должно смиренно принять».
Приведенная характеристика в полной мере относится и к кьеркегорианской концепции религиозноэтической стадии.
[Закрыть].
Каково на этой стадии соотношение эгоцентризма, теоцентризма и антропоцентризма? Что является, как спрашивает сам Кьеркегор, «архимедовой точкой» человеческого существования: любовь к себе, к богу или к людям? Ответственность перед кем определяет нравственные оценки и нормы?
Родэ полагает, что «Кьеркегор был индивидуалистом до крайних выводов...» (89, 158). Тильш и Боген не считают его индивидуалистом (см. 67, 6, 160; 38, 375). Сам Кьеркегор делает достаточно заявлений, свидетельствующих о его крайнем индивидуализме. «Если личность,– пишет он,– является абсолютной, то сама она и есть та архимедова точка, с которой можно двигать миром» (6, 2, 287). «Так много говорят о том, что христианство не предполагает ничего человеческого,– читаем мы в его „Дневнике“.– Нечто оно все же явно предполагает, а именно самолюбие...» (7, 122). «Личность – вот решающая христианская категория» (6, 10, 95),– непрестанно повторяет Кьеркегор.
Однако эгоцентризм и крайний индивидуализм «Единичного» Кьеркегора весьма существенно отличается от атеистического эгоцентризма «Единственного» Штирнера. Отличается настолько, что дает повод многим кьеркегороведам говорить о его теоцентризме, несмотря на то что сам Кьеркегор пренебрежительно говорит о «теоцентрическом девятнадцатом столетии» (6, 16, II, 101).
Каково его отношение к достоинству и свободе человека, воспеваемой и всячески превозносимой им человеческой личности? Вопреки тому что человек, как известно, создан по образу и подобию бога, между ними существует абсолютное качественное различие, на которое Кьеркегор обращает внимание при каждом подходящем случае. «Вся путаница новейших времен основана на том факте, что захотели устранить качественную пропасть, разделяющую бога и человека» (7, 285), которые несоизмеримы и несопоставимы. По одну сторону этой пропасти совершенное, всемогущее существо, по другую – «бесконечно малое, исчезающий неприметный атом» (6, 16, II, 336), существо ничтожное, ни на что не способное (см. 6, 16, II, 88).
Как же совместить культ Яс презрением к человеческому ничтожеству? Я, оказывается, обладает достоинством и является самоцелью лишь по милости божьей и в своей преданности всевышнему. Интровертированная, поглощенная собой личность на поверку должна найти себя не в себе, а в боге. Отношение к богу делает человека человеком. Мерой Яесть всегда то, что Яесть перед богом. «Ибо величие человека зависит единственно и исключительно от энергии отношения к богу в нем самом...» (6, 11—12, 113). «Интровертированность (Innerlichkeit), – гласит фундаментальная формула Кьеркегора, – есть отношение личности к себе самому перед богом» (6, 16, II, 144). При этом «отношение личности к вечному определяет, каково его существование, а не наоборот» (6, 16, II, 286). Без своего отношения к богу, без преклонения перед ним, без смирения, покорности ему личность – не личность.
С одной стороны, абстрактная личность, отчужденная от истории, от природы, от общества, с другой – возносящийся над историей, над природой, над обществом бог – таково кьеркегорианское двуединство. Эгоцентризм ли это? Да, «Единичный – вот категория, на которой стоит и с которой падает дело христианства... Единичный один, один во всем мире, один перед богом» (6, 33, 117). Человек, для которого нет ничего, кроме себя и бога, – это человек, для которого нет ничего, кроме себя самого. Он существует для бога, поскольку бог существует для него. «Я избрал Абсолют. А что такое Абсолют? Это я сам в своей вечной ценности» (7, 2, 231). Из-за густой религиозной окраски эгоцентризм не перестает быть тем, что он есть: облаченным в мистику эгоцентризмом. Движущей силой религиозной веры является «бесконечно страстная заинтересованность (личности) в своем вечном блаженстве» (6, 16, I, 49). Кьеркегоровская любовь к богу – не что иное, как маниакальная любовь к самому себе, купленная ценой презрения к жизни и к людям.
Тульструп назвал концепцию Кьеркегора «теантропической» (богочеловеческой) (68, 316). Скорее ее следовало бы назвать «теэготической», поскольку не человечество, а Я, отчужденное от других людей, является для Кьеркегора другим концом оси «Я – бог». Ведь, согласно Кьеркегору, «каждый субъект становится для себя самогокак раз противоположностью чего бы то ни было общего» (6, 16, I, 158). То, что Кьеркегор называет «религиозной этикой», обращая Я лицом к богу, поворачивает его спиной к людям. «Все твои стремления не должны иметь совершенно никакого значения для какого-либо другого человека» (6, 16, I, 127). Ибо «высшее требование христианской этики – жить лицом к лицу с самим собой пред взором бога, никогда не заботясь о других...» (50, 171). Даже некоторых христианских исследователей его учения (Патон, Гарелик) покоробила эгоистичность его «любви к богу» как «несовместимой с христианством» и «настоящей антитезой религии». А не раскрывает ли этот доведенный до крайних пределов фидеизм глубоко скрытую тенденцию, таящуюся в недрах каждой религии? Ведь даже религиозная проповедь любви к ближнему предусматривает любовь к самому себе, замечает по этому поводу Кьеркегор (см. 7, 122).
Но не является ли христианская этика, проповедуемая Кьеркегором, самоопровержением? Не отрицают ли в ней выводы ее собственные посылки? Ведь краеугольным камнем всего этого этического построения была дарованная богом свобода воли, а нравственным критерием – свобода выбора, нравственное самоопределение. Но свобода эта, оказывается, осуществляется под строгим, неослабным надзором, под непрестанным присмотром господа бога. Много ли остается от этого самоопределения, когда «этической категории выбора самого себя... дана религиозная окраска...» (6, 16, I, 262), когда «каждая личность находит собственно и по существу этическое лишь в самом себе, поскольку оно есть ее согласие с богом» (6, 16, I, 145)? «И что такое тогда долг? Долг – это просто выражение воли бога» (6, 4, 64). Не парадоксальна ли свобода человека, определяющая нравственность, если она прямо пропорциональна его зависимости от бога, соответствует воле провидения? Кто же в таком случае является моральным законодателем? Ядля себя, как следовало бы ожидать исходя из посылоккьеркегорианской этики? Ничуть не бывало, утверждают его выводы: «Здесь нет ни одного закона, который я устанавливаю себе как максиму; здесь есть лишь закон, данный мне свыше» (7, 443). В конечном счете Архимедовой точкой, с которой можно перевернуть весь мир, оказывается не Я, а то, что «должно находиться вне мира, вне границ пространства и времени» (8, 1, 21). Вот где парадокс (равнозначный абсурду, по терминологии Кьеркегора, а потому истина) «теоцентрического эгоцентризма»: быть самим собой – значит быть покорным воле божьей, а воля божья именно такова, какой ты ее выбрал по своей воле перед лицом незримого и непознаваемого бога... Таков по сути дела кьеркегорианский «категорический императив».
Учение Кьеркегора представляет собой этический нигилизм. То, что Кьеркегор называет «христианской этикой» [12]12
В отличие от других, низших, религий («религия А») Кьеркегор называет христианство, как высшую религию, «религией Б». Последней соответствует его религиозно-этическое учение.
[Закрыть], на самом деле является антиэтикой, точно так же как его «диалектика», как мы видели, является антидиалектикой.
Создал ли Кьеркегор «совершенно новую этику, определяемую не отношением личности к общей судьбе, а его отношением к парадоксу веры?» (56, 148). Этика есть система норм и оценок человека как общественного существа, а то, что предлагает Кьеркегор, не является этикой. Этическая ступень жизненного пути отрицается им столь же метафизически, абсолютно, как и эстетическая. Если Кант допускает веру в бога во имя морали как практического разума, «парадокс веры» Кьеркегора порывает с этикой, которая, по его словам, «игнорируя грех, становится „совершенно никчемной“ наукой» (6, 4, 112). Его утверждение, будто, «когда мы забываем, что значит религиозно существовать, тогда мы забываем также и то, что значит человечно существовать» (6, 16, I, 244), находится в полном противоречии с действительным содержанием его заповедей. Парадигма Авраама – наглядная иллюстрация господствующей в его учении антитезы религии и морали. Если, как утверждает Кьеркегор, «этическим кульминационным пунктом всего является бессмертие, без чего этическое – лишь нравы и обычаи» (6, 16, I, 166), если человеческая жизнь на земле – только «жизнь рыбы на суше» (57, 120), то вся этическая проблематика теряет всякий смысл и значение. Старания, приложенные Кьеркегором поглотить этику религией, растворить нравственность в безнадежной надежде на вечное блаженство, невольно вскрывают то, что так тщательно скрывает религиозное мировоззрение, выступающее «оплотом морали».
Основная задача всей жизнедеятельности Кьеркегора – апология христианства, как он его понимает. «Без религии, – восклицает он, – не может выдержать никакая эпоха» (6, 36, 5). «Его намерение с начала до конца было религиозным, т. е. рекомендация религиозного как единственного ответа на человеческую ситуацию...» (86, 24). Не религия как мораль, а религия вместо морали – такова сущность того, что он называет религиозноэтической стадией на жизненном пути. Эта стадия претендует на то, чтобы увестичеловека «по ту сторону добра и зла». Куда она его приводитна самом деле, мы увидим в следующей главе.
Обоснованную Юмом в «Диалогах о естественной религии» и направленную против религии мысль о том, что источником веры являются страх и страдание, Кьеркегор использовал для оправдания религии. Он солидаризируется с убеждением Фейербаха, что «христианская религия есть религия страдания» (24, 2, 94). Ссылаясь на «Сущность христианства», он обращает внимание на то, что и такой противник христианства, как Фейербах, «говорит, что религиозное (и прежде всего христианское) существование является непрестанной историей страданий» (6, 15, 490). Но Людвиг Фейербах не был знаком с литературным творчеством Кьеркегора, дающим столь яркое и убедительное подтверждение его анализа эмоциональных корней и психологической природы религиозного сознания. Религиозный фанатизм Кьеркегора с предельной выразительностью демонстрирует психологический механизм религиозной веры, безраздельно овладевшей человеческим умом и чувством. Однако острие эмоционального понимания религии направлено Кьеркегором в сторону, противоположную той, в какую оно направлено Юмом и Фейербахом. По его словам, «Берне, Гейне, Фейербах... обычно очень хорошо разбираются в религии, т. е. со всей определенностью знают, что не хотят с ней иметь ничего общего» (6, 15, 482). Кьеркегор же, всю свою страсть, все литературное мастерство посвятивший доказательству того, что «быть потрясенным... это всеобщая основа всякой религиозности» (6, 36, 129), обращает доводы противников религии в ее защиту. Если человек осужден на страдание, от которого лишь смерть несет избавление, если вся жизнь – беспросветное покаяние и искупление греха, то нет у него другой надежды, иного утешения, кроме неразумной веры в бессмертие души и вечное блаженство. Психология религиозной веры используется для ее апологии. Для этого требуется не только презрение к жизни, но и презрение к разумнойжизни, презрение к разуму, отмежевание, ограждение веры от разума. Вера во что бы то ни стало.
Наркотическая, галлюциногенная функция религиозной веры обнаруживается Кьеркегором с такой непревзойденной образностью, выразительностью и впечатляемостью, как, пожалуй, ни у одного теолога до него. О лучшем последователе, чем Кьеркегор, не мог мечтать даже Тертуллиан.








