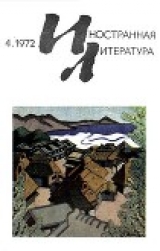
Текст книги "Страстная суббота"
Автор книги: Беппе Фенольо
Жанры:
Повесть
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Но он не остановился. Он всегда торопился вернуться, поставить машину в гараж и бежать в тот переулок, где в окне ждала его девушка. Он думал, что я ничего не знаю о нем и об этой его Ванде.
Зато он остановился около бензоколонки – там, где дорога расширяется, а прибрежные скалы отступают, и я удивился, потому что мы заправились в Л. С. А он снял руку с баранки, облокотился на окошечко и стал внимательно разглядывать эту бензоколонку.
Немного погодя спрашивает:
– Нравится?
– Что? – говорю.
– Бензоколонка.
Я присмотрелся: она и вправду была красивая, похожая на небольшую современную виллу, я так ему и сказал.
Он все смотрел на нее, тогда я и говорю:
– Да ведь ты видел их тысячи, этих бензоколонок.
– Но ни разу такую, как эта.
Он открыл дверцу, спрыгнул, пересек дорогу и направился к колонке. Навстречу ему вышел человек в голубом комбинезоне со множеством «молний»; Этторе завел с ним разговор, а я видел, что чем больше он говорил, тем чаще этот человек оглядывался на свою колонку и смотрел так, будто видел ее в первый раз.
Я тоже вылез из кабины и подошел к ним. Человек в комбинезоне говорил Этторе:
– Посмотрели бы вы на нее вечером, когда горят все неоновые надписи.
Этторе кивал головой, будто сам все больше в чем-то убеждался, потом вытянул шею, точно хотел заглянуть за угол колонки.
– Сзади мойка для машин, – сказал человек в комбинезоне, и они отправились вокруг колонки, а я ждал, когда они вернутся.
Этторе громко вздохнул и спросил:
– Сколько же может стоить такая колонка со всем оборудованием и с неоном?
Человек поднял большой и указательный пальцы, а остальные сжал в кулак. Больше Этторе ничего не спрашивал, мы вернулись в машину, но с места не тронулись. Вместо этого Этторе достал из кармашка на дверце машины карандаш, бумагу и принялся что-то чертить. Я старался заглянуть ему через плечо, а он все время отталкивал меня. Но я все равно рассмотрел, что он рисует бензоколонку, потом насосы, а над ними пишет крупными буквами: «ГАЗОЛИН. БЕНЗИН. МАСЛО».
Наконец мы тронулись, он вел машину, как всегда, молча, а я ощущал какое-то беспокойство, сам не знаю отчего.
Я спросил:
– Собираешься поставить бензоколонку?
– Да, – отвечает он сухо.
– У тебя есть два миллиона?
– Я никогда не сорил тысячными билетами на спортплощадке.
– А где ты ее поставишь?
– Там, у нас. Сначала изучу как следует новую дорогу, по которой ходят грузовики, и тогда сразу куплю участок. Предупреждаю тебя, Пальмо: как только у меня будет бензоколонка, я брошу этот грузовик и ты ищи себе другую работу.
– А к себе ты меня не возьмешь?
Он отрицательно покачал головой.
– Нет. Я возьму отца. Заставлю его продать мастерскую – пусть моет машины.
Я провел рукой по лицу и стал думать. Наконец, как будто придумал:
– Этторе, а если устроить при бензоколонке кафе или бар, как делают американцы, видел в кино?
Он тут же отказался:
– Нет, мне никогда не нравилось кормить и поить людей. Особенно кормить.
– Так этим бы занялся я.
– Не хочу я кухонного чада на своей бензоколонке, – ответил он решительно.
И в третий раз я почувствовал себя, как тогда, когда кончилась война, и потом, когда Бьянко пришлось ехать в санаторий.
IX
Отношения Этторе с семьей Ванды с каждым воскресеньем улучшались, так что однажды, еще до наступления осени, его даже пригласили к обеду. Пока женщины накрывали на стол, Этторе вел разговор с мужчинами, и воспоминание об их кулаках не вызывало в нем прежнего негодования – ему даже казалось, что его отношения с Вандой не представлялись им больше непотребными.
Когда мужчин пригласили к столу, Ванда уже сидела за ним. Мать и сестра заранее привели и усадили ее, словно какого-нибудь инвалида, которому в присутствии нормальных людей лучше прятать нижнюю часть туловища под столом. Она похорошела, лицо у нее стало очень нежным, хотя немного припухло.
Еда была хорошая, но тяжелая, зимняя, а не летняя. Этторе прожевывал каждый кусок в три раза медленнее, чем обычно, все время пил газированную воду и вскоре почувствовал, как холодный пот выступил у него на висках. Правда, ему то и дело задавали вопросы, и это в какой-то мере служило объяснением того, что все блюда он заканчивал последним.
– Вчера я был у Порта П., – сказал Терезио, – и видел твою бензоколонку. Ты здорово гонишь, стены поднялись уже на добрый метр. Вчера там за каменщиками присматривал твой отец.
– Да, потому что я ездил с грузом в С.
– Сколько ты берешь отсюда до С.? – с живым интересом осведомился Франческо.
– Триста лир за центнер груза.
Наконец заговорила Ванда, и только тогда он обратил на нее внимание, – до этого казалось, будто ее и не было. Теперь, когда они впервые взглянули друг на друга и стали разговаривать, родные внимательно наблюдали за ними, словно надеясь понять, как случилось, что их Ванда полюбила Этторе, а он ее.
– Ты все еще работаешь на грузовике? – спросила она очень строго, будто стараясь показать своим, что она ровня ему и он ей не господин.
Ее тон задел его. Он опустил глаза, чтобы скрыть злой огонек, появившийся в них, и ответил:
– Заканчиваю.
Тогда она сказала:
– У меня всегда темнеет в глазах, как подумаю, что ты где-то мчишься по дороге на грузовике. – Но это она сказала уже другим, своим обычным тоном.
– Я бросаю эту работу. Завтра везу груз в последний раз и – конец! – И он потянулся за бутылкой с газировкой.
– Куда ты в этот раз едешь? – спросил Франческо.
– Везу бочки со спиртом на фабрику вермута в Ч.
Отец Ванды ел и пил очень шумно, особенно вино, которое он смаковал, долго причмокивая. Этторе к этому не привык, как остальные, на него это производило неприятное впечатление. А старик к тому же поперхнулся куском и сплюнул на пол, чуть отвернувшись от стола, а потом растер плевок ногой. Этторе невольно поморщился и взглянул на Ванду. Она как будто ждала этого взгляда и, не мигая, смотрела на него, и Этторе показалось, что глаза ее, ставшие меньше от слегка пополневших щек, похожи на глаза отцовской собаки, когда та однажды, испуганная резким движением отца, забилась в угол и подняла вверх лапы, обнажив брюхо.
Этторе опустил глаза, ему неожиданно пришла в голову новая мысль: он спрашивал себя, много ли отцовской крови течет в жилах Ванды, что скрыто в ней самой и что стоит за ней, за женщиной, которая должна стать его женой и которая родит ему детей, одарив их таинственной, отвратительной ему кровью чужих людей. Его сын, сейчас спрятанный под столом, был вторым звеном цепи, первым звеном которой был не только Этторе… «Хочу, чтобы сын все унаследовал от меня, иначе я не признаю его, возненавижу. Он все должен унаследовать от меня». А вслух он сказал Вандиной сестре:
– Будь добра, Маргерита, налей мне еще немного воды.
Отец Ванды шумно отхлебнул вина из стакана и обратился к Этторе:
– Бензоколонка встанет тебе наверняка в кругленькую сумму…
Этторе не дал ему закончить и, перехватив инициативу, обратился как бы ко всей Вандиной семье:
– Знаю, но этот расход должен обернуться доходом. Правда, как подумаю, сколько денег мне пришлось взять в долг – страх берет, но в итоге я на этом выиграю. Если дело у меня пойдет как следует, фирма, у которой я беру бензин, перекупит у меня колонку за хорошую цену, а меня оставит при ней.
Довольный тем, как у него складываются дела, и уверенный в успехе, он открыто посмотрел в лицо старику. Тот сказал:
– Да, конечно, если все пойдет так, как ты говоришь, – ты обеспечен на всю жизнь.
Он и все остальные были тоже очень довольны тем, что за Ванду можно не беспокоиться. И все же он спросил:
– А этот парень, который сейчас работает с тобой, которого вы зовете Пальмо?
– После завтрашней поездки он больше не будет со мной работать. Я его уже предупредил.
Казалось, и этим все остались довольны, Этторе же неожиданно для себя почувствовал прилив симпатии к Пальмо.
Подали следующее блюдо, и он опять не мог угнаться за всеми, хотя жевал изо всех сил: у него будто стоял ком в горле, мешавший ему глотать. В это время за спиной у него оказалась мать Ванды, намеревавшаяся положить ему на тарелку еще кусок мяса.
– Не надо! – чуть не закричал он.
– Тебе не нравится это мясо? Если нравится, возьми еще. Теперь, когда ты уже стал для нас своим, нечего стесняться. – И она подцепила вилкой большой кусок.
Он почувствовал, как его бросило в жар, а на висках выступил холодный пот. Если бы она все-таки положила ему еще мяса, он выругался бы вслух и оттолкнул старуху вместе с ее жарким.
Но тут вмешался Терезио:
– Мама, не заставляйте людей есть насильно! Ведь он не ребенок и, если говорит, что не хочет, значит, сыт. Я знаю, каково оно бывает, когда заставляют есть через силу.
С огорченным видом мать отошла, унося с собой злополучное блюдо, а Этторе посмотрел на Терезио помутившимся взглядом, с трудом удерживая тошноту. От злости, от страстного желания оказаться дома с отцом и, матерью, сидеть за одним столом с ними слезы подступили к его глазам. Подумать только, что через месяц-другой ему придется покинуть своих родителей и жить с Вандой. Теперь эта мысль приводила его в бешенство; его охватило почти такое же отчаяние, какое он испытал на войне, когда ему показалось, что он попал в окружение. Как же случилось, что теперь он должен жениться на Ванде? Когда и как это началось, каким образом очутился он в этом доме, среди чужих ему людей? «Жить двадцать, тридцать, сорок лет с женщиной, которая сидит передо мной! Можно сдохнуть при одной мысли об этом, это же просто тюрьма, по сравнению с которой возможность вечером поиграть в биллиард или перекинуться двумя словами с кем-нибудь, хотя бы с Пальмо, – уже настоящая свобода, и если бы мне сказали сейчас, что я лишусь ее, я пошел бы и утопился».
И физически и морально он чувствовал себя отвратительно, ему хотелось пить, хотелось уйти отсюда. Наконец, все встали из-за стола, и Ванда тоже, и он увидел ее живот – огромный, просто невероятный, в прошлое воскресенье он почему-то не казался ему таким большим.
– Этторе! – позвала Ванда низким протяжным голосом.
В это время он вдруг почувствовал, что у него ослаб шнурок на ботинке, приподнял штанину и очень обрадовался, обнаружив распустившийся узел, потому что мог нагнуться и не смотреть на Ванду. Она же, наоборот, внимательно разглядывала полоску его тела между поднятой штаниной и носком, пальцы, завязывавшие шнурок, и потом снова позвала.
Этторе распрямился и ничего ей не ответил; он боялся, что она сейчас закинет ему руки на плечи, он не мог сказать ей этого вслух и потому сказал взглядом. Она поняла, отстранилась от него, дала ему пройти.
Он уходил в полном смятении, но ничего с собой не мог поделать: не было у него ни желания, ни возможности ее утешить; ей предстояло вынести эту боль да еще в таком положении, но с нее довольно и того, что он вернется, вернется, к сожалению, ей надо только подождать, а сколько – этого он и сам пока не знает.
На улице стояла жара, но он почему-то ощущал приятную прохладу, и ему хотелось бежать, как мальчишке, однако в желудке была тяжесть, а ноги ослабели. Он шел, сам не зная куда, счастливый уже тем, что он один, и может идти куда хочет, и никто не попадается ему навстречу – наверное, все отправились на реку, он бы тоже пошел купаться, но было уже поздно, а ему еще нужно бежать домой за плавками, да и опасно купаться, когда ты гак наелся и напился, – может и удар хватить.
И он решил пойти на открытую танцевальную площадку, которую держали все те же братья Норсе: у этих братьев была здесь монополия на танцы. Народу пока было очень мало, большинство танцоров еще на реке, они придут, когда солнце начнет садиться, но оркестр играл уже в полном составе, хотя танцевала всего одна пара. На минуту он остановился у входа, в нем было – он это знал – что-то от немецкой овчарки, он принадлежал именно к такому типу мужчин, и, может быть, на площадке сейчас находилась женщина, понимающая в этом толк, достаточно было одной женщины, которая сказала бы себе: «Это то, что надо. Наконец-то появился настоящий мужчина». Ему просто необходима была новая женщина.
«Хочу танцевать, хочу танцевать допоздна, сколько времени я уже не танцевал? Жизнь проходит, черт возьми, а я не танцую. Не пропущу ни одного танца».
Но оркестр начал новый ритм, который показался Этторе слишком быстрым. Он пошел в бар выпить прохладительного и подождать медленной мелодии.
Из бара он увидел девушку, про которую все мужчины и многие женщины знали, что она ведет в Турине легкую жизнь. Это была красивая девушка, и говорили, что она загребает немалые деньги, но только в Турине, здесь же, в родных местах, она не работала и держалась недотрогой. Она была неизмеримо лучше одета и причесана, чем все местные женщины, присутствующие и отсутствующие, танцевала несравненно лучше их и при этом прижималась к партнеру так, как ни– ® кто из них не умел и не осмеливался.
При первых же звуках медленного фокстрота он подошел к ней. Она волновала его, у него тряслись колени, он не помнил, чтобы так было когда-нибудь даже с Вандой, даже в самом начале; ритм передавался ему через ее тело еще прежде, чем доходил до его ушей; за весь танец он не сумел сказать ей ни одного слова, весь уйдя в это занятие, потому что танцевать с ней ему казалось труднее, чем все, что он до сих пор делал в жизни. Он пригласил ее и на следующий танец, но это был проклятый быстрый фокстрот, который только увеличил его волнение; трудно было начать разговор под такую сумасшедшую музыку, а он должен был поговорить, должен был добиться победы над этой девушкой, чтобы доказать самому себе, что он еще не конченый человек, каким почувствовал себя в доме Ванды. Он танцевал и думал: ко всем ли она прижимается так, как сейчас к нему, ему было очень важно это знать: от жары и от волнения он вспотел и поэтому чувствовал себя очень неловко, его немного утешало то, что у девушки на лице тоже выступили капли пота.
Наконец он сказал ей на ухо:
– Сколько стоит такая женщина, как ты?
Она отняла свою щеку от его щеки и очень холодно посмотрела ему в глаза.
– Сколько ты стоишь?
Холодный взгляд и молчание; девушка продолжала танцевать все так же безупречно, в то время как Этторе сбился с такта.
– Скажи, не стесняйся, я все равно не стану тебе платить. Считаю, что такого мужчину, как я, ты должна хотеть бесплатно.
Как раз в этот момент музыка смолкла, и она бросила его посреди танцевальной площадки.
Он не обратил на это внимания: следующий танец он все равно будет танцевать с ней. Этторе не глядел больше на девушку, он стоял к ней спиной и дышал редко, и глубоко. С первым же тактом нового танца он резко повернулся, как боксер в своем углу при звуке гонга, но когда подошел к девушке, она ему отказала. Этторе был вне себя от злости, он готов был вытащить ее за волосы на середину площадки и обозвать при всех шлюхой, но вместо этого вдруг весь обмяк, и плечи у него опустились, как будто под бременем старческого бессилия или сознания собственного уродства. Сделав неопределенный жест рукой – какой именно, он потом никак не мог припомнить, – Этторе отошел от нее настолько ошеломленный случившимся, что налетел на группу любителей танцев, возвращавшихся с купанья. Один из них подошел к той девушке, и она стала с ним танцевать. Тогда Этторе тоже подхватил какую-то девицу, но, танцуя, все время следил за тем, не рассказывает ли та девушка своему партнеру про него, чтобы посмеяться и унизить. Он это сразу бы заметил, потому что парень стал бы искать его глазами; Этторе ничего бы ему не сделал, не стал бы с ним связываться, хотя наверняка справился бы с ним, – он просто ушел бы с танцев. Но ничего этого не случилось, и он танцевал допоздна с кем придется.
Потом он отправился домой, хотя ему не хотелось идти туда. Он шел ссутулившись, будто совершил подлость, которая всем уже известна, из-за которой он уже никогда не сможет чувствовать себя самим собой; луна была пугающе близкой, огромной и желтой, и медные дверные ручки зловеще поблескивали в ее лучах.
Дома мать спросила его, будет ли он ужинать. Сделав отрицательный жест, он торопливо прошел мимо, не глядя на нее, чтобы не поддаться искушению и не сказать спокойным, ласковым голосом: «Ты могла бы и не торопиться производить меня на свет».
Она сказала ему вслед:
– Видно, в доме Ванды с тобой обошлись неплохо. Чем тебя там кормили?
Он ничего не ответил, прошел в свою комнату, бросился на кровать и, лежа, стал раздеваться – раздевался он медленно и с трудом, но был не в силах подняться.
К счастью, он почти тут же заснул. Однако скоро проснулся. До рассвета было еще далеко, но полночь уже прошла, значит, это проклятое воскресенье кануло в вечность; было очень тихо, лунный свет заливал почти полкомнаты. Этторе подвинул голову на подушке, чтобы спрятаться от луны, и закурил. Перед глазами у него маячило лицо Ванды, но какое-то зыбкое и расплывчатое, как будто отраженное в воде, по которой идут круги, может, потому, что, желая прогнать мысли о Ванде, он все время ворочался с боку на бок.
Утром он пошел на товарную станцию грузить бочки со спиртом, которые надо было везти в Ч. на фабрику вермута; грузовик должен был пригнать Пальмо. По дороге ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не свернуть в переулок, где жила Ванда, и не пройти мимо ее дома, – не для того, чтобы зайти к ней (все равно он не мог бы там задержаться сколько ему хотелось), а только чтобы взглянуть на стены дома и подумать, что она за этими стенами и будет там сегодня вечером. Он, конечно, мог просто представить себе дом Ванды и саму Ванду, но ему этого было мало. «Хорошо бы, сейчас уже наступил вечер», – подумал он и чиркнул спичкой о стену: у него не хватало терпения дойти до табачного киоска, и по утрам он брал с собой кухонные спички.
Этторе шел на станцию, а перед его глазами была дорога в Ч. со всеми ее поворотами и перегонами, и он мысленно видел лица фабричных рабочих, которые разгружали его машину прошлый раз, видел, как возвращается домой.
«Сегодня вечером я все улажу, я постараюсь уладить это как можно скорее, – ведь она такая добрая, моя Ванда, и она не станет делать из мухи слона, как я. Я быстро все улажу и пробуду с ней весь вечер, пока меня не выгонят ее родители».
Проснувшись сегодня, он сразу вспомнил все, что было в воскресенье, будто между вечером и утром пролетело всего одно мгновенье; он стал думать о том, сколько Ванда перенесла, и сколько раз плакала из-за него, и сколько ей еще предстоит страдать и плакать, прежде чем он умрет, а он умрет раньше нее, и не потому, что он старше, а потому, что это будет справедливо. И он надеялся, что Ванда не винила себя за вчерашнее, а винила только его, одного его, что она облегчила сердце, ненавидя и ругая его. Сегодня вечером, когда он придет к ней, ему бы хотелось, чтоб она сказала: «Если бы ты знал, как я вчера тебя ненавидела и проклинала…» Для него это было бы признанием в вечной любви и даже больше. Сегодня вечером они просто посмеются над всей этой историей, ему уже и сейчас смешно.
Когда он пришел на товарный двор, Пальмо с грузовиком еще не было, Этторе подошел к вагону с бочками и стал осматривать пломбы.
Проходивший мимо молодой железнодорожник остановился и стал наблюдать за тем, что делает Этторе.
– Можно снять пломбы? – спросил его Этторе.
– Снимай, если оформил накладные. А что там?
– Бочки со спиртом.
– Небось дорогая штука?
– Еще какая!
– Эх, продать бы эти бочки! – воскликнул железнодорожник и от этой соблазнительной мысли даже прикусил себе кончик большого пальца. Потом он ушел.
Этторе подобрал с земли камень и стал перебивать им бечевку, на которой висела пломба; одновременно он прислушивался к гудкам машин, проходивших за стеной, которая окружала двор, надеясь услышать клаксон своего грузовика.
Он повернул голову и увидел, что его грузовик уже въезжает во двор, различил сквозь ветровое стекло широкую улыбку Пальмо, как бы говорившую: «Смотри, как я хорошо веду грузовик!» Взмахом руки Этторе показал ему, что надо развернуть машину и поставить ее рядом с вагоном.
Потом он отвернулся и опять принялся сбивать пломбы, как вдруг позади услышал шум приближающегося грузовика.
Его сильно толкнуло в спину, в удивленные глаза хлынул красный цвет вагона, он почувствовал, как его грудная клетка трещит, будто придавленная тяжестью плетеная корзина. Движущийся кузов грузовика заставил его несколько раз перекрутиться вдоль вагона, а потом он застыл, пригвожденный к нему, читая выпученными глазами надпись на противоположной стене: «Товарный склад», ноги его не касались больше земли и стали холодными и тяжелыми, будто они не из плоти и крови, а из камня.
Он не видел, как Пальмо высунулся из окошка кабины, – рот его был раскрыт в крике, волосы упали на глаза. Пальмо дал задний ход, и его опять потащило вдоль вагона до прежнего места, и он опять видел красную стенку, и его грудная клетка опять хрустнула, но уже не так громко. Затем кузов машины отодвинулся, и Этторе мешком свалился на землю.
Его перенесли в здание склада, железнодорожники накрыли его брезентом, и буквы «Ж. Д.» пришлись ему как раз на лицо.
Один из железнодорожников сказал:
– Этот несчастный думал, что не заденет его, он недавно водит грузовик и еще не знает как следует его размеров.
В это время вбежала Ванда.
Из-за огромного живота она не могла к нему наклониться и поэтому смотрела сверху, как будто издалека, и тогда один из рабочих решил открыть ему лицо, но он не успел этого сделать, потому что Ван-да вдруг опрометью кинулась со склада, с неожиданной силой растолкав железнодорожников, собравшихся у входа. Она искала Пальмо и сначала услышала, а потом уже увидела его. Он лежал ничком на куче мелкого угля, ноги у него дергались, он что-то мычал, будто рот у него был забит этим углем; уже больше получаса он лежал так.
– Пальмо!
Он перестал дергаться и медленно приподнял голову, лицо у него было совсем черное, и слезы прочертили на нем белые дорожки; черными были и губы. Пальмо взглянул на нее, опять сунул лицо в уголь и опять замычал.
– Пальмо! – крикнула она, но он не поднял головы.
Тогда она схватила его за плечи, чтобы перевернуть, но ей это не удавалось, она начала рвать на нем волосы, колотить в спину, он все не оборачивался; тогда она вонзила ему ногти во вздувшиеся на шее жилы.
Пальмо вскрикнул от боли и перевернулся.
– Убей меня! – промычал он.
– Он еще говорил?
– Говорил… Убей меня!
– Повтори все, что он сказал. Но знай, если ты убавишь или прибавишь хоть одно слово, бог разразит тебя на месте!
– Он сказал: «Ты идиот, Пальмо! Мне приходится умирать из-за такого идиота, как ты».
И Пальмо убежал, чтобы не видеть и не слышать, как она будет убиваться теперь, когда мужа ее не стало.
Последсловие
Горькая и мужественная повесть Беппе Фенольо прочитана, и нам остается сказать несколько слов о трудной судьбе автора, который скончался молодым, и этой книги, которая вышла в свет через много лет после его смерти, через восемнадцать лет после того, как была написана.
Впрочем, почти столько же лет прошло, прежде чем итальянский читатель смог узнать и по достоинству оценить интересный роман Фенольо «Партизан Джонни» и другие оставшиеся неизданными при жизни произведения этого своеобразного и талантливого писателя. Своевременной публикации этих книг помешали советы крупного писателя Элио Витторини, который в те годы редактировал серию «Жетонов», включавшую в себя почти все произведения молодых писателей послевоенной Италии.
Элио Витторини обладал заслуженным и почти непререкаемым авторитетом. Но именно он посоветовал Фенольо отказаться от издания романа «Партизан Джонни», а также публикуемой нами повести «Страстная суббота» и сделать несколько рассказов из отдельных фрагментов этих книг.
Беппе Фенольо, служивший после войны письмоводителем винодельческой фирмы в своем городке Альба, безропотно последовал этому совету Витторини. Причины такого суждения Витторини понять трудно.
Впрочем, остается лишь радоваться тому, что издательство «Эйнауди», для которого Беппе Фенольо в свое время переделал романы в коротенькие рассказы, через много лет сочло возможным изменить свое отношение к творчеству писателя, напечатав все, что осталось после него.
Беппе Фенольо – знатоку английской поэзии – не было и двадцати лет, когда он бросил свои литературные занятия, раздобыл автомат и ушел в горы к партизанам– воевать с гитлеровцами и фашистскими карателями.
Война подступила почти к самому дому, к небольшому городку Альба на севере Италии, где борьба против фашистов велась в условиях особо суровых, отличалась особой ожесточенностью.
В повести «Двадцать три дня города Альба» Беппе Фенольо точно и правдиво изобразил один из весьма примечательных эпизодов партизанской войны – освобождение города Альба (1944) небольшим соединением антифашистов, которые двадцать три дня сумели продержаться здесь, окруженные намного превосходившими силами карателей, а затем снова ушли в горы. Сюжетная канва романа «Партизан Джонни» связана с этим эпизодом.
В отличие от многих начинавших вместе с ним писателей-неореалистсв, Беппе Фенольо далек от идеализированного изображения Сопротивления. Партизанское движение в Италии было социально неоднородным. Рядом с прошедшими суровую школу политической борьбы антифашистами – рабочими и интеллигентами в партизанских отрядах бывали и анархисты, и просто люди, оказавшиеся на распутье, смутно осознававшие цели борьбы.
Но и этими, даже «не лучшими, а худшими из партизан двигало стремление к освобождению человека, и они были в тысячи раз лучше вас», – пишет, обращаясь к буржуазным хулителям Сопротивления, И. Кальвино в предисловии к своему роману «Тропой паучьих гнезд». Книги Фенольо не беллетризованная хроника антифашистской войны, его реализм глубоко психологичен, созданным им характерам присуща художественная достоверность, далекая от какой-либо упрощенности.
Для Фенольо, как и для лучших итальянских писателей его поколения, партизанская борьба, годы Сопротивления стали основой жизненного и художественного опыта, определившего важнейшие черты того направления в искусстве, которое принято называть итальянским неореализмом. Влияние этого направления было весьма ощутимо в Италии вплоть до первой половины пятидесятых годов. По крайней мере, применительно к литературе мы назвали бы это направление искусством опоэтизированного факта или искусством лирической документальности. В недолгие годы своего расцвета оно удивляло яркостью красок, горячим и молодым стремлением сказать правду, и только правду, о своем времени, о своей стране, как бы впервые увиденной после того, как рассеялась черная пелена напыщенной фашистской лжи и риторики.
В плане стилистическом – а начинавшие тогда писать двадцатилетние авторы-неореалисты придавали стилистической выразительности своих произведений немалое значение – на них серьезно повлияла американская реалистическая проза тридцатых и начала сороковых годов, в чем нетрудно убедиться при внимательном чтении и этой повести. (Все тот же скупой диалог, все тот же разговор как бы ни о чем, когда на самом деле говорится самое главное.) Но тут следует сказать, что среди писателей-неореалистов, как правило пренебрегавших психологической углубленностью, Фенольо выделялся неодномерностью своих персонажей, слиянием личностных и социальных мотивов, скупой емкостью своей художественной манеры.
Сегодня в Италии стало модой, чуть ли не признаком хорошего литературного тона, полное отрицание всего созданного за недолгие годы писателями-неореалистами. В этом кратком послесловии вряд ли уместно анализировать причины столь категоричных и не слишком справедливых отрицаний.
Беппе Фенольо, при всем своеобразии своего дарования, был писателем-неореа-листом, принадлежал к этому литературному течению, не имевшему своего манифеста и не ограниченному строгими рамками группы. Принадлежность Фенольо к итальянскому неореализму засвидетельствована большинством исследователей его творчества.
Это о Беппе Фенольо известный итальянский писатель Итало Кальвино после посмертной публикации его книг сказал: «Он был самым одиноким среди нас и написал роман, о котором все мы мечтали, написал его, когда никто этого не ждал… Теперь существует та книга, которую наше поколение хотело создать, теперь наша работа получила завершенность и смысл. Лишь теперь, благодаря Фенольо, мы можем сказать, что совершили то, что должны были совершить. Лишь теперь мы уверены, что действительно прожили свои годы».
Повесть Фенольо может на первый взгляд показаться одной из многих написанных на Западе книг о «потерянном поколении», книг о молодых людях, которые не могут найти себя, не могут найти себе место в жизни в первые месяцы и годы послевоенной жизни.
Думается, если бы речь шла только об этом, повесть вряд ли вызвала бы сегодня столь живой интерес.
Повесть Фенольо глубже и современней. Партизаны, вместе с которыми воевал его герой Этторе, дрались не только за то, чтоб изгнать из своей страны нацистов. Само Сопротивление было не только национальным, но и глубоко социальным движением. Партизанские годы были не только школой лишений и жертв, они стали обретенной в бою свободой.
Все должно измениться после победы, прежние хозяева должны уйти вместе с фашизмом, ими порожденным, – вот ради чего дралась в горах итальянская молодежь, вот о чем мечтала она, не зная, что пути истории сложней, извилистей, трудней, чем ей тогда казалось. Вышло по-иному. После недолгого испуга прежние хозяева жизни вновь вернулись к своим доходным занятиям.
Герой повести Этторе в своем городе увидел, что его ждут дни, от которых в руках остается лишь «щепотка пепла». Решительно и твердо сказал он хозяевам этой жизни: «Я вашим не стану» – и решил продолжать свою войну, на этот раз в одиночку, на этот раз без товарищей, на этот раз вне движения истории, – войну за себя и за любимую им женщину. Цели его просты и человечны – любовь и независимость. Он хочет любить и быть любимым, сохранить себя, свою самостоятельность, не дать себя раздавить, как нужда и безысходность раздавили его отца, отравили жадностью мать.
Но именно эти простые и человечные цели оказываются недостижимыми, и Этторе, увидев и поняв это, провозглашает свое неприятие мира, в котором они недостижимы. «Мне нет места в этой жизни», – думает Этторе. И он решается на свой одинокий, трагический бунт, отваживается на него, стоя у ворот маленькой фабрики, куда отец пристроил его конторщиком. Один за другим проходят в ворота рабочие, потом настает черед служащих. Прошло восемь, десять, одиннадцать – ему, Этторе, остается войти вслед за ними и научиться несложному искусству выписывать накладные.








