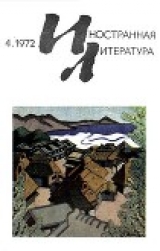
Текст книги "Страстная суббота"
Автор книги: Беппе Фенольо
Жанры:
Повесть
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Затем дверь медленно отворилась, но кто ее открыл, мы узнали, лишь войдя внутрь. Бьянко шел первым, за ним я, за мной Пальмо. Мы очутились в слабо освещенном коридоре и вдохнули особый, приторный запах богатого дома.
Я взглянул направо и увидел того, кто нам открыл. Это была пожилая, высокая и худая женщина, вся в черном, с очень строгим лицом, похожая на мою школьную учительницу.
– Ты все приготовила? – спросил у нее Бьянко.
Было очень странно слышать, что он говорит «ты» женщине такого типа. Она указала пальцем на дверь в конце коридора и сказала Бьянко:
– Я буду там, приготовлю ему отвар ромашки.
Мы прошли дальше по коридору и, открыв какую-то дверь, увидели письменный стол, за которым сидел, освещенный ярким светом настольной лампы, старик в темных очках.
– Мария, – позвал он.
Я не снял шляпу, подумав, что в решительный момент, с пистолетом в одной руке и со шляпой в другой, буду очень смешон, а потому лишь слегка сдвинул ее на затылок.
Старик снял очки, и Бьянко тут же заговорил, но я его совсем не слушал, невольно сосредоточив все внимание на лице старика, которое теперь, без очков, можно было рассмотреть во всех подробностях.
Ничто, если не считать трупов на войне, так не завораживало мой взгляд.
Лицом он походил на жабу, только, конечно, бывают жабы покрасивей; но страшнее всего были глаза… Эти глаза, похожие на два биллиардных шара, казалось, готовы были вот-вот выскочить из-под надбровных дуг, выступавших двумя мясистыми буграми, так что тому, кто его любил, наверное, всякий раз хотелось броситься к нему с протянутыми руками, чтобы удержать эти страшные шары в глазницах. Кроме того, над каждым глазом у него еще нависали куски живого, белесого, местами кроваво-красного мяса.
Между тем Бьянко все говорил, а старик еще не вымолвил ни слова – только мелко тряс головой и улыбался жуткой, застывшей улыбкой: он как бы умолял нас не причинять ему зла и не отбирать у него ни чентезимо. Он помирал со страха – я видел это по его улыбке, по нервной дрожи в руках, лежавших на столе и судорожно сжимавших очки.
Очнулся я, когда услышал цифру, названную Бьянко, – миллион лир, но заметил, что Пальмо это нисколько не взволновало: напротив, он все так же спокойно и сосредоточенно обкусывал себе ногти.
Тогда я опять уставился на лицо старика, который должен был дать миллион нам и нашим женам на забавы и развлечения, чтобы мы могли продолжать жить, раз мы не погибли на войне.
А он все улыбался и тряс головой.
Я даже не сразу почувствовал толчок, которым меня наградил Бьянко под прикрытием стола, но тут же в руке у меня оказался пистолет, который я и направил прямо на голову старика.
Старик заглянул в дуло моего пистолета, потом попытался поднять свои жуткие глаза, чтобы заглянуть в мои, но тут руки его соскользнули со стола, а голова глухо, как чугунный шар, стукнулась о край столешницы и замерла, упершись подбородком в грудь.
Я опустил пистолет и посмотрел на двух своих дружков. Пальмо вынул пальцы изо рта, а Бьянко скомандовал: «Пистолет – в карман», что я и сделал.
– Он притворяется, хочет отвязаться от нас, – сказал Пальмо, – ты сам говорил, что он продувная бестия, – обратился он к Бьянко.
– Мария! – позвал Бьянко.
Женщина пришла. Она хорошо знала старика, и, когда сказала, что он мертв, нам стало ясно, что ошибки тут быть не может.
Мы все трое попятились от стола; женщина, увидев это, тоже поспешила отойти подальше, она вся подобралась и шла очень прямо, словно старик мог ударить ее ножом в спину.
В коридоре часы пробили десять, и мы в молчании выслушали все десять ударов.
– Это не мы… – сказал Пальмо женщине, нам и самому себе.
– Молчи! – крикнул Бьянко и поднял руку, будто хотел его ударить. Потом обратился к женщине: – Надо было сказать, что он тут слабоват. – Он ткнул себя пальцем в сердце.
Она молитвенно сложила руки и, стараясь не смотреть в сторону старика, прошептала:
– Он был такой больной. И вовсе не злой… Добрый он был.
– Ну, если добрый, так он сейчас уже в раю, – заметил Бьянко.
– Он так мне доверял, – сказала женщина каким-то детски-тонким голосом.
– Еще бы, почему же ему было тебе не доверять? – сказал Бьянко. Он подошел к ней и стал говорить что-то вполголоса.
Я считал, что имею право знать, о чем шепчутся те двое; я все равно с головой влез в это дело, значит, мне нужно быть в курсе всего. Я подошел поближе и услышал, как женщина сказала:
– Ради бога, ничего не ломайте. Я знаю, как открыть.
А Бьянко:
– Он взял эти деньги из банка на днях?
Она ответила, что нет, и по лицу Бьянко я понял, что все у нас идет как нельзя лучше.
Мы поднялись на второй этаж; Бьянко не велел зажигать света, и Пальмо чиркал спичку за спичкой, а обгоревшие совал себе в карман. Мы нашли, что надо, и снесли вниз.
В коридоре, при свете, я увидел, что Пальмо прижимает к груди пять пачек тысячных бумажек. Мы было направились к выходу, но тут женщина протянула руку к Бьянко.
Он понял и сказал:
– Разделим потом, не спеша. К тому же их надо еще пересчитать.
Женщина возразила:
– Я знаю, сколько их здесь, если дело только за этим.
Тогда Бьянко обернулся к Пальмо, взял у него одну из пяти пачек и вроде как бы с усмешкой показал ее женщине.
– Этого достаточно, – согласилась она.
– Еще бы! – сказал Бьянко и отдал ей пачку.
Она прижала пачку к груди и сказала:
– Вы-то уходите, а я остаюсь тут с ним одна.
– Через полчаса позвонишь в больницу, – ответил ей Бьянко. – Ты была там и готовила ему ромашку, а когда принесла ее, застала его в таком виде.
Женщина сказала, что она все так и сделает, а Бьянко заметил, что ничего трудного в этом нет. Потом спросил:
– Куда ты денешься после похорон?
– Уеду отсюда, поселюсь в Т.
– И хорошо сделаешь. Наследники должны будут дать тебе выходное пособие.
– Я надеюсь.
– Это твое, право.
Мы вышли. По дороге Пальмо уронил одну из пачек, которые прижимал к груди.
– Ах, дьявол! – тихонько выругался он, пытаясь подобрать пачку-.
Бьянко поднял ее и, водрузив на место, процедил:
– Идиот!
Машина была развернута носом под уклон, около нее стоял брат Костантино. Бьянко прошел вперед и быстро сел в машину рядом с шофером – видимо, для того, чтобы заслонить Пальмо с его ношей. Я сел рядом с Пальмо, державшим теперь пачки на коленях.
– Чтобы через десять минут мы были в городе, – приказал Бьянко.
Городские огни быстро приближались. Я старался поймать лицо Бьянко в обзорном зеркальце, но видел только Пальмо, который все время косился на меня, придерживая пачки обеими руками.
– Куда? – спросил шофер.
– Остановись у входа во двор «Коммерческого кафе».
Мы остановились там, где велел Бьянко. Вышли. Отблески неоновой вывески на углу кафе переливались на черной эмали нашей машины.
Бьянко. велел Пальмо задержаться в машине, сам обернулся ко мне и спросил:
– Ты не такой недоверчивый, как та женщина?
– Нет, конечно. Когда тебе будет угодно, – ответил я и распрощался.
Бьянко и Пальмо зашли во двор кафе.
Я спросил брата Костантино:
– Слушай, ты сегодня куда-нибудь поедешь? Тебе еще понадобится кожаная куртка?
– Сегодня нет. Я ставлю машину в гараж.
– Тогда одолжи мне куртку, я верну ее завтра после обеда.
* * *
С курткой на плече, он стоял и смотрел вслед отъезжавшей машине. Потом двинулся в путь, но, сделав несколько шагов, остановился; ноги поневоле несли его домой. Теперь он шел и все время думал о том, когда и куда надо сворачивать.
Ощущение опасности не оставляло его, и ему приходилось делать над собой усилие, чтобы не оборачиваться. Он обогнал стайку глупо хихикавших девушек; одна из них что-то рассказывала и все время повторяла: «А он… а он…» Навстречу ему шла группа мужчин, и он смотрел на них как на приближавшихся врагов. Однако, поравнявшись с ним, они лишь посторонились и уступили ему дорогу.
«Со мной ничего не должно случиться; даже если ко мне привяжется какой-нибудь пьяница, я и пальцем не пошевелю. У меня пистолет, двадцать тысячных бумажек и чужая куртка. Лучше всего пойти в какую-нибудь гостиницу, запереться в номере и проспать до одиннадцати утра».
Но он не сделал этого. Так же как на войне в минуты опасности, в эту ночь он чувствовал себя сильнее и увереннее, когда над головой у него было открытое небо. Он не станет нигде запираться, а пойдет к Ванде. Посвистит под ее окном, в переулке, она #проснется, выглянет, и волосы у нее упадут на глаза. Она побудет с ним. Ванда его любит, он уверен в любви Ванды больше, чем в том, что у него в кармане лежат двадцать тысяч лир.
Пока он шел к Ванде, перед глазами его маячило лицо старика. Это было лицо иное, чем при жизни, совсем нормальное, как будто неожиданная смерть мгновенно стерла черты уродства, которые годами накладывала болезнь.
«Он так и будет у меня перед глазами всю неделю, – подумал Этторе. – Лица людей, умерших по-другому, я забывал довольно быстро».
Вот и переулок Ванды. Его освещал один только фонарь, как раз на высоте Вандиного окна, и ходить тут надо было очень осторожно, потому что мостовая была усеяна отбросами, выкинутыми из окон; к тому же сюда приходили облегчиться все пьяницы из ближайших трактиров.
Ему показалось, когда он подходил, что окно Ванды освещено, но это был лишь отблеск фонаря. Он стал под окном. Комната Ванды была на втором этаже, как раз над шорной мастерской отца, окно выходило на узенький балкончик с чугунными перилами.
Он подумал: «Она станет меня расспрашивать. Надо будет как-нибудь отвлечь ее». И негромко свистнул. Немного погодя – опять.
Ванда зажгла свет, потом погасила. Ему показалось, что он слышит, как звякнули пружины ее кровати.
Он увидел ее за стеклом. Лицо ее было обращено в глубь комнаты, потом она открыла окно и, отбрасывая упавшие на глаза волосы, сказала:
– Ты с ума сошел – разве можно свистеть! Отец услышит. Что это у тебя под мышкой?
– Не устраивай мне допроса, – огрызнулся он. И тут же добавил: – Это кожаная куртка, шоферская. Ты спала уже?
Но она снова спросила:
– Ты работаешь на грузовике?
– Да, с Бьянко.
– С каких пор?
– Со вчерашнего дня.
– Я не знала, что ты умеешь водить машину.
– На войне научился.
Она подумала с минуту, потом заметила:
– Так, значит, ты не пошел на шоколадную фабрику…
– Хватит!
Откинув голову, она вздохнула и спросила:
– Ты зачем пришел?
– Тебе неприятно?
– Приятно, как и тебе. Зачем пришел?
– Повидать тебя.
– Ты меня любишь?
– Не говори глупостей.
– Тогда я ухожу. – Она обиделась. – Спокойной ночи.
– Останься.
– Мне холодно.
– Да ведь совсем тепло.
– Я же в одной рубашке.
Немного смягчившись, Этторе попросил:
– Побудь еще немного со мной.
– Зачем?
– Так. Выйди на балкон. Я хочу видеть тебя всю.
– Там будет еще холоднее.
– Нет! Я хочу видеть тебя всю.
Она покачала головой и не двинулась с места. У него стало злое лицо.
– Выйди на балкон!
– Не злись!
– Делай, что тебе говорят!
Ванда вышла на балкон и облокотилась на перила.
– Выпрямись.
Она послушалась. Теперь он видел ее всю, заключенную, словно в футляр, в узкую длинную ночную сорочку из легкой материи. Но ему не было смешно; он знал, что нелепое облачение скрывает нечто, для него очень значительное.
Переступив с ноги на ногу, Этторе потребовал:
– Покажись.
– Что?
– Приподними.
Она отрицательно покачала головой.
Он пришел в ярость. Больше всего его выводили из себя как раз те, кто его любил, – мать, а теперь Ванда. Даже Пальмо не вызывал в нем такого бешенства. Он почувствовал, как у него руку сводит от желания выхватить пистолет. Он готов был пригрозить ей оружием.
Увидев его лицо, Ванда слегка приподняла рубашку и, глядя вниз, немного обнажила тесно сжатые ноги.
– Еще.
Она послушалась, но уже смотрела не вниз, не на него, не на свои ноги, а куда-то вверх.
– Зачем это? – спросила она.
– Затем, что ты мне нравишься, слишком нравишься. Я бы жизнь за тебя отдал. И мне страшно тебя потерять.
Она перегнулась через перила:
– Ну, меня ты не потеряешь, никогда не потеряешь. Если только сам, по своей воле, от меня не уйдешь.
– Знаю, знаю. Именно поэтому я и боюсь.
– Почему, Этторе?
– Да так. Просто мне надо остерегаться, чтобы со мной ничего не случилось.
– Когда? В чем дело?
– А? Ну, на машине, в пути.
Она подумала и спросила:
– Хочешь, чтобы я за тебя молилась?
– Разве ты умеешь молиться?
– Нет, никогда не умела и не верила в это.
– Вот и я тоже не верю. Мне только надо быть осторожным, все зависит от меня самого.
– Береги себя, Этторе, прошу тебя.
Теперь он мог уйти.
– Иди к себе, – сказал он.
Она покачала головой и стала посылать ему воздушные поцелуи.
– Холодно, – сказал он.
– Нет.
– Ну чего тебе еще надо?
– Поговори со мной.
– Мне что-то больше не говорится. Мне хочется только одного. И ты знаешь чего. А тебе?
– Милый…
– Иди в комнату, ни к чему так мучить друг друга. Я ведь не могу и пальцем до тебя дотронуться. Иди же.
Но она все не уходила. Теперь она указывала на него и, обращаясь ко всему переулку, повторяла:
– Посмотрите на моего мужа. Это мой муж!
Они пробыли вместе еще минут десять. Она смотрела на. него, а он смотрел себе под ноги и думал, думал о старике, о том, была ли у него когда-нибудь такая женщина.
Наконец, встрепенувшись, он сказал:
– Увидимся в воскресенье.
– Чем ты занят на неделе?
– Все время в поездках. Буду возить груз в Лигурию, может, даже в Тоскану. Ну ладно, возвращайся в комнату.
– Сначала иди ты. Я посмотрю тебе вслед.
Этторе пошел в гостиницу «Национале». Деньги у него были, и он мог проспать там до одиннадцати. Потом он пойдет домой и заткнет матери рот.
В нем появилась уверенность, что на вилле все сошло гладко; чутье не могло его обмануть.
V
Действительно, все обошлось благополучно, от установления факта смерти и до похорон; Этторе получил от Бьянко восемьдесят тысяч лир. Эти первые деньги он спрятал дома, под тюфяком, на месте пистолета, но уже подумывал о том, куда пристроить те, которые заработает на крупных делах. Уплатив ему, Бьянко сказал, что теперь будут дела посерьезнее, и велел быть наготове.
Этторе был готов. Он купил себе кожаную куртку и, застегнувшись на все пуговицы, явился к матери; он сказал, что ему предстоит работа недели на две, поездки в Венето и Тоскану, и что дома его теперь почти не увидят.
Днем он отсыпался в «Коммерческом кафе», в номере, который освободила Леа, а по ночам работал с Бьянко.
У них были действительно серьезные дела, но по-настоящему он это ощущал потом, в номере гостиницы, когда, пробудившись от недолгого сна, закуривал сигарету и, следя глазами за пятном света, необъяснимым образом проникавшим в комнату сквозь занавешенные окна, перебирал в памяти недавние события. Тогда по спине у него пробегал холодок, точно такой же, как бывало в бессонные ночи в партизанском отряде после тяжелых боев. Но в деле он себя чувствовал спокойно и уверенно, и пока все шло гладко. Бьянко был великолепен. Этторе, Пальмо и другие, которых он привлекал, когда дело требовало этого, шли за Бьянко, как пехота за танком.
Самое крупное дело было в ночь с субботы на воскресенье, когда они вывезли все весы-автоматы со склада на улице Кавура. Даже на глаз было видно, что, здесь пахло миллионами. Потом Бьянко отослал Этторе спать, а сам вместе с Пальмо отвез на грузовике весы-автоматы в другой город. От злости и охвативших его подозрений Этторе не мог уснуть и, лежа в постели, выкурил целую пачку сигарет. Однако после обеда, когда он, наконец, заснул, Бьянко приехал и, разбудив его, выложил прямо на одеяло полмиллиона лир.
– Не говори ничего Пальмо, – предупредил он, – ему я дал всего триста тысяч.
– Если б ты дал ему даже миллион, мне это безразлично, – ответил Этторе, – потому что я доволен, а когда я доволен, то мне до других дела нет. Таким я был и в школе, когда речь шла об отметках.
За полтора месяца Этторе получил миллион лир, и этой суммой, по его расчетам, он мог по крайней мере на три месяца заткнуть рот матери и расплатиться со всеми долгами. Деньги он держал в стенном шкафу в номере над «Коммерческим кафе», но настал день, когда он решил, что там им не место.
Идея разделить деньги на четыре вклада, по числу банков, имевшихся в городе, не пришлась ему по вкусу, а спросить Бьянко, где тот держит свои капиталы, он не решился. Поэтому однажды вечером Этторе отправился к Дзеку.
Это был старый банкир, еврей, который в 1920 году объявил себя банкротом. Этторе решил довериться ему. Он надеялся, что сумеет так себя поставить, что старик согласится иметь с ним дело.
В тот вечер, когда Этторе пришел в первый раз, Дзеку сильно испугался. Он встал со стула, и его дряхлое тело согнулось в дугу.
– Я знаю, что вы даете деньги в рост, – начал Этторе.
– Да, но только очень маленькие ссуды, – поспешил уточнить старик, – у меня самого почти нет денег, я могу ссужать ими разве только бродячих торговцев. Все деньги я потратил, чтобы спасти свою жизнь во время войны.
– А вклады вы не берете?
– Беру, но даю очень скромные проценты.
– Мне не надо никаких процентов, важно только, чтобы вы мне сберегли деньги.
Старик опустился на стул.
– Что ж, это можно. Какая у вас сумма?
– Миллион.
– Приносите.
Этторе принес деньги в два приема. Когда еврей спрятал их, Этторе предупредил его:
– Если со мной что-нибудь случится, не вздумайте под шумок присвоить их. Не пытайтесь проделать ту же штуку, что вы, по слухам, проделали в двадцатом году. Я написал одну бумагу…
– Я сам напишу тебе бумагу, – прервал его старик, – расписку. – Он взял в руки перо.
– Расписка – это клочок бумаги, который кладут в бумажник, – ответил Этторе, – а бумажник всегда при мне. Если случится что-нибудь со мной, то же случится и с распиской. Однако вы мне её дайте. Но предупреждаю: свою бумагу я вручил верному человеку, так что, если со мной что случится и вы попробуете схитрить, этот человек не станет себя вести, как те люди в двадцатом году, а не задумываясь, прострелит вам голову. Имейте в виду, этот человек будет пострашнее немцев.
Лицо старого еврея сморщилось, и он уронил перо.
Этторе заглянул ему в глаза и тихо сказал:
– Не шутите с теми, кто, как я, сражался с немцами. Между прочим, также и за вас.
Старик послушно кивнул, его пальцы все никак не могли удержать перо.
– Я уже стар… – сказал он.
Этторе добавил:
– И еще. Если вас не станет, – а у вас, я знаю, никого нет, – что будет с моими деньгами?
Старик улыбнулся:
– Я еще, кажется, не умираю… Ведь не на десять же лет ты отдаешь мне деньги?
Этторе, уходя, думал о бумаге, про которую говорил Дзеку и которой у него не было, он не знал, кому бы ее доверить, но теперь он чувствовал, что за старика может быть спокоен.
Их крупная игра была прервана смертью матери Бьянко. Она умерла в тот день, когда Этторе отнес банкиру еще триста тысяч лир.
Этторе ожидал похорон с волнением, но держался в стороне. Не так, как Пальмо, который провел ночь у одра покойной, договаривался с бюро похоронных процессий, заказывал гроб и даже менял деньги, чтобы раздать мелочь беднякам, которые провожали покойную до самых ворот кладбища. Этторе решил проверить на похоронах, какой репутацией пользуется в городе Бьянко. На похороны пришло много высокопоставленных и богатых горожан – коммунальные советники, врачи, нотариусы, учителя; пришли со знаменем представители Союза ветеранов войны. Глядя на всех этих людей, окружавших катафалк, Этторе подумал: «Порядок!» Увидел также и своего отца в парадном костюме и в новой шляпе и повторил про себя еще раз: «Порядок!»
По случаю траура Бьянко не выходил из дома, и Этторе переселился на это время к себе.
В воскресенье, после похорон, он надел костюм из шотландской шерсти, подаренный ему Бьянко, и красный галстук, который он купил в субботу вечером.
Когда он вошел в кухню, мать сидела у окна и глядела на крыши соседних домов.
– Ты не выходишь из дому по воскресеньям? – спросил он.
Она покачала головой.
– Отдыхаешь?
– Отдыхают мои руки и ноги, но не голова.
– А что делает твоя голова?
– Думает.
– О чем, мать?
Она многозначительно вздернула подбородок, давая понять, что у нее целый воз тем для размышления.
Он встал за ее спиной и сказал:
– Я знаю, чем ты занимаешься. Ждешь, пока все уйдут из дома, а потом закрываешься на замок и принимаешься пересчитывать денежки, которые я принес тебе за последнее время.
– Да там и считать-то нечего, – ответила она.
– Что?! – вскричал он.
– Ну ладно. Но я не считаю. И так знаю, сколько их.
– Ну, хватает тебе теперь? Ты довольна?
– Хватает, и я довольна, потому что ты выполняешь свой мужской долг, да все боюсь, что это скоро кончится…
– Не кончится, пусть только у Бьянко пройдут тяжелые дни, и он опять начнет гонять свои грузовики.
Потом Этторе спросил, куда пошел отец.
– Не знаю.
– Может, в остерию?
– Твой отец не ходит в остерию, как другие. Он, видно, пошел на мост, рекой любоваться.
– Ну, как он?
– Со здоровьем неплохо, но в голове у него что-то неладно, нужно следить за каждым его шагом, прямо как за ребенком. Теперь вот вбил себе в башку, что ему нужна собака. Хочет держать собаку, какую угодно дворняжку; говорит, нужно ему, чтобы какая-нибудь добрая душа была ему предана, хотя бы собака.
Что-то кольнуло Этторе в сердце. Он сказал:
– Будет у него собака, если он так хочет. Я найду и приведу.
– Мне не нужно грязи в доме.
– Но отец хочет собаку.
– Я с ним поговорю, и у него эта блажь пройдет.
– Ничего ты ему не скажешь и возьмешь собаку, – твердо сказал Этторе.
Она вздохнула и спросила:
– Куда ты сейчас? В кафе?
– Так, пройтись.
Мать сказала:
– С Вандой пойдешь?
– Тебе, я вижу, все известно.
– Ты же знаешь, что меня тебе не обмануть.
– Что ты имеешь против Ванды?
– Ничего. Только несчастная она, что тебя полюбила. Бедная девочка, несчастная. И я, твоя мать, ей это скажу. Несчастная она, что тебя любит. Скажу ей, как только встречу.
– Ах, так она несчастная, что меня любит? Потому что ты, будь ты девушкой, не пошла бы за меня? Да?
– Никогда! – отвечала она, качая головой и грозя ему пальцем.
Он расхохотался и обнял ее за плечи, а она все грозила ему пальцем, тогда он, дурачась, стал гладить ей шею и целовать волосы.
– Так говоришь, не пошла бы? За такого-то мужчину?! Еще как пошла бы, вцепилась бы прямо! Только сама бы ты была свеженькой девчонкой, а не старой каргой, как сейчас.
Он снова наклонился, чтобы поцеловать ей волосы, но она уклонилась, и поцелуй пришелся ей в шею. Она поежилась, потом выпрямилась и тихо произнесла:
– Знал бы ты, как далеко все это уходит с годами!
Немного помолчав, Этторе сказал:
– Ну, я оставляю тебя считать деньги.
Она пожала плечами, а он, уходя, подумал: «Господи, как все хорошо складывается!»
Сначала он решил заглянуть на спортивную площадку. Он шел и думал о Ванде, которая в этот час у себя дома готовилась к встрече с ним. Сколько он ни старался, никак не мог вспомнить, когда это началось, когда он полюбил ее, так же как он не мог бы сказать, откуда берут свое начало корни деревьев на аллее, по которой он шел. Перебирая в памяти события, он невольно останавливался на одном октябрьском вечере в дансинге братьев Норсе, через полгода после окончания войны.
Ванда танцевала блюз «Симфония» с Джорджо, сыном местного богатея, владеющего тремя мельницами, а Этторе наблюдал за ними, опершись о стойку бара. К этому времени он уже трижды обладал Вандой – дважды на берегу реки и один раз на холме. Теперь эти двое танцевали, тесно прижавшись друг к другу, щека к щеке, подбородок Ванды – на плече партнера, при этом видно было, как тело Ванды принимало импульсы, которые ей посылало тело Джорджо, и как ей передавалась его дрожь; глаза Ванды затуманились. Когда танец кончился, Джорджо, отступив на шаг и по-офицерски щелкнув каблуками, наклонился и поцеловал Ванду в голое плечо, у шеи. Ванда улыбнулась.
«Мерзкая шлюха!» – выругался про себя Этторе и пошел приглашать ее на следующий танец. Но танцующие потребовали, чтобы оркестр бисировал; снова заиграли тот же блюз, и Этторе не знал, куда деваться от злости. Чтобы не стоять столбом на краю площадки, не зная, что делать с руками, он вернулся к стойке и заказал еще стакан вина.
Блюз «Симфония» тянулся бесконечно долго, людям нравилось его танцевать, а оркестрантам играть. И Ванда продолжала все так же прижиматься к Джорджо, а под конец он опять поцеловал ее в плечо.
Перед следующим танцем Этторе подошел к Ванде и, как только раздалась музыка, повел ее, танцуя, в угол зала к свободному столику.
– Садись! – приказал он ей. – Ты грязная шлюха!
Она не ответила, лишь незаметно огляделась вокруг, не слышал ли кто.
– Ты грязная шлюха. Что, обиделась? Не понимаешь, почему я это говорю?
– Джорджо… – тихо произнесла она.
– Что у тебя с Джорджо? Уже было что-нибудь?
– Ничего. Ты должен знать, что у меня ничего ни с кем не было никогда.
– А после того?
– Ничего ни с кем.
– Однако Джорджо уже близок к цели, – сказал он. – Очень близок, а?
Ванда открыла было рот, чтобы ответить, но промолчала и стала поводить плечами в такт музыке.
– Перестань или я сейчас схвачу тебя за горло!
Она перестала даже дышать.
– Ты кто? Женщина или сука? Сука. Почему ты переметнулась к Джорджо?
Тогда она ответила:
– Ты не хочешь, чтобы я была твоей навсегда, ведь так? Я думала об этом и решила тебя бросить, прежде чем ты бросишь меня. Ты свое уже получил.
– Почему ты начала со мной первым?
– Ты мне нравился и сейчас нравишься, ты мужчина моего типа. И я отдала тебе то, что тебе причиталось.
Он схватил ее руку и изо всей силы прижал к столу – он видел по дрожащим уголкам губ, что она едва удерживает крик. Потом сказал:
– Я не позволю тебе этого; пока я жив, ты не будешь сукой. Того, что мне причитается, я еще не получил. Это никогда не кончится. Когда ты умрешь, тогда кончится. И мне не надо жениться на тебе, чтобы удержать.
– Нет, – сказала она.
Этторе еще сильнее сжал ей руку, рот у Ванды медленно раскрылся, и из него вырвалось очень долгое и совсем тихое «а-а-а!», как вздох.
– Ты будешь со мной, и нас будет только двое на всем свете. Ты будешь со мной – не важно, по любви или из страха: я могу заставить тебя испытать и то и другое. Будешь со мной и не раскаешься.
Она тихо напомнила:
– Руку, Этторе.
Он слегка приподнял ладонь, но руки ее не выпустил.
– Ты меня любишь? – спросила она.
– Пока ты мне нравишься, только нравишься, я не стану тебе врать. Но если ты останешься со мной, ты не пожалеешь.
Ванда чуть улыбнулась и ответила:
– А под конец окажусь с пустыми руками… – Ее переполняли грусть, нежность и желание жертвовать собою.
У него язык присох к гортани, и, с трудом им ворочая, хриплым голосом он ответил:
– Я – это не пустые руки.
Тогда она сказала:
– Хорошо, давай станцуем этот слоу.
* * *
Этторе вошел во двор, где играли в лапту, посмотреть на решающий удар. Вскоре игра кончилась, и державшие пари стали рассчитываться. Он поискал глазами Пальмо и вскоре нашел его. Тот, вытащив большую пачку тысячных бумажек, отсчитывал их человеку, стоявшему перед ним с протянутой рукой. Этторе пришел в ярость и мысленно обозвал его идиотом – только идиот способен держать напоказ такие деньги. Пусть лезет добровольно в петлю, если ему нравится, но с ним связаны другие люди, это не игра в бирюльки.
Этторе подошел к Пальмо, чтобы узнать о Бьянко:
– Ты, значит, ставил на красных?
– Сегодня у меня несчастливый день, – ответил Пальмо.
– Сколько ты проиграл?
– Пятнадцать тысяч, – ответил Пальмо равнодушно, – плевать мне на проигрыш. Тем более что я их быстро верну. Ты тоже можешь ставить и проигрывать, если тебе хочется.
Этторе отвел его в сторону.
Пойдем за колонну. Что задумал Бьянко?
Пальмо на него не смотрел, он не сводил глаз с площадки, где игроки готовились к новой партии.
– Ты знаешь кого-нибудь, кто разбирается в кокаине?
Этторе сразу же подумал о химике Фараоне, но лишь спросил:
– А что, будет дело с кокаином?
– Ты знаешь кого-нибудь, кто разбирается в кокаине? – повторил Пальмо.
– Об этом я скажу только Бьянко. Иди ставь по новой и проигрывай, идиот. Уже начинают.
Этторе вышел со двора и направился к месту встречи с Вандой. Она была уже там, он увидел ее издали, на ней было все то же платье, что и десять предыдущих воскресений, и он засопел от досады, готовый наброситься на нее за это. Но тут же подумал: «Это подло. Злиться на женщину лишь потому, что у нее мало платьев, – подло. Теперь, когда я разбогател, я мог бы дать ей денег, чтобы она оделась с головы до ног. Но лучше пока не рисковать – пусть все идет, как идет».
Когда он подошел к Ванде, она сказала ему:
– Ты красивый, Этторе. Я смотрела на тебя издали.
Он взял ее под руку и повел по улице, все время ощущая близость ее тела.
Она молчала, потом сказала, не поднимая глаз:
– Может, лучше тебе пойти на спортивную площадку или в кафе, чем гулять со Мной? Там тебе будет веселее.
– Почему ты так говоришь?
– Сегодня у нас ничего не выйдет: я нездорова.
Этторе слегка отстранился.
– Я так и знала, – сказала Ванда. – Иди куда тебе хочется, оставь меня здесь, я одна вернусь, не беспокойся.
Теперь Этторе сжимал ей руку еще сильнее прежнего.
– Ничего, – сказал он. – Думаешь, я не могу побыть с тобой, не притрагиваясь к тебе? Я люблю тебя, вбей себе это в голову. И мне приятно просто глядеть на тебя.
– Ты работаешь всю неделю, и в воскресенье тебе надо развлечься.
Он уже закипал, и Ванда от страха сбилась с шага.
– Я до того в тебя влюблена, что пугаюсь из-за малейшего пустяка.
– Я люблю тебя, – сказал он громко. – Иди и не заставляй меня больше повторять, что я тебя люблю.
Всю дорогу к реке Ванда чувствовала себя счастливой. Когда сквозь деревья замелькала вода, Этторе стал серьезным и спросил Ванду, помнит ли она, когда они были здесь в последний раз.
– Весной, – с готовностью ответила она. – Разве ты не помнишь?
– Нет.
– Правда?
– Я же сказал: нет.
– Ты разве не помнишь, как мы пришли сюда в субботу вечером и устроились на самом краю обрыва, чуть двинешься посильнее – и свалишься в воду. Не знаю, что тебе пришло в голову, только ты сказал: «Пусть все души утопленников видят нашу любовь». Я испугалась и убежала, а ты догнал меня и… побил.
Он посмотрел на воду и сказал:
– Помню. Я ненормальный. Но в этом виновата ты и еще что-то, что живет в твоем теле.
Они стали выбирать место на берегу реки, чтобы усесться. Он опустился рядом с ней и ощутил, как его пробирает дрожь, словно ее нездоровье передавалось и ему.
Он стал смотреть на воду – чувствовалось, какая она студеная.
– Посмотри, пожалуйста, на меня, – попросила Ванда, – ты глядишь только на реку.
Этторе взглянул, и руки у него сами собой пришли в движение; чтобы как-то занять их, он полез в карман за сигаретами и спичками.
Она тронула его за локоть.








