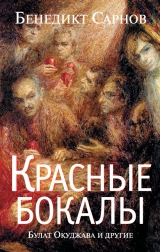
Текст книги "Красные бокалы. Булат Окуджава и другие"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Такой у них был порядок.Но порядок этот распространялся лишь на официальные, как бы юридически обоснованные способы решения каждой такой время от времени возникающей проблемы, и это отнюдь не означало, что они отказались от других, неофициальных, вполне бандитских.
В мае 1975 года два не очень чиновных,
но и отнюдь не рядовых сотрудника КГБ уговорили Войновича встретиться с ними в одном из номеров гостиницы «Метрополь» для приватной беседы. Как вскоре выяснилось, беседа эта была лишь поводом для встречи, а истинная цель «людей из КГБ» состояла в том, чтобы отравить зарвавшегося диссидента. Не в каком-нибудь там иносказательном, а в самом прямом, буквальном смысле этого слова.
Примерно в то же время (чуть позже) два других бандита из того же ведомства проломили череп моему приятелю и соседу Константину Богатырёву. Случилось это на лестничной площадке Костиного подъезда, прямо перед дверью его квартиры. Удар бутылкой по голове был нанесен профессионалом, и Костя выжил только потому, что у него было не совсем обычное строение черепа. Врачам больницы, куда его отвезли, откровенно дали понять, что если удар этот начисто отбил у него память – ладно уж, пусть живет. Но если кое-что о происшедшем он все-таки сможет припомнить, тогда уж лучше им не стоит особенно усердно бороться за его жизнь. Вняли врачи этому совету или Костю и без того уже невозможно было спасти, но из больницы живым он уже не вышел.
Тут, как вы понимаете, схема дяди Сандро уже не работает.
Никакой «человек из партии», будь это даже сам генеральный секретарь, не мог позвонить по телефону в КГБ и распорядиться: Войновича отравить, а Богатырёву ударом бутылкой по голове размозжить черепную коробку. Ну а уж о том, чтобы дать такое указание в письменном виде, сохранив такой документ – хотя бы даже под грифом «совершенно секретно» и «особая папка», – и вовсе не могло быть и речи.
Но какая-то негласная санкция на операции такого рода, наверно, все-таки была дана. Во всяком случае, это входило в условия их профессии, и тот же дядя Сандро прекрасно это понимал. Потому и сказал племяннику: «Ты прав, КГБ надо бояться».
Заглянув однажды в ЦДЛ,
я наткнулся на знакомого поэта: мы вместе когда-то учились в Литинституте. Поэт этот когда-то подавал надежды. Потом перестал подавать. Опустился, стал пьяницей. Давно уже ничего не писал. Постоянно околачивался в писательском клубе, выклянчивая у знакомых – у кого пятерку, у кого трешку. Вот и сейчас, столкнувшись со мной, он попытался вытянуть из меня хоть рублишко. Но я вынужден был отказать ему, поскольку месяца за два до этой нашей встречи дал ему десятку и он, сильно упившись, сделал попытку выброситься из окна. После этого случая его жена взяла с меня клятву, что я больше никогда, как бы он ни умолял, не дам ему ни копейки.
– Ну ладно, – легко принял он мой отказ. – Тогда хоть пивком угости.
Я купил в буфете две бутылки пива, мы взяли стаканы и присели за свободный столик.
Говорить мне с ним было не о чем, но о чем-то говорить все-таки нужно. Я спросил:
– Ну, что у тебя нового?
Вяло, как-то очень буднично, словно речь шла о самом обыкновенном деле, он сообщил:
– Покушение на меня было.
– Как покушение? – изумился я. Кто мог на него покушаться? Зачем? Кому он был нужен?
Но он – так же буднично, как о чем-то само собой разумеющемся – дал понять, что покушение на него устроили они. Те самые они, которые когда-то в Болгарии укололи кого-то зонтиком, а совсем недавно чуть не укокошили римского папу. В зонтике, как известно, был смертельный яд. Каким способом собирались убить папу, он не знал. А к нему изобретательные ониприменили особый, до сих пор еще ни разу не применявшийся способ.
– Представляешь, – рассказывал он, – сел я в автобус. И только он тронулся, выбегает на дорогу какая-то баба и кидает прямо под колеса корыто. Ну, самое обыкновенное корыто, в котором стирают. Еще миг, автобус перевернулся бы и – кранты!
– А ты разве один был в том автобусе? – спросил я.
– Какой один! Человек двадцать было.
– Так ведь не только ты, все погибли бы, – сказал я, пытаясь тем самым осторожно намекнуть на некоторую несостоятельность его версии. Но он посмотрел на меня как на несмышленыша:
– А им что, жалко, что ли?
Как ни комичен был этот рассказ забулдыги-поэта, последняя его реплика очень точно отражала реальность.
Зачем им понадобилось травить Войновича, понять было нетрудно. Своим активным противостоянием режиму он торчал у них как кость в горле. Вот кто-то и намекнул, что не худо было бы заткнуть ему рот – сделать инвалидом или даже отправить на тот свет.
Но безобидного Костю Богатырёва, который никакой диссидентской деятельностью не занимался (разве вот только «настроений» своих не скрывал, так их тогда уже многие не скрывали), – его-то зачем понадобилось убивать?
Реплика забулдыги-поэта («А им что, жалко, что ли?») тут не все объясняла.
Цель этого зверского убийства была очевидна. Им надо было припугнуть распоясавшихся интеллигентов – не столько даже тех, кто уже ушел «в диссиденты», сколько сочувствующих им, а может быть, даже и готовых пополнить их ряды.
Намеченной для этой цели жертвой мог стать кто угодно. И никого из тех, на кого мог пасть их выбор, им, конечно, не было жалко.
Костя годился на эту роль, казалось бы, менее, чем любой другой из возможных кандидатов.
Почему же они выбрали именно его?
Можно было, конечно, нанести удар в самое сердце
диссидентского движения – тем же бандитским способом устранить Сахарова или Солженицына. И такие попытки делались. В октябре 1973-го на квартиру Сахарова с угрозой его жизни напали «арабские террористы». Ни у кого не возникло тогда ни малейших сомнений, что никакие арабские террористы тут ни при чем, что операция эта разработана в КГБ и выполнена его агентами. И тем не менее Солженицын счел все-таки нужным поставить все точки над i, внеся в это дело уже полную, окончательную ясность: обратился к Андрею Дмитриевичу с открытым письмом (оно тотчас же было напечатано по-английски в “New York Times”), в котором писал:
...
…Я утверждаю, что в нашем отечестве при условии сквозной слежки и подслушивания, какие установлены за Вами, такое покушение невозможно без ведома и поощрения властей. Если б оно было независимым и для властей нежелательным, многочисленным штатам не составляло никакого труда пресечь его перед началом, в полуторачасовом ходе или тотчас по окончании задержать преступников. Посмели б они у нас пошевельнуться, не получив разрешения! – нелепо и подумать знающему наши условия.
Но это – новейший прием. Свободному слову свободного человека – что противопоставить? Аргументов нет, ракеты неприменимы, решетка ущербна для репутации, остается наемный убийца.
Такое же резкое и определенное заявление он сделал, когда сходная бандитская акция была нацелена в него самого. Сразу на весь мир объявил: знайте, мол, что ни один волос с моей головы не упадет без ведома и участия КГБ.
Нет, с Сахаровым и Солженицыным расправиться таким бандитским способом, как это сделали с Костей, гэбэшники не могли. Даже операцию с отравлением Войновича не решились довести до конца, рассчитывая, что, даже если Войнович осмелится предать это дело гласности, никто ему не поверит: сочтут плодом его больного воображения или разгулявшейся писательской фантазии, очередной войновической сатирой. Многие, кстати, именно так тогда это и восприняли (Мессерер, Аксёнов).
Зверское убийство такого человека, как Костя, представлялось имнаиболее выигрышным вариантом. С одной стороны, те, кому это их «послание» было адресовано, не могли не понять, кем была совершена эта злодейская акция и зачем. С другой же стороны, ей легко было дать другое, самое простое, бытовое объяснение: пошел в магазин купить бутылку, задрался там с какими-то забулдыгами, они его выследили и кокнули.
Все это, конечно, было шито белыми нитками. Но именно вот такие белые нитки тут и были им нужны.
Спустя годы, когда мы с Войновичем вспоминали Костю и ужасную его смерть, он сказал:
– Я тогда боялся, что они и с тобой что-нибудь такое же сделают.
Вообще-то разделаться таким образом со мной оснований было не меньше, чем с Костей.
Костя мог вызвать раздражение и повышенный интерес органов разве только тем, что позволял себе время от времени посещать Андрея Дмитриевича Сахарова.
Я с Сахаровым в то время был уже знаком: встречался с ним у Войновича, у Галича, а потом – совсем уже часто – у Биргера. Но в гости к нему никогда не ходил.
А вот моя близость с Войновичем могла раздражать их, пожалуй, даже больше, чем Костины визиты к Сахарову.
Войнович называл себя «диссидентом поневоле» и по размаху и масштабу своей диссидентской деятельности, конечно, не мог сравниться с Сахаровым или Солженицыным. Но по некоторым причинам, в суть которых я сейчас вдаваться не буду, был для органов таким же предметом постоянного внимания и неустанных забот, как эти двое.
С результатами этих их забот я сталкивался на каждом шагу, а однажды стал даже непосредственным их виновником.
В то время в Москве было уже трудно с продуктами
Нет, они еще не исчезли совсем с магазинных прилавков, но добывать их с каждым днем становилось все труднее, требовалось все больших усилий, энергии и разного рода ухищрений. Нас (меня и жену) от этих забот избавила наша подруга Ирина Эренбург.
К ней раз в неделю приезжал, как она говорила, ГУМ и привозил, как это тогда называлось, заказ. ГУМ – это была кличка, а звали его Андрей (продукты, которые он привозил, и в самом деле были из ГУМа).
С этим Андреем отношения у Ирины сложились особые: она когда-то продала ему по дешевке старую эренбурговскую машину, и ей он ни в чем не мог отказать. И вот она сосватала нам этого своего Андрея. И он стал нам тоже – за небольшую мзду – раз в неделю привозить картонный ящик, набитый продуктами, в большинстве тогда уже малодоступными. А мы сосватали этого Ирининого (теперь уже и нашего) Андрея Войновичам.
Но Ире и Володе недолго пришлось пользоваться его услугами. После первого же (может быть, не первого, а второго, но точно не третьего, до третьего дело не дошло) его к ним визита при выходе из подъезда Андрея подхватили двое сотрудников известного ведомства, залучили в какой-то укромный уголок и на присущем им языке объяснили, что если он еще раз появится в этом подъезде, то не только лишится своей прибыльной работы, но и вообще костей не соберет.
Не знаю, подтвердили они эту свою угрозу физическими действиями (думаю, что подтвердили), но напугали до смерти.
После этого преподанного ему наглядного урока Андрей не только в войновичевском, но и в нашем подъезде уже не появлялся. А через Ирину нам передал, что мы мало того что нехорошо с ним поступили и сильно его подставили, еще и показали себя в этой истории полными дураками. Делали бы ему двойной заказ, а потом делились бы хоть с теми же Войновичами, хоть бы даже и с самим Сахаровым, и все было бы тип-топ. А после того, как с ним «поговорили», он уж извините – не то что заходить в наш дом, но даже и глядеть в его сторону не станет.
Были и другие эпизоды в том же роде, из которых особенно запомнился мне такой.
В том подъезде, в котором после событий, описанных в войновической «Иванькиаде», поселились Володя с Ирой и маленькой Олей, жили Шкловские. И Виктора Борисовича довольно часто посещали разные иностранцы. И вот однажды появилась у него молодая славистка-итальянка, привлеченная мировой славой одного из отцов русского формализма и предтеч современного структурализма.
Все было очень мило. Серафима Густавовна состроила чайный стол, Виктор Борисович с приезжей гостьей был ласков, просил при случае заглянуть к нему еще разок-другой. Очарованная русским гостеприимством и еще не остывшая от радости общения с живым классиком итальянка вышла из подъезда… Но не успела сделать и двух шагов, как ей пришлось познать еще одну, совсем другую форму русского гостеприимства. Кто-то сзади шандарахнул ее по голове – нет, наверно, все-таки не бутылкой, а чем-нибудь полегче, – и не такой ласковый, как у Виктора Борисовича, голос объявил ей, что если она еще хоть раз посмеет появиться на квартире у Войновича, то уж тогда так легко не отделается. Сказано это было не по-итальянски, а по-русски. Но главное она поняла (славистка все-таки) и хорошо усвоила.
Двух этих сюжетов, я думаю, довольно, чтобы показать, что близость к Войновичу была тогда, мягко говоря, небезопасна. А мы с ним были, что называется, не разлей вода. Виделись по нескольку раз на дню, благо жили в одном доме.
Когда у Войновича в наказание за какую-то очередную его диссидентскую эскападу отключили телефон, все, кому он бывал нужен, звонили мне. И все разговоры, связанные – прямо или косвенно – с его диссидентской деятельностью, вели по этому моему телефону – не стесняясь, в открытую.
Для примера приведу только один такой разговор, наверно, самый безобидный.
Позвонил Фридрих Горенштейн и с ходу, без лишних предисловий, попросил меня, чтобы я свел его с Войновичем. Я осторожно поинтересовался, на какой предмет он хочет с ним встретиться. Он сказал, что принял твердое решение уехать из страны и хочет попросить Войновича, чтобы тот, пользуясь своими связями, добыл для него вызов из Израиля.
Я сказал, что для этой цели встречаться с Войновичем ему совсем не обязательно, вполне можно обойтись и без него. Закончили мы разговор на том, что давно не виделись, надо бы повидаться. Намек он понял (наверняка его поняли и те, кто слушал этот наш разговор, но тут уж поделать я ничего не мог) и вскоре нанес мне визит, и тут я уже открытым текстом, без всяких намеков, сказал ему, что и без Войновича, своими средствами, вызов из Израиля я ему добуду. Есть, мол, у меня такая возможность.
Возможность эта состояла в том, что я был хорошо знаком с математиком Виктором Браиловским, главным (после отъезда Саши Воронеля и Марка Азбеля) из остававшихся тогда в Москве борцов за выезд советских евреев на свою «историческую родину». Витя достался мне в наследство от Воронеля, а встречался я с ним у Гены Файбусовича (будущего Бориса Хазанова), с которым они были соседями.
При первой же встрече я передал ему просьбу Фридриха, объяснив, кто он такой и почему к его просьбе надо отнестись с особым вниманием. (Фридрих решил начать наконец публикацию на Западе своих подпольных, хранящихся у друзей романов и повестей, а оставаясь в отечестве на это не отваживался.)
Витя записал с моих слов все данные в свой блокнот. Оставалось ждать.
Но ждать Фридриху было невтерпеж. Спустя три недели он снова позвонил мне и так же – с ходу, ни здрасьте, ни до свиданья – открытым текстом:
– Ну что же там ваши в Израиле? Ну, те, с кем вы имеете дело. Почему они не чешутся? Вы можете им объяснить, что прислать мне вызов надо как можно скорее?
Другие мои телефонные разговоры, связанные с делами Войновича, были не такими простодушными, велись сложными намеками и эвфемизмами и потому были, наверно, даже более опасными.
Еще опаснее были наши дальние поездки – вдвоем – на его машине: то в Запорожье, то в Керчь, где жили (то и дело переезжая с место на место) его родители с младшей его сестренкой Фаиной. У них постоянно возникали какие-то проблемы, иногда связанные с его диссидентской деятельностью, а иногда и не связанные, которые они сами навлекали на свою голову, в чем были большими умельцами. Ездить к ним и по возможности улаживать все эти неурядицы ему было необходимо, а отпускать его в эти дальние поездки одного Ира смертельно боялась, не без оснований опасаясь, что одинокому путнику в автомобиле легко можно устроить какое-нибудь дорожное происшествие с летальным исходом. А если Володя поедет не один, а со мной, думала она, онина такое не решатся. Тут она, скорее всего, заблуждалась («Что им, жалко, что ли?»), но так ей было спокойнее.
Было еще много такого в тогдашнем беспечном моем поведении, из-за чего у Володи были основания опасаться, что со мной онимогут сделать то же, что сделали с Костей.
Что касается меня, то я – по легкомыслию, а отчасти и по недомыслию – совсем этого не опасался, считая себя слишком мелкой и незначительной фигурой и не понимая, что именно в этом как раз и состояла опасность тогдашнего моего положения.
Оказаться на месте Кости я мог именно потому, что, как и он, был мелкой и незначительной фигурой.
По каким-то своим соображениям онивыбрали его.
А могли выбрать и меня. «Свободная вещь», как любил говорить Андрей Платонович Платонов.
Сейчас, задним числом, я и сам не понимаю, как я мог тогда этого не бояться. А на самом деле я не то чтобы не боялся, а просто не принимал во внимание возможность применения такого варианта к своей персоне, исходя из самоощущения, суть которого замечательно выразил Иосиф Бродский: «Смерть – это то, что бывает с другими».
А Булат глядел дальше меня. Лучше понимал эту ситуацию.
Собственно, это было даже не понимание, а чувство. Чувствовал же он себя так, словно это ему, а не своему племяннику, описавшему его жизнь, сказал дядя Сандро: «Ты прав. КГБ надо бояться».
Но бояться – не значит превратиться в «тварь дрожащую». Ведь храбрец – не тот, кто не боится, а кто умеет преодолеть, превозмочь свой страх.
Булат это умел. В иных крутых ситуациях вел себя мужественно и даже смело. От того, что считал нужным сделать, не уклонялся.
А чего это ему стоило, что он при этом чувствовал – уже другой вопрос. В чувствах наших мы не вольны, с ними совладать труднее, чем с доводами рассудка.
Мне было легче, чем Булату. Мне не было нужды преодолевать свой страх: у меня его не было. Я жил и чувствовал в точном соответствии с известным присловьем:
Ходит птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий.
Это беспечное жизнеощущение меня не украшает, но оно избавило меня тогда от многих тяжких терзаний и переживаний.
Булату пришлось гораздо труднее, чем мне: оптимисту всегда легче жить, чем пессимисту.
Но разность наших жизнеощущений была не в том, что я по складу характера был оптимистом, а он пессимистом. Дело тут было не в разности наших характеров, а в том, что у нас были разные биографии, разный социальный опыт.
Когда мы с Булатом работали в «литгазете»,
начальники наши (руководители отдела литературы) подолгу на своем месте не задерживались. А однажды пришлось нам даже пережить период довольно длительного безначалия. И тут в один совсем не прекрасный день главный редактор газеты Валерий Алексеевич Косолапов позвал меня к себе в кабинет и официально предложил временно (ну конечно, временно) взять руководство отделом на себя.
Деваться мне было некуда, я согласился.
Так я (к счастью, ненадолго) стал начальником.
И тут, сразу же, разыгрался эпизод, надолго сохранившийся в анналах той старой «Литгазеты», – в сокровищнице тогдашних наших устных преданий.
В первый же день моего начальствования явился ко мне секретарь парткома по кличке Маленький. Кличку эту он получил по причине малого роста, но, быть может, и не только поэтому: во всяком случае, она как-то удивительно хорошо к нему пристала.
Это был довольно пожилой, невзрачный, седоватый человечек в очках. И внешность его, и повадки, да и должность, которую он занимал (под его началом было бюро проверки и вся наша литгазетская библиотека, большинству книг которой полагалось находиться в спецхране), не оставляли сомнений в его прочных служебных связях с нашими славными органами.
До моего выдвижения в начальники мы с ним просто кивали друг другу, встречаясь в коридоре. И были, разумеется, на «вы». А тут, явившись в мой большой начальственный (на заре моей литгазетской деятельности в нем сидел Юрий Бондарев) кабинет, он с ходу перешел на «ты».
– У меня, – начал он, – к тебе серьезный разговор.
Я сообразил, что эта новая моя, хоть и временная, но все-таки начальственная должность как бы сама собой предполагает такое доверительно-партийное обращение, и тотчас принял заданный им тон:
– Слушаю тебя.
– Положение у тебя тяжелое, – продолжил он.
Я кивнул, пребывая в уверенности, что за этим последует набор обычных партийных банальностей: надо, мол, взяться, мобилизоваться, включиться… В общем, все, что у них там полагается говорить в подобных случаях.
Но тут – совершенно для меня неожиданно – разговор принял другое, сугубо конкретное направление.
– Так вот, учти, – вдруг сказал он. – На хромой лошади ты далеко не уедешь.
Тут я сразу сбился с официального партийного тона:
– А кто это – хромая лошадь? Что вы… Что ты этим хочешь сказать?
– А то, – объяснил он, – что у тебя в отделе один коммунист, и тот Непомнящий!
С этой точки зрения я, признаться, не глядел на трудности, ожидающие меня на моем новом поприще.
У меня и в мыслях никогда не было, что качество работы нашего отдела хоть в какой-то степени зависит от количества и качества имеющейся в нем партийной прослойки. Но Маленький – похоже, не только по своей партийной должности, а вполне искренне – именно из этого исходил в своем понимании стоящих передо мною проблем.
Для меня все, что он говорил, с чем ко мне пришел, было набором пустых фраз, которые полагалось произносить, но не имеющими никакого реального значения и смысла: в жизни эти рычаги давно уже не работали. И сам Маленький поэтому представлялся мне фигурой комической, едва ли не реликтовой. Когда-то, когда эти партийные рычаги еще работали, он, пользуясь ими, видимо, обладал немалой силой. Но теперь все это в прошлом. Время его прошло и уже не вернется.
Жизнь показала, как глубоко я заблуждался.
Система фраз, на которую он опирался, не так скоро, как я предполагал, но все-таки и впрямь ушла, канула. Но у Маленького, помимо партийных, были в запасе еще и другие рычаги.
Вот что я прочел в недавно вышедшей и только что подаренной мне автором – Геннадием Красухиным – книжечке его воспоминаний о Булате.
...
Первый год моей работы в «Литературной газете» оказался последним годом пребывания на посту парторга газеты Евгения Дмитриевича Фёдорова, директора библиотеки, бывшего чекиста, который работал в газете еще вместе с Булатом Окуджавой. О Булате я вспомнил в связи с тем, что он мне о Фёдорове рассказывал, как тот кому-то отозвался о нем: «А я люблю работать с такими, как Окуджава». «Почему?» – спросили его. «У него жилка надорвана: родителей посадили, слегка потянешь за жилку, и он сам тебе в руки падает!» Знал бы Фёдоров, какими канатными были жилы у Булата!
(Геннадий Красухин. Портрет счастливого человека. Книжечка о Булате. М., 2011)
Что-то в Булате старый чекист опытным своим чекистским взглядом разглядел, «верхним» своим собачьи чутьем учуял. Но силу его сопротивляемости недооценил.
«Канатными» жилы у Булата, конечно, не были. Но в убеждениях своих он был тверд, несгибаем. Умел не поддаться никакому давлению, с какой бы стороны на него ни давили.
Часть вторая
Какое б новое сраженье
ни покачнуло шар земной…
Булат Окуджава
Биографическую книгу не обязательно начинать
днем рождения героя.
Можно начать с рассказа о его родителях или даже предках. Можно пойти еще дальше, погрузившись в глубь веков и даже тысячелетий, как это сделал Горький, начиная свою так им и не написанную биографию Сталина:
...
Иосиф Сталин-Джугашвили родился в Грузии, стране, которую древне-греческие писатели называли Иверия и Георгия… Грузия расположена за хребтом Кавказских гор, по бассейнам рек Чороха, Риона и Куры. Первые две реки впадают в Черное море, Кура – в Каспийское. Греки именовали Рион – Фазисом, и с этой рекой связана древняя легенда о походе аргонавтов за золотым руном. Легенда эта, вероятно, имеет историческое основание: аджарские горы, один из отростков Кавказского хребта, содержат золото, которое греки промывали, пропуская по коже барана, крупинки золота задерживались шерстью, отсюда – золотое руно. Грузины поселились в Закавказье в VII веке до нашей эры, но история их не говорит, откуда они пришли. Исторические ее памятники уничтожены за время бесчисленных нападений и грабежей Грузии парфянами, персами, войсками Александра Македонского, римского полководца, впоследствии императора Помпея, затем – арабов, снова персов и турок. В общем история этой небольшой, но прекрасной и богатой страны есть история грабежа ее и различных насилий над нею. В конце ХVIII в. царь Грузии и дворянство решили просить защиты у России, и в 1801 г. Грузия была присоединена к владениям русского царя. Этот акт неплохо устраивал грузинское дворянство, но, само собой разумеется, ничем не мог облегчить каторжную жизнь крестьян и ремесленников.
(Максим Горький. Неизданная переписка. М., 2000)
У Горького были свои причины, побудившие его так необычно, из такого далекого далека начать: уж больно не хотелось ему писать биографию вождя, и он изо всех сил оттягивал тот момент, когда неизбежно придется приступить к жизнеописанию героя книги. Но в принципе и такой далекий заход возможен.
Возможен и другой, противоположный путь: начать жизнеописание героя не с начала его жизненного пути, а с середины, с самой значимой для всей его жизни даты. Применительно к Окуджаве такой датой мог бы стать год расстрела его отца и ареста матери (1937) или 22 июня 1941 года – дата, определившая судьбу всего поколения, к которому принадлежал Булат.
Дмитрий Быков свою большую (по меркам серии ЖЗЛ, для которой она была написана, даже огромную) биографию Булата начинает совсем другой датой: с октября 1993 года.
Что же такое случилось в этот день, из-за чего автору книги понадобился такой неожиданный сюжетный кульбит?
...
4 октября 1993 года правительственный кризис в России разрешился расстрелом Белого дома – здания парламента России, где засела оппозиция. Итогом долгого противостояния между президентом Ельциным и вице-президентом Руцким (сторону последнего взял парламент во главе со спикером Русланом Хасбулатовым) стал указ президента от 21 сентября о роспуске парламента. В ответ парламентарии стали вооружать своих сторонников, стекавшихся к Белому дому не менее активно, чем в августе девяносто первого… Командиром гражданского ополчения, собравшегося у Белого дома, был назначен генерал Альберт Макашов, известный откровенным антисемитизмом… Постепенно российский парламент становился центром сопротивления ельцинизму, в каковое понятие включались грабительские реформы, разнузданность демократических свобод и коррупция, все черты российской революции девяностых.
3 октября оппозиция перешла в наступление. Началась перестрелка с охранниками московской мэрии… В ту субботу Москва превратилась в арену настоящей гражданской войны. Армия отказывалась выполнять приказы… Генерал армии Грачёв (год спустя он прославится бездарнейшим «новогодним» штурмом Грозного) лично выехал в войска. Таманская дивизия после нескольких часов уговоров, шантажа и прямого подкупа двинулась на Москву.
К этому времени повстанцы уже осадили Останкино, грузовиком протаранив стеклянный вход. В районе телецентра всю ночь шла перестрелка. Функционировал единственный телеканал – Российское телевидение, созданное за три года до событий. Оппозиция уже поговаривала о походе на Кремль… В то же время в прямом эфире все того же российского телеканала выступили «прожекторы перестройки» – создатели и ведущие программы «Взгляд» Александр Любимов и Александр Политковский. Они предложили москвичам спокойно лечь спать и не участвовать в уличных боях; с их точки зрения, такое участие превращало людей в заложников политического противостояния двух заведомо нелегитимных и аморальных сил. Эта надсхваточная позиция у многих вызвала недоумение, но впоследствии оказалась самой дальновидной.
(Дмитрий Быков. Булат Окуджава. М., 2009)
Здесь что ни слово, то злая неправда.
Даже внешний рисунок хода событий в этом изложении сильно искажен. А уж смысл их, самая их суть – те и вовсе бесконечно далеки от реальности.
На самом деле в основе «правительственного кризиса, разрешившегося расстрелом Белого дома», лежало не противостояние между президентом Ельциным и вице-президентом Руцким, а куда более серьезное и глубокое противостояние между президентом и Верховным Советом. Роль вице-президента Руцкого в этом противостоянии была так же ничтожна, как два года назад роль другого вице-президента – Янаева – в путче ГКЧП.
Защитников Белого дома, съехавшихся (преимущественно из Приднестровья), чтобы принять участие во второй (после путча ГКЧП) попытке коммуно-фашистского реванша, не то что неправомерно, а прямо-таки кощунственно именовать «гражданским ополчением».
Возглавивший это «ополчение» генерал Альберт Макашов действительно был известен своим откровенным антисемитизмом. Но не попытку еврейского погрома он возглавил в тот день, а попытку государственного переворота, главной целью которого было восстановление во всей его красе насквозь прогнившего и только что рухнувшего советского режима.
«У нас не будет ни мэров, ни херов!» – орал он, когда на грузовике во главе банды до зубов вооруженных боевиков мчался в Останкино, чтобы захватить телебашню. Я слышал это своими ушами и своими глазами видел его перекошенную ненавистью морду, пока экран моего телевизора еще не погас.
Тезис Быкова о «политическом противостоянии двух заведомо нелегитимных и аморальных сил» не только ложен, но и лжив. Это я говорю (пока) не об интерпретации, не об оценке (оценки могут быть разные), а только лишь о фактической стороне дела. Легитимность президента была несопоставимо выше легитимности Верховного Совета. Не столько даже потому, что он был «всенародно избранный», сколько по той куда более важной причине, что народ результатами только что прошедшего тогда референдума недвусмысленно высказался «за Ельцина», решительно и категорично поддержав все его реформы, включая экономические (по терминологии Быкова, «грабительские»), на что тогда даже самые ярые сторонники этих реформ не слишком рассчитывали.
На том референдуме я был наблюдателем от партии Гайдара.
Мы с женой пришли на избирательный участок ни свет ни заря. И тут же появилась первая избирательница – совсем простая женщина, сильно пожилая, можно даже сказать, старуха.
– Я за Ельцина, – с ходу объявила она. – Подскажите, что и где мне тут надо пометить.
Я начал было ей это объяснять, но мне не дали. Вся избирательная комиссия встала на дыбы. В один голос они стали орать, что это нельзя, что в день голосования всякая агитация запрещена. Я пытался втолковать им, что мои намерения объяснить старухе, что ей надлежит сделать, чтобы выразить свою волю, никакой агитацией не являются: как – за кого – она хочет проголосовать, она ведь уже сама объявила. Но члены комиссии тупо стояли на своем.








