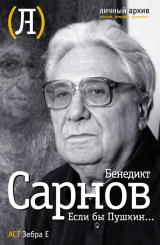
Текст книги "Если бы Пушкин…"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
И по прошествии некоторого времени тело его покойной супруги нашли.
...
Не будем особенно сгущать краски и описывать психологические подробности, скажем только, что инженер Горбатов тут же на берегу подошел к своей бывшей подруге и остановился подле нее…
…и тут полная гримаса отвращения и брезгливости передернула его интеллигентские губы. Носком своего сапожка он перевернул лицо утопленницы и вновь посмотрел на нее.
После этого он наклонил голову и тихо прошептал про себя:
– Да… это она.
Снова брезгливость передернула его плечи. Он повернулся назад и быстро пошел к лодке…
А недавно его видели – он шел по улице с какой-то дамочкой. Он вел ее под локоток и что-то такое интересное вкручивал.
Как видим, взгляд зощенковского героя остается неизменным, на кого бы он ни глядел, на никому не известного инженера Горбатова или на всемирно знаменитого английского поэта. На двух жильцов коммунальной квартиры, поссорившихся из-за ежика, которым примус чистят, или на императрицу Екатерину Вторую и княжну Тараканову, не поделивших царский престол.
Никаких высоких чувств, никаких возвышенных побуждений в мире не существует. Ни любви. Ни дружбы. Ни долга. Ни интересов, вызванных так называемой государственной необходимостью. Есть только одна, единственная пружина, управляющая всеми поступками людей.
...
– Я, говорит, ну, ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем, то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.
«Нервные люди»
...
– Она выдает себя за дочку Елизаветы Петровны. Или, может, это действительно ее дочка. Только она метит на престол. А я этого не хочу. Я еще сама интересуюсь царствовать.
«Голубая книга»
В этом смысле зощенковский рассказчик действительно слегка напоминает аверченковского писателя Кукушкина. Тому, куда бы ни обращал он свой взор, всюду мерещилось лишь одно: высокая волнующаяся грудь и упругие бедра. Вот так же и герою Зощенко – куда бы ни направлял он свой взгляд – всюду видится лишь один-единственный стимул человеческого поведения: желание урвать лакомый кусок. Кусок может быть побольше или поменьше. Это может быть девять квадратных метров жилой площади. Или огромная империя, простершаяся «от финских хладных скал до пламенной Колхиды». Суть дела от этого не меняется.
Казалось бы, это лишний раз подтверждает, что цель у Зощенко и Аверченко одна. И состоит она в том, чтобы высмеять, сатирически разоблачить своего героя.
Интересно, а с какой же еще целью мог Зощенко заставить этого своего смехотворного героя глядеть на Александра Македонского, на Диогена, на Роберта Броунинга? Не Роберта же Броунинга хотел он разоблачить?
Представьте, именно его.
5
Зощенко вознамерился поглядеть на мир, на всю мировую историю, на все человечество (в том числе и на великого английского поэта) глазами рыбы с той самой целью, с какой некогда Свифт решил взглянуть на человечество глазами лошади.
Свифт решил рассмотреть основы человеческого бытия «с точки зрения лошади» вовсе не для того, чтобы сатирически разоблачить узость и ограниченность «лошадиного взгляда». Он хотел разоблачить человечество. Он хотел с помощью этого «лошадиного взгляда» остранить , то есть показать всю странность, всю нелепость, все уродство, всю ненормальность кажущихся нам естественными человеческих отношений, установлений, законов. Он хотел показать абсурдность и алогизм привычного, установившегося миропорядка. Более того: чудовищное уродство самого человека, этого омерзительного животного (йеху), самого гнусного и самого омерзительного из всех живых существ, какие только создала мать-природа.
Лошади Свифта (гуигнгнмы) – это, правда, не совсем лошади. Это, скорее, некие идеальные существа, принявшие обличье лошадей. Они на редкость благородны и простодушны. Им совершенно неведомы такие, как сказал бы Зощенко, «чисто человеческие» свойства, как, например, коварство и обман.
Хотя, если вдуматься, несомненное нравственное превосходство свифтовских гуигнгнмов над людьми объясняется все-таки именно тем, что они – лошади, то есть – животные. Ведь именно поэтому у них нет никаких иных потребностей, кроме потребности в самом необходимом. Именно поэтому они искренне не понимают, зачем йеху отбирают друг у друга разноцветные камешки, прячут их и даже зверски убивают друг друга из-за жалких побрякушек. Как все животные, едят они только для того, чтобы утолить голод. Поэтому им совершенно непонятно, как это за какое-нибудь изысканное блюдо из чисто престижных соображений можно заплатить столько, сколько за год каторжного труда не заработает целая семья. Опять-таки едят они только отборный овес, а пьют только чистую воду. Этой простой и здоровой пищи хватает на всех, поэтому у них не существует ни богатства, ни нищеты.
Это очевидное преимущество простой и естественной «животной» жизни над сутолокой человеческого бытия не укрылось и от глаз зощенковского героя.
...
Звери, например. Предположим, животные. Ну, там, скажем, кошки, собаки, петухи, пауки и так далее. Или даже в крайнем случае взять – дикие звери. Слоны там. Отчасти жирафы. И так далее.
Так у этих зверей, согласно учению Брема, ничего подобного вроде того, что у нас, не бывает. Они, как это ни странно, коварства почти не понимают. И там у них этого нету…
И жизнь у них протекает сравнительно гладко, без особого арапства, среди красивых картин природы, в тиши лесов и полей.
«Голубая книга»
Все это еще раз подтверждает, что у Свифта были довольно-таки серьезные основания для того, чтобы взглянуть на жизнь людей с точки зрения лошади. Он вполне резонно исходил из того, что в известном смысле эта точка зрения – более высокая, более естественная, более нравственная, чем привычная, человеческая. Он полагал, что с этой высоты он легче и скорее сможет увидеть и показать другим истину о человеке и человечестве.
Но какую, спрашивается, истину о человеке и человечестве можно увидеть, пытаясь взглянуть на этот серьезный предмет глазами зощенковского героя?
Неужели Зощенко всерьез полагал, что точка зрения его героя на ход мировой истории хоть в чем-то может оказаться выше той, к которой мы привыкли?
Нет, этого он не думал.
Но он всерьез полагал, что привычный высокий (то есть интеллигентский) взгляд на историю сильно искажает реальную картину далекого прошлого, поскольку интеллигенты тут «накрутили много лишнего». Он был уверен, что тусклый, обесценивающий все ценности взгляд его героя лучше, чем взгляд интеллигента, привыкшего во всем видеть какой-то скрытый, тайный смысл, сумеет разглядеть самую, что ли, суть дела. Он исходил из того, что его герой имеет гораздо больше шансов увидеть все события мировой истории в их истинном свете, поскольку он – это ведь, в сущности, и есть человек, каков он на самом деле, – так сказать, человек в свою натуральную величину.
Короче говоря, Зощенко решил исходить из той предпосылки, что любой исторический факт, увиденный глазами и пересказанный языком его героя, ближе к реальности, чем тот же факт, увиденный глазами и пересказанный языком интеллигента.
И он не ошибся.
Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить один и тот же факт, изложенный сперва сухим, «объективным» слогом историка, а потом «переведенный» зощенковским героем на язык близких ему представлений и понятий.
Зощенко словно бы нарочно предлагает нам материал для такого сравнения. В «Голубой книге», как правило, его герой-рассказчик один и тот же исторический факт излагает дважды. Сперва он как бы делает выписку из какого-нибудь исторического документа. Как бы дает незакавыченную цитату из учебника истории:
...
После побед римлян многие греческие философы были привезены в Рим, где и продавались в рабство. Римские матроны покупали их в качестве воспитателей к своим сыновьям. Чтобы продаваемые не разбежались, торговцы держали их в ямах. Откуда покупатели их извлекали.
Сделав еще несколько таких выписок, рассказчик вновь возвращается к этому факту и излагает его своими словами. Так, как он представляется его живому воображению:
...
Только представьте себе картину. Яркое солнце. Пыль. Базар. Крики. Яма, в которой сидят философы. Некоторые вздыхают. Некоторые просятся наверх.
Один говорит:
– Они в прошлый раз скоро выпустили, а нынче что-то долго держат.
Другой говорит:
– Да перестаньте вы, Сократ Палыч, вздыхать. Какой же вы после этого стоик? Я на вас прямо удивляюсь.
Торговец с палкой около края ямы говорит:
– А ну, куда вылезаешь, подлюга. Вот я тебе сейчас трахну по переносью. Философ… Ученая морда.
Мы привыкли к мысли, что «пестрый бисер зощенковского лексикона» уводит нас куда-то в сторону от изображаемой писателем действительности. Создает некий угол искажения.
На самом деле, однако, дело обстоит совершенно иначе. Наукообразный, анемичный, невыразительный слог интеллигента совершенно не способен передать самую природу описываемых событий. В этом унылом изложении факт ничуть не поражает нас своей чудовищностью. Он даже обретает налет известной благопристойности.
А своеобразное зрение зощенковского рассказчика, его характернейшая лексика не только не искажают факт и даже не только делают его более осязаемым и конкретным. Они вскрывают самую суть факта. Вскрывают, так сказать, его внутреннюю реальность.
Выясняется, что отражение факта в сознании зощенковского героя более адекватно этому факту, нежели его отражение в сознании (и речевом строе) интеллигента (журналиста или историка).
Распространенное убеждение, что причудливый зощенковский язык, которым написаны исторические новеллы «Голубой книги», имеет целью охарактеризовать рассказчика, – не совсем беспочвенно. Но оно верно лишь наполовину.
Как правило, у Зощенко даже какое-нибудь одно словечко несет двойную функцию. Как говорится, стреляет туда и сюда.
Вот, например, рассказывается история коварного убийства германского императора Генриха Седьмого. Его отравили в церкви: подсыпали ему яд в Святое причастие.
...
Там у них было, если помните, несколько Генрихов. Собственно, семь. Генрих Птицелов. Он, вероятно, любил птиц ловить. Скорей всего, надо предполагать, что это была какая-нибудь порядочная балда, что он за птицами гонялся, вместо того чтобы править.
Потом был у них такой Генрих Мореплаватель. Этому, наверное, нравилось любоваться морем. Или он, может быть, любил посылать морские экспедиции. Впрочем, он, кажется, правил в Англии или Португалии. Где-то, одним словом, в тех краях. Для общего хода истории это абсолютно неважно, где находился этот Генрих. А что касается Германии, то там, кроме того, были еще какие-то маловыдающиеся Генрихи.
И, наконец, этот наш несчастный труженик – Генрих Седьмой. Он правил Германией еще значительно до фашизма. Он был у них императором в четырнадцатом веке.
Может показаться, что фраза «Он правил Германией еще значительно до фашизма» имеет только одну-единственную функцию: она характеризует рассказчика, для которого история – это темный лес, где ему ничего не стоит заблудиться. Еле-еле, с грехом пополам, он еще может как-то сориентироваться в том, что у нас происходит «на сегодняшнее число».
...
Докладчик:
– На сегодняшнее число мы имеем в Германии фашизм.
Голос с места:
– Да это не мы имеем фашизм! Это они имеют фашизм! Мы имеем на сегодняшнее число советскую власть.
Илья Ильф. «Записные книжки»
Вот так же и герой Зощенко: он с трудом усвоил, что «на сегодняшнее число» в Германии «мы имеем фашизм». И это – единственный известный ему ориентир, отправляясь от которого он может позволить себе пуститься в рискованное путешествие по истории Германии. Клише с надписью «фашизм» выскакивает в его голове мгновенно вслед за словом «Германия».
На самом деле, однако, эта простодушная фраза имеет еще и другой, более глубокий смысл. Она говорит о том, что «значительно до фашизма» в Германии происходило то же, что и сейчас, при фашизме. Убивали ни в чем не повинных людей. Гноили в ямах философов. Злодейски подсыпали яд в Святое причастие. Все это было «значительно до фашизма». И в Германии, и во многих других странах. Поэтому «для общего хода истории это абсолютно неважно, где находился этот Генрих».
Фраза означает, что фашизм – это не какая-то там удивительная аномалия. Фашизм – это, так сказать, нормальное состояние мировой истории.
Такой взгляд на мировую историю, естественно, не внушает ни бодрости, ни оптимизма. Он оставляет впечатление скорее тягостное. Однако, судя по всему, создать такое тягостное впечатление – не только входило в намерения автора, но и было чуть ли не основной, главной его задачей.
...
…общее впечатление от книги скорее тягостное. Чувствуется какой-то безвыходный тупик. Нечем дышать и не на кого автору взглянуть без отвращения.
Там есть ужасные стихи:
О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой.
М. Зощенко. «О стихах Н. Заболоцкого»
В «Голубой книге» Зощенко, в сущности, развернул и превратил в законченный сюжет это ужасное восклицание поэта. Он сделал так, что вся мировая история вдруг свернулась «одним кварталом», одной коммунальной квартирой. Превратилась в жалкую и ужасную мышиную нору. Или – еще лучше воспользоваться тут классической формулой капитана Лебядкина – в «стакан, полный мухоедства».
Кто бы ни попадал в поле зрения автора – Александр Македонский, Юлий Цезарь, Люций Корнелий Сулла, персидский царь Камбиз, сын великого Кира, – перед нами отнюдь не житие и даже не бытие, не историческое существование, но лишь – «жизни мышья беготня».
Конечно, Зощенко был далеко не первым и уж тем более не единственным писателем, намеревавшимся «разбить» традиционный подход к исторической теме. В русской (да и в мировой) литературе существует давняя традиция изображения исторических событий в сатирическом, пародийном смысле, снижающем, убивающем всю их привычную торжественность. Чтобы далеко не ходить за примерами, назову лишь «Историю города Глупова» Щедрина, «Историю государства
Российского от Гостомысла…» А.К. Толстого, «Левшу» Лескова. Из современников Зощенко в той же художественной традиции с блеском работали Е. Замятин («Блоха», написанная по мотивам лесковского «Левши») и М. Булгаков («Иван Васильевич»).
Но Зощенко внес в эту традицию нечто принципиально новое. Он намеревался разбить не только эстетику традиционного читательского подхода к исторической теме, но и ее философию. Он не хотел, чтобы историческая часть выглядела в его книге торжественно, потому что совершенно намеренно решил всю мировую историю представить «одной мышиною норой». Зощенко хотел сказать своему читателю: Смотрите! Вот она – история! Та самая, которую вы изучали в гимназиях и университетах. Не думайте, пожалуйста, что это мой герой, несчастный потомок капитана Лебядкина, увидел ее такой. В том-то и ужас, что вот такая, какой вы ее здесь видите, – такая она и была!
6
Я начал с утверждения, что больше всего на свете писателю Михаилу Зощенко недоставало понимания истинного масштаба и смысла его труда. Тут судьба сыграла с ним самую скверную шутку из всех, какие только она может сыграть с писателем. Постигшая его неудача заключалась не только в том, что это был «Свифт», которого «приняли за Аверченко», но еще и в том, что этого «Свифта» всю жизнь упорно причесывали и гримировали «под Аверченко», а иногда даже довольно искусно и небезуспешно превращали в Аверченко. Мало того: вынуждали его в добровольно-принудительном порядке самому выдавать себя за Аверченко, притворяться «Аверченкой».
Чтобы как можно нагляднее продемонстрировать, как именно это происходило, мне придется сделать небольшое отступление.
Начну с того, что напомню читателю один зощенковский рассказ. Не какой-нибудь там выдающийся, а самый что ни на есть рядовой. Из числа тех, которые сплошь и рядом публиковались им под рубрикой «Фельетоны».
И тема у этого рассказа нельзя сказать, чтобы такая уж крупная. Вполне фельетонная тема.
Строго говоря, это даже и не фельетон, а просто – зарисовка. Дословная, так сказать, запись беседы, как бы случайно подслушанной автором.
Беседу эту вели между собой пациенты, дожидающиеся в поликлинике своей очереди на прием к врачу.
...
Один такой дядя, довольно мордастый, в коротком полупальто, говорил своему соседу:
– Это, говорит, милый ты мой, разве у тебя болезнь – грыжа. Это плюнуть и растереть – вот вся твоя болезнь. Ты не гляди, что у меня морда выпуклая. Я тем не менее очень больной, почками хвораю…
Вдруг одна ожидающая дама в байковом платке язвительно говорит:
– Ну что ж, хотя бы и почки. У меня родная племянница хворала почками – и ничего. Даже шить и гладить могла. А при вашей морде болезнь ваша малоопасная. Вы не можете помереть через эту вашу болезнь.
Мордастый говорит:
– Я не могу помереть! Вы слыхали? Она говорит, я не могу помереть через эту болезнь. Много вы понимаете, гражданка!..
Гражданка говорит:
– Я вашу болезнь не унижаю, товарищ. Это болезнь тоже самостоятельная. Я это признаю. А я к тому говорю, что у меня, может, болезнь посерьезнее, чем ваши разные почки. У меня – рак.
Мордастый говорит:
– Ну что ж – рак, рак. Смотря какой рак. Другой рак – совершенно безвредный рак. Он может в полгода пройти.
От такого незаслуженного оскорбления гражданка совершенно побледнела и затряслась. Потом всплеснула руками и сказала:
– Рак в пол года! Видали! Ну, не знаю, какой это рак ты видел. Ишь морду-то отрастил за свою болезнь.
«Больные»
Диалог – что говорить! – впечатляющий. Но не более чем другие, столь же выразительные беседы, которые обычно ведут между собой зощенковские герои – не только в больницах, поликлиниках и амбулаториях, но и в других каких-нибудь учреждениях. В магазинах, в трамваях, в своих коммунальных кухнях, наконец.
Нет, яркостью и выразительностью реплик, всеми этими милыми любезностями, которыми обмениваются здесь зощенковские персонажи, эта маленькая зарисовка от других зощенковских рассказов и фельетонов не отличается.
Отличается она от них лишь небольшим авторским рассуждением, предваряющим самую сценку:
...
Человек – животное довольно странное. Нет, навряд ли оно произошло от обезьяны. Старик Дарвин, пожалуй что, в этом вопросе слегка заврался.
Очень уж у человека поступки – совершенно, как бы сказать, чисто человеческие. Никакого, знаете, сходства с животным миром. Вот если животные разговаривают на каком-нибудь своем наречии, то вряд ли они могли бы вести такую беседу, как я давеча слышал.
Думаю, что ничуть не погрешу против истины, если скажу, что примерно такое рассуждение могло бы предварять каждую зощенковскую новеллу, каждую воспроизведенную им беседу своих героев, каждую изображенную им сцену. Потому что во всех своих рассказах Зощенко изображает не «управдома», «монтера», «молочницу», «продавщицу», «зубного техника», не отдельных особей пестрого человеческого «зверинца», а – человека вообще. Его интересуют не отдельные виды и подвиды разнообразных человеческих типов, профессий, занятий, социальных категорий, а именно – человек, это «довольно странное животное», которое всем своим поведением так разительно отличается от других представителей животного мира, что «навряд ли оно произошло от обезьяны».
Рассказ «Больные», как я уже отметил, от других рассказов Зощенко отличается только тем, что в нем эту свою задушевную мысль писатель высказал прямо. Что называется, в лоб. С не слишком свойственной ему откровенностью.
Обычно он высказывается на этот счет гораздо осторожнее. А чаще даже нарочно напускает тут некоторого туману. Вот, например, как в «Рассказе о старом дураке», где самой истории, ставшей его сюжетной основой, предшествует небольшое авторское рассуждение о знаменитой картине русского художника Пукирева «Неравный брак»:
...
На этой картине нарисованы, представьте себе, жених и невеста.
Жених – такой, вообще, престарелый господинчик, лет, этак, может быть, семидесяти трех с хвостиком. Такой, вообще, крайне дряхлый, обшарпанный субъект нарисован, на которого зрителю глядеть мало интереса.
А рядом с ним – невеста. Такая, представьте себе, молоденькая девочка в белом подвенечном платье. Такой, буквально, птенчик, лет, может быть, девятнадцати…
В общем, удивительные мысли навевает это художественное полотно.
Такой, в самом деле, старый хрен мог до революции вполне жениться на такой крошке. Поскольку, может быть, он – «ваше сиятельство» или он сенатор, и одной пенсии он, может быть, берет свыше как двести рублей золотом, плюс поместья, экипаж и так далее. А она, может, из бедной семьи. И мама ее нажучила: дескать, ясно, выходи.
Конечно, теперь всего этого нету. Теперь все это, благодаря революции, кануло в вечность. И теперь этого не бывает.
У нас молоденькая выходит поскорей за молоденького. Более престарелая решается жить с более потрепанным экземпляром. Совершенно старые переключаются вообще на что-нибудь эфемерное – играют в шашки или гуляют себе по набережной…
А таких дел, какие, например, нарисованы на вышеуказанной картине, у нас, конечно, больше не бывает.
«Голубая книга»
Вроде рассказчик и в самом деле уверен, что ничего похожего на то, что изобразил на своей картине художник Пукирев, у нас не бывает и быть не может. И свою историю про «старого дурака» он решил рассказать нам исключительно для того, чтобы подтвердить эту мысль, подкрепить ее конкретным примером.
...
Вот, например, какая история произошла недавно в Ленинграде.
Один, представьте себе, старик, из обыкновенных служащих, неожиданно в этом году женился на молоденькой.
Ей, представьте себе, лет двадцать, и она интересная красавица, приехавшая из Пензы. А он – старик, лет, может быть, шестидесяти. Такой, вообще, облезлый тип. Морда какая-то у него потрепанная житейскими бурями. Глаза какие-то посредственные, красноватые. В общем, ничего из себя не представляющая личность, из таких, какие в каждом трамвае по десять штук едут…
И вот тем не менее, имея такие дефекты, он неожиданно и всем на удивление женится на молодой прекрасной особе.
Короче говоря, происходит неравный брак. Такой же, как художник Пукирев изобразил на своей знаменитой картине. С той, правда, разницей, что жених на картине Пукирева был князь, граф или сенатор, а наш герой – самый что ни на есть обыкновенный, ничем не примечательный субъект из таких, какие «в каждом трамвае по десять штук едут».
Но как раз это – самый крупный его козырь. Поскольку именно эта очевидная его непримечательность могла служить
самой надежной гарантией того, что юная красавица решила выйти за него замуж не из каких-то там гнусных корыстных побуждений, а исключительно по влечению своего юного пылкого сердца. А что касается некоторого возрастного несоответствия, то это – пустяки. Это не имеет решительно никакого значения. Как пелось в те годы в популярной советской песне:
Потому что у нас
Каждый молод сейчас
В нашей юной прекрасной стране!
Именно так наш герой все это и объяснил любопытным соседям и сослуживцам:
...
– Кроме своей наружности и душевных качеств, я ничего материального не имею. Жалованье маленькое. Гардероб – одна пара брюк и пара рваных носовых платков. А что касается комнаты, этой теперешней драгоценности, то я живу пока со своей престарелой супругой на небольшой площади, какую я намерен делить. И в девяти метрах, с видом на помойку, я буду, как дурак от счастья, жить с той особой, какую мне на старости лет судьба послала.
Казалось бы, логика эта неотразима. Однако новая жизнь действительно принесла с собой новую шкалу ценностей.
Автор даже не считает нужным подробно что-либо объяснять. Он лишь вскользь упоминает, что юная красавица, выскочившая замуж за ничем не примечательного старика, прибыла из Пензы. Какому-нибудь там жителю Парижа, Лондона или Нью-Йорка это, конечно, мало что скажет. Но соотечественник автора уже наверняка смекнул, как называется та необыкновенная, никакими силами и талантами не достижимая драгоценность, которую стремилась заполучить наша энергичная молодая особа: ленинградская прописка.
Дальше весь этот музыкальный этюд был разыгран как по нотам:
...
И вот он разделил площадь. Устроил побелку и окраску. И в крошечной комнатке из девяти метров начал новую великолепную жизнь, рука об руку с молодой цветущей особой. Теперь происходит такая ситуация.
Его молодая подруга жизни берет эту крошечную комнату и меняет ее на большую…
И вот она со своим дураком переезжает на эту площадь, в которой четырнадцать метров.
Там живет она некоторое время, после чего проявляет бешеную энергию и снова меняет эту комнату на комнату уже в двадцать метров. И в эту комнату снова переезжает со своим старым дураком.
А переехав туда, она с ним моментально ссорится и дает объявление в газету: дескать, меняю чудную комнату в двадцать метров на две небольшие в разных районах…
Короче говоря: через два месяца после, так сказать, совершения таинства брака наш старый дурак, мало чего понимая, очутился в полном одиночестве в крошечной комнатке за городом, а именно – в Озерках.
Увы, увы! Ничего не изменилось! Никаких благодетельных перемен революция с собой не принесла. Изменились только кое-какие детали. Внешние обстоятельства. Изменился фон жизни. Но на этом новом фоне происходят те же события, и всеми поступками людей движут те же стимулы, те же желания, те же страсти.
Да, обстоятельства слегка изменились. Но вряд ли – к лучшему. А люди – какими были, такими и остались.
...
Может быть, единственно научились шибче ездить по дорогам. И сами бреются. И радио понимать умеют. И стали летать под самые небеса. И вообще – техника.
«Голубая книга»
К этой любимой своей мысли Зощенко возвращается постоянно. Этим «ключом», этой «универсальной отмычкой» открывается конечный смысл всех его творений – от самых сложных, претендующих на глубокие философские обобщения, до самых простых, не выходящих за жанровые границы газетного фельетона. Вот, скажем, прочел он сообщение, что в каком-то научном центре ведется работа над созданием бесшумного трамвая. И тут же умственному взору его представилась такая картина. Движется по улице трамвай. Мягко этак, легко, а главное – совершенно бесшумно. Никакого лязга, скрежета, грохота, ни малейшего даже звяканья. Ни звука. Но это – снаружи. А внутри…
Внутри шум стоит невообразимый. То есть – совершенно такой же, какой стоял всегда в том, старом, с лязгом и грохотом тащившемся по рельсам, допотопном трамвайчике. Пассажиры собачатся, давка невообразимая. Кондуктор орет. Кто-то кому-то ногу отдавил. Кто-то притиснул барышню, и она визжит. Кто-то под шумок залез кому-то в карман. Кто-то выхватил у дамы сумочку. Крики, брань, женские визги и слезы…
Или вот такая – тоже фантастическая – картинка, представившаяся его воображению. Письмо в редакцию газеты, написанное через сто лет:
...
Уважаемый товарищ редактор! Вчерась, возвращаясь со службы на казенном «формате», мне представилась в воздухе такая картина. Летит под пропеллером двухместная колбаса, на которой облокотившись летит заведывающий 10-й радиокухней со своей кассиршей Есиповой.
Не разобравши за шумом, про чего они говорят, я пролетел мимо.
А пущай-ка спросит редакция, на какие это народные деньги летит на колбасе зарвавшийся заведывающий радиокухней?
А кассиршу давно бы пора по зубам стукнуть – пущай не тратит бензин на свои любовные прихоти.
«Через сто лет»
В любые технические изменения готов поверить наш автор. И в то, что бесшумные трамваи будут легко и изящно скользить по ленинградским проспектам. И в то, что даже мелкие «совслужащие» будут летать на службу и со службы в самолетах. И в то, что современные фабрики-кухни или столовые уступят место каким-то усовершенствованным «радиокухням». Но человек – это «странное животное» – во веки веков останется таким же, каким он был всегда и каким мы наблюдаем его сегодня.
Этот мизантропический, «свифтовский» взгляд на человеческую природу проявляется у Зощенко едва ли не в каждой реплике его героев, едва ли не в каждой авторской фразе, в каждой клеточке его художественной ткани.
Но тут возникает такой вопрос.
Если это действительно так, если «свифтовское начало» органически присуще художественному зрению Михаила Зощенко, если оно проявляет себя, так сказать, на клеточном, даже на молекулярном уровне, можно ли в таком случае это органическое свойство его художественного мышления вытравить, свести на нет даже с помощью самой тщательной редактуры (или саморедактуры)?
В полной мере это, конечно, невозможно. Но кое-каких успехов в этом правлении достичь все же удалось.
Как это делалось, я постараюсь показать на примере довольно мелких и на первый взгляд вроде бы даже не слишком принципиальных изменений, внесенных автором в первоначальный текст одного своего рассказа.
Действие развернувшейся в этом рассказе маленькой драмы разыгрывается на самой типичной для героев Зощенко, наиболее излюбленной этим писателем «сценической площадке» – в трамвае. Рассказ, кстати, так и называется – «В трамвае».
...
Давеча еду в трамвае. И стою, конечно, на площадке, поскольку я не любитель внутри ехать.
Стою на площадке и любуюсь окружающей панорамой.
А едем через Троицкий мост. И очень вокруг поразительно красиво. Петропавловская крепость с золотым шпилем. Нева со своим державным течением…
И вот стою на площадке, и душа у меня очень восторженно воспринимает каждую краску, каждый шорох и каждый отдельный момент.
Разные возвышенные мысли приходят. Разные гуманные фразы теснятся в голове. Разные стихотворения на ум приходят. Из Пушкина что-то такое выплывает в память: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца…»
И вдруг кондукторша разбивает мое возвышенное настроение, поскольку она начинает спорить с одним пассажиром.
И тут я, как говорится, с высоты заоблачных вершин спускаюсь в надземный мир с его узкими интересами, мелкими страстями и недочетами.
Выясняется, что один пассажир упрямо не желает платить за проезд. Молодая, интересная собой кондукторша настойчиво требует, чтобы он уплатил, а он всячески отвиливает. Сначала пытается свести дело к шутке, потом обещает сойти на следующей остановке. Потом бьет на жалость: говорит, что у него на ногах пузыри и он не может ходить пешком.
В дело вмешивается автор (точнее – рассказчик). Пожалев безденежного пассажира с пузырями на ногах, он пытается внести за него полагающуюся лепту. Но кондукторшу такой вариант почему-то не устраивает.







