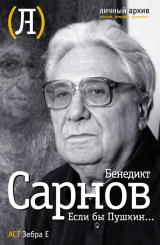
Текст книги "Если бы Пушкин…"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Корней Чуковский. «Зощенко»
Рассуждение это содержит по меньшей мере три серьезных постулата:
1. Язык, о котором идет речь, – чудовищно, невозможно уродлив.
2. Это язык определенного слоя людей.
3. Слой людей, говорящих на этом языке, писателю Михаилу Зощенко заведомо отвратителен, ненавистен.
Возможность какого-то иного взгляда Чуковскому просто не приходит в голову по той простой причине, что писателя Михаила Зощенко он, естественно, рассматривает как человека того круга, того культурного (и, следовательно, языкового) слоя, к которому принадлежит сам. Но Зощенко глядел на это иначе.
Вслушиваясь в эту новую языковую стихию, он не испытывал никаких отрицательных эмоций. Эти выражения не вызывали у него ни моральных страданий, ни тем более физической боли. Более того! Иные из них ему даже нравились.
...
Дорогой Зощенко!
Мне случайно попалось в руки «любовное письмо», которое получила одна моя знакомая.
Не пригодится ли оно Вам? Оно очень напоминает Ваш стиль и ваших героев.
С приветом K.Л. 18 окт. 28 г.
«Уважаемая гражданка, зачитайте это письмо и примите от заинтересованного вами это подношение. Не побрезгуйте, не погнушайтесь.
Желательно с вами познакомиться всурьез. Не покажется это вам за предмет любопытства, а желательно с целью сердечной, потому что с каких пор вас увидел, то сгораю любовью.
Замечательный ваш талант, а пуще всего игривость забрали меня за живое и как слышал, что вы лицо, причастное к медицине, то понять должны, что кровь во мне играет и весь я не в себе… Остаюсь в ожидании. Имя скажу при свидании».
«Письма к писателю»
Поместив это письмо в своей книге, Зощенко замечает:
...
Любопытное письмо. Оно написано, как будто бы я его писал. Оно несомненно написано «моим героем».
И далее он комментирует его так:
...
Так называемый «народный» язык стоит того, чтобы к нему приглядеться.
Какие прекрасные, замечательные слова: «Зачитайте письмо». Не прочитайте, а зачитайте… Как уличный торговец яблоками говорит: «Вы закушайте этот товар». Не скушайте (т. е. целиком), не откусите (т. е. кусочек), а именно закушайте, то есть запробуйте, откусите столько раз, сколько нужно для того, чтобы почувствовать прелестные качества товара.
Там же
Для Зощенко язык «его героя» сам по себе – выразителен и художественно ярок.
Для Чуковского этот язык может быть художественно выразительным лишь постольку, поскольку он выступает резким, уродливым контрастом по отношению к некой языковой норме:
...
Для того чтобы воссоздать это наречие, в сознании писателя должен постоянно присутствовать строго нормированный, правильный, образцовый язык. Только на фоне этой безукоризненной нормы могли выступить во всем своем диком уродстве те бесчисленные отклонения от нее, те синтаксические и словесные «монстры», которыми изобилует речь зощенковских «уважаемых граждан».
Корней Чуковский. «Зощенко»
Тут все та же непререкаемая уверенность, что этот «уродливый» язык – всего лишь жаргон определенного слоя – того самого «вбетонированного в обывательщину» круга мелких стяжателей и мещан, который Зощенко сделал мишенью своей сатиры и по которой он бил нещадно «всем разнообразием своего оружия».
...
…Эти скудоумные, как явствует из зощенковских книг, прямо-таки обожают казенные, канцелярские фразы…
Кроме канцелярита, новомещанская речь богата, по наблюдениям Зощенко, дурно понятыми иностранными словами… Со смердяковским упоением они то и дело употребляют их совершенно некстати…
Алогизм, косноязычность, бессилие этого мещанского жаргона сказываются также, по наблюдениям Зощенко, в идиотических повторах одного и того же словечка, завязшего в убогих мозгах…
Там, где Чуковский мечет громы и молнии, где он способен только негодовать и изгаляться, Зощенко исполнен самого искреннего доброжелательства и даже восхищения. Зощенко убежден, что язык, который, по мнению Чуковского, способен передать лишь недомыслие и душевное уродство, может выразить и запечатлеть всю сложность жизни, самые разные и противоречивые ее проявления. Не только «глупость», «мещанство», «жульничество», но и «настоящую трагедию, незаурядный ум, наивное добродушие, энтузиазм».
«Вывихи синтаксиса», «опухоли словаря» и «идиотические повторы» действительно являются важными структурными особенностями этой новой художественной речи. В сущности, из них-то в конечном счете и складывается ее поэтика. Но, в отличие от Чуковского, Зощенко никогда не назвал бы язык потомков капитана Лебядкина бессильным. Напротив, бессильным и худосочным ему представляется тот «строго нормированный, правильный, образцовый язык», который в глазах Чуковского продолжал оставаться безукоризненной нормой.
...
Уже никогда не будут писать и говорить тем невыносимым суконным интеллигентским языком, на котором многие еще пишут, вернее, дописывают. Дописывают так, как будто в стране ничего не случилось.
«Письма к писателю»
...
Мне просто трудно читать сейчас книги большинства современных писателей. Их язык для меня – почти карамзиновский. Их фразы – карамзиновские периоды.
Может быть, какому-нибудь современнику Пушкина так же трудно было читать Карамзина, как сейчас мне читать современного писателя старой литературной школы.
«О себе, о критиках и о своей работе»
В убогой, беспомощной, жалкой и косноязычной речи своего героя Зощенко открыл поистине золотоносную жилу новой художественной выразительности.
Тут надо сказать, что в этой своей ориентации «на графомана» Зощенко был не одинок. Вспомним как Николай Заболоцкий вполне серьезно, без тени иронии отреагировал на насмешливое сравнение его стихов с убогими, графоманскими виршами капитана Лебядкина.
...
Когда я познакомился с ним, это был розовощекий мальчик, только что вернувшийся из армии, мальчик, которому, как это часто бывает с молодыми поэтами, казалось, что он все начинает сначала. Я помню, как однажды он встретился у меня с Антокольским и как Антокольский, выслушав его стихи, сказал, что они похожи на стихи капитана Лебядкина, Заболоцкий не обиделся. Подумав, он сказал, что ценит Лебядкина выше многих современных поэтов.
Вениамин Каверин
Напомню, что примерно в это же время Николай Олейников свою поэму «Таракан» посвятил «бессмертному таракану капитана Лебядкина».
Но для Заболоцкого (как и для Олейникова, и даже Платонова) все, что выплеснулось в графоманских сочинениях капитана Лебядкина и его потомков, было лишь предвестием нового художественного языка, с помощью которого можно передать «дыхание нашей жизни».
Для Зощенко – почти мировоззрением.
4
Особенно ясно это видно на примере одного из главных его творений – «Голубой книги».
Обратившись к далекой истории, Зощенко не изменил ни своему обычному зрению, ни своим привычным, давно уже определившимся синтаксису и лексикону.
Казалось бы, он точно реализовал тот совет, который некогда ему дал Горький: «По-моему, вы и теперь могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить-вышить что-то вроде юмористической «Истории культуры»».
Надо сказать, что этот совет учителя сперва не очень-то пришелся ученику по душе.
...
Я могу сейчас признаться, Алексей Максимович, что я весьма недоверчиво отнесся к вашей теме. Мне показалось, что вы предлагаете мне написать какую-нибудь юмористическую книжку, подобную тем, какие уже бывали у нас в литературе, например «Путешествие сатириконцев по Европе» или что-нибудь вроде этого.
«Голубая книга»
Юмористическая история культуры, вышитая пестрым бисером зощенковского лексикона… Такой замысел, даже при самом блистательном исполнении, вполне соотносим с юмористическими книгами Аверченко, Тэффи и других талантливых сатириконцев.
Такой замысел Зощенко не вдохновлял.
Он решил принять совет Горького или сделать вид, что он принял его совет лишь потому, что перед ним вдруг забрезжил совсем иной замысел, соотносимый разве только с тем, какой некогда осуществил Свифт.
Однажды я разговаривал с литератором, довольно близко знавшим Михаила Михайловича Зощенко. Высказываемые им соображения были не слишком интересны, беседа текла вяло и вскоре стала меня слегка утомлять. Я уже слушал своего собеседника, как говорится, вполуха, как вдруг одна фраза заставила меня встрепенуться.
Впрочем, это сказано слишком слабо. Впечатление, которое эта фраза на меня произвела, можно сравнить только с молнией, вдруг осветившей непроглядную тьму.
Фраза была такая:
– ЗОЩЕНКО – ЭТО СВИФТ, КОТОРОГО ПРИНЯЛИ ЗА АВЕРЧЕНКО.
Мой собеседник, произнесший эту чеканную формулу, ни в коей мере не пытался выдать ее за свою. Он, по-моему, даже и не придавал ей особого значения. На мои попытки установить, кто же автор этого блистательного афоризма, он так и не смог дать внятного ответа.
Позже кто-то мне сказал, что фраза эта принадлежит М. Бронштейну, талантливому физику, арестованному в 1937 году и погибшему в сталинских лагерях. Если это действительно так, если это – поразительное по глубине и точности – определение действительно принадлежит не писателю, не критику, не литературоведу, а физику, нам, литераторам, остается только покраснеть от стыда.
Необыкновенная проницательность этой афористичной характеристики далеко не исчерпывается установлением чисто оценочных, измерительных градаций: вот, мол, великана приняли за карлика. Смысл ее гораздо глубже, чем это может показаться с первого взгляда.
Принять Зощенко за Аверченко было нетрудно. Многие и по сей день принимают его за Аверченко, даже сами этого не осознавая. Быть может, если им сказать об этом, они возмутятся. Как же! Ведь они прекрасно понимают, что Зощенко бесконечно превосходит Аверченко и своей необыкновенной словесной одаренностью, и своим удивительным, поистине виртуозным мастерством.
Но ведь все это означает только то, что Зощенко – это Аверченко более крупного калибра. Так сказать, идеальный Аверченко. Если угодно, даже – гениальный Аверченко…
На первый взгляд и в самом деле может показаться, что вся сила и обаяние Зощенко в том, что некоторые художественные принципы, разработанные сатириконцами, он довел до совершенства. Может даже показаться, что природа юмора в исторических новеллах «Голубой книги» и в некоторых рассказах Аверченко – одна и та же.
Вот, например, есть у Аверченко рассказ, начинающийся с того, что некий писатель Кукушкин приносит издателю Залежалову свою новую повесть. Желая вытянуть из него подходящий аванс, Кукушкин выборочно читает ему отрывки из своего нового произведения, представляющиеся ему наиболее завлекательными:
...
Темная мрачная шахта поглотила их, и при свете лампочки была видна полная волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте…
Или:
...
Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел… На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди и все заверте…
Однако все эти пикантные подробности почему-то не оказывают на издателя своего всегдашнего действия. Оказывается, спрос на порнографическую литературу упал. Среди читающей публики теперь прошли новые веяния. Теперь большой спрос на литературу историческую.
Узнав, что под будущий исторический роман Залежалов готов незамедлительно выдать ему аванс, Кукушкин мгновенно соглашается переквалифицироваться на исторического романиста. Через неделю он приносит издателю свое новое произведение «Боярская проруха»:
...
Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь, и вошел молодой князь Курбский.
Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.
– Ой, ты, гой еси, – воскликнул он на старинном языке того времени.
– Ой, ты, гой еси, исполать тебе, добрый молодец! – воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и – все заверте…
Совершенно очевидно, что жало этой художественной сатиры направлено исключительно на писателя Кукушкина. Цель рассказа сводится к тому, чтобы разоблачить этого незадачливого литератора, взявшегося не за свое дело. Разоблачить его темноту и невежество, смехотворно жалкий уровень его представлений о том, как жили и как разговаривали предки наши.
Казалось бы, на том же основан и юмор исторических новелл в зощенковской «Голубой книге».
Вот, например, история о том, как персидский царь Камбиз, сын знаменитого Кира, пожелал жениться на дочери египетского фараона Амазиса II (529 год до н. э.). Фараон, не посмев отказать могущественному владыке, но не желая в то же время отдавать ему в жены свою любимую дочь, послал в Персию красивую рабыню, выдав ее за наследную принцессу
...
Вот они сидят, обнявшись, на персидской оттоманке. На низенькой скамейке стоят, представьте себе, восточные сладости и напитки – там рахат-лукум, коврижки и так далее. Этакий толстенный перс с опахалом в руках отгоняет мух от этих сладостей.
Персидский царь Камбиз, выпив стаканчик какого-нибудь там шерри-бренди, с восхищением любуется своей прелестной супругой и бормочет ей разные утешительные слова: дескать, «ах ты моя египтяночка!.. Ну, как там у вас в Египте?»
«Голубая книга»
Представления зощенковского рассказчика о жизни персидского царя Камбиза недалеко ушли от представлений аверченковского писателя Кукушкина о любовных отношениях боярышни Лидии и молодого князя Курбского. Из конкретных реалий этой воображаемой царской персидской жизни ему более или менее отчетливо видится лишь персидская оттоманка и рахат-лукум. Все остальное уже – как в тумане… О чем может беседовать влюбленный царь Камбиз со своей очаровательной молодой супругой, он тоже представляет себе крайне смутно. «Ах ты моя египтяночка!» Ну, как там у вас в Египте?» – это, конечно, изящнее и остроумнее, чем – «Ой, ты, гой еси, исполать тебе, добрый молодец!» Но суть художественного приема совершенно та же. Писатель Кукушкин, не мудрствуя лукаво, сообщает: «Воскликнул он на старинном языке своего времени». И зощенковский рассказчик действует точно таким же образом:
«Как?! – закричал он по-персидски. – Повтори, что ты сказала!..»
Короче говоря, создается впечатление, что жало художественной сатиры у Зощенко направлено туда же, что и у Аверченко: на героя-рассказчика. Создается впечатление, что, как и в рассказе Аверченко, цель Зощенко состоит в том, чтобы высмеять и разоблачить своего всегдашнего, постоянного героя более или менее ясно представляющего себе лишь свой «клоповный» коммунальный быт. А все, что лежит за его пределами, для него, пользуясь любимым зощенковским определением, «проходит как в тумане».
Но зощенковский герой, как мы отчасти уже выяснили, представляет собой феномен, никем до этого писателя художественно не познанный.
Своеобразие этого человеческого типа состоит в том, что вся его так называемая духовная жизнь строго и четко ограничена рамками его повседневного существования.
...
Комната маленькая. Два окна. Пол, конечно. Потолок. Это все есть. Ничего против не скажешь.
А очень любовно устроился там Головкин. На шпалеры разорился – оклеил. Гвозди куда надо приколотил, чтоб уютней выглядело. И живет, как падишах.
«Пушкин»
О герое Зощенко обычно говорят, что он мещанин. Господи, Боже ты мой! Да какой же он мещанин!.. Самый занюханный мещанин уж хоть как-нибудь реализовал бы в материальных предметах свои мещанские наклонности. Не зеркальным шкафом, так хоть горшком герани, канарейкой, картиночкой какой-нибудь, фотографией, повешенной на стену.
Зощенковский герой обо всех этих красотах и не помышляет. Все это представляется ему совершенно никчемушными излишествами. Единственное, на что он способен, – это гвозди приколотить, «чтоб уютней выглядело».
Тут совершенно очевидно, что дело в ограниченности не материальных, а именно духовных ресурсов зощенковского
героя. Если мог разориться на «шпалеры», так уж мог бы, если б захотел, расщедриться и на какой-нибудь плакатик Автодора, повешенный на стенку просто так, для красоты. Но в том-то вся и штука, что никаких (даже самых убогих, даже уродливых, искаженных, «мещанских») потребностей в красоте у зощенковского героя просто нет.
Да что там красота! Он вообще не способен представить себе, что на свете существуют вещи, имеющие не материальную, а какую-то иную ценность. Для героя Зощенко любая вещь, которую, выражаясь высоким слогом, «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать», выступает только в одной, единственно ему доступной функции: в роли предмета, который надо сохранить, спрятать, чтоб не украли. Либо продать. Иного значения, иной функции окружающих его вещей он не знает.
...
Брат (в телефон). Але! Федор Палыч: Да, это я… Кругом все продается. Полная спешная распродажа/.. И картины, и картины. Чего? Чьих кистей? Каких кистей? Кистей, кажись, нет. (Смотрит на картину.) Нету, картина без кистей. Ну, обыкновенная рама, и кистей, знаете, нету. Чего?.. А, это. (К сестре.) Он говорит какие-то кисти.
Жена (сердито). Какие кисти? Нету у меня кистей.
Брат. Але! Кистей у вдовы нету. Чего? Ах, это… (К сестре.) Он говорит: чьих кистей? Ну, какие мастера?
Жена. Да какие кисти? Без кистей.
Сосед. Нет, это прежние буржуазные классы гуманно выряжались: чьи кисти. Кто, одним словом, картины красил. Смех, ей-богу.
Жена. А пес их знает, кто красил.
Брат. Але, Федор Палыч! Одним словом, так. На одной картине чудный сухой сосновый лес – метров сорок сухих сосновых дров, а на другой, извиняюсь, простая вода. За рощу не меньше трехсот, а за воду – сговоримся.
«Преступление и наказание»
Герой Зощенко – это до такой степени «голый человек на голой земле», его потребности до того элементарны, что он не то что среди картин или каких-нибудь там скульптур, но даже в самой скромной «мещанской» комнатенке с канарейкой, геранью и фикусами – и то чувствовал бы себя как в музее. Ему для нормального самочувствия нужен не дом, не квартира, не комната даже, а – жилплощадь.
О том, почему Зощенко выбрал себе именно такого героя, в свое время было много споров. Но все в конечном счете сходились на том, что герой Зощенко – это человек, который смотрит на жизнь не так, как надо. И нужен он автору только для того, чтобы прочнее утвердиться в том, как надо.
Интеллигенты (на каких бы разных идеологических или эстетических позициях они ни стояли) не сомневались, что решение взглянуть на мир глазами столь примитивного существа может преследовать лишь одну цель: обратить внимание на тот чудовищный угол искажения реальности, который возникает при таком взгляде. Разумеется, они исходили при этом из того, что единственно нормальным взглядом, не искажающим предмет, является их собственный.
Но это была ошибка, поскольку любой взгляд неадекватен предмету. И угол искажения, свойственный интеллигентскому зрению, в своем роде не менее чудовищен, чем тот угол искажения, который характерен для зрения героя Зощенко.
...
Однажды удалось сфотографировать глаз рыбы, снимок запечатлел железнодорожный мост и некоторые детали пейзажа, но оптический закон рыбьего зрения показал все это в невероятно искаженном виде. Если бы удалось сфотографировать поэтический глаз академика Овсяннико-Куликовского или среднего русского интеллигента, как они видят, например, своего Пушкина, получилась бы картина не менее неожиданная, нежели зрительный мир рыбы.
Статья О. Мандельштама, из которой я выписал этот издевательский пассаж (я уже приводил его в этой книге), была написана в 1923 году и называлась «Выпад».
Зощенко тоже обратил внимание на этот любопытный факт. Но он, в отличие от Мандельштама, не увидел в нем повода для иронии. Он весьма резонно решил, что тот угол искажения реальности, который характерен для глаз его героя, может представить интерес не только как некий курьез, над которым можно поглумиться, но и как способ постижения некоторых весьма существенных сторон этой самой реальности.
Он решил осуществить на практике то, о чем в предположительной и отчасти даже метафорической форме говорил Мандельштам. Пользуясь этой мандельштамовской метафорой, можно сказать, что он решил сфотографировать глаз рыбы.
Нет, он не просто сфотографировал «глаз рыбы». Он – если уж нам угодно воспользоваться этой метафорой, – досконально изучив законы «рыбьего» зрения, сконструировал фотоаппарат, объектив которого воспринимает и искажает мир точь-в-точь так же, как это делает «глаз рыбы».
Сперва он посредством этого уникального объектива фиксировал повседневную «рыбью» жизнь. А затем, – следуя той же логике, какой следовал в своем сопоставлении Мандельштам, – решил взглянуть этим глазом, так удивительно искажающим реальность, на всю мировую историю, на все ценности, накопленные человечеством за долгие века его исторического бытия. На религию. На красоту. На поэзию. На любовь.
...
…французский поэт Мюссе сказал, что все ничтожно в сравнении с этим чувством. Но он, конечно, отчасти ошибался. Он, конечно, слегка перехватил через край.
Тем более, нельзя забывать, что эти строчки сказал француз. То есть человек от природы крайне чувственный и, простите, вероятно, бабник, который от чрезмерно волновавших его чувств действительно может брякнуть Бог знает что из этой области…
Но вот взгляните на русскою поэта Вот и русский поэт не отстает от пылкого галльского ума..
У этого поэта, надо сказать, однажды сгорел дом, в котором он родился и где провел лучшие дни своего детства И вот любопытно посмотреть, на чем этот поэт утешился после пожара.
Он так об этом рассказывает. Он описывает это в стихотворении. Вот как он пишет.
Казалось, все радости детства
Сгорели в погибшем дому,
И мне умереть захотелось,
И я наклонился к воде,
Но женщина в лодке скользнула
Вторым отраженьем луны,
И если она пожелает,
И если позволит луна,
Я дом себе новый построю
В неведомом сердце ее.
И так далее, что-то в этом роде.
«Голубая книга»
Можно по-разному отнестись к процитированным стихотворным строчкам. Кое-кому быть может, покажется, что они чересчур романтически приподняты, излишне сентиментальны, что поэт видит событие, так сказать, исключительно в розовом свете. Но как бы то ни было, взгляд, зафиксированный в этих стихотворных строчках, – это человеческий взгляд.
А вот как то же событие, тот же факт зафиксировало зрение зощенковского героя-рассказчика:
...
…можно отчасти понять, что поэт, обезумев от горя, хотел было кинуться в воду, но в этот самый критический момент он вдруг увидел катающуюся в лодке хорошенькую женщину. И вот он неожиданно влюбился в нее с первого взгляда, и эта любовь заслонила, так сказать, все его неимоверные страдания и даже временно отвлекла его от забот по приисканию себе новой квартиры. Тем более что поэт, судя по стихотворению, по-видимому, попросту хочет как будто бы переехать к этой даме. Или он хочет какую-то пристройку сделать в ее доме, если она, как он туманно говорит, пожелает и если позволит луна и домоуправление.
Ну, насчет луны – поэт приплел ее, чтоб усилить, что ли, поэтическое впечатление. Луна тут, можно сказать, мало при чем. А что касается домоуправления, то оно, конечно, может не позволить, даже если сама дама в лодке и пожелает этого, поскольку эти влюбленные не зарегистрированы, и вообще, может быть, тут какая-нибудь недопустимая комбинация.
Нельзя сказать, чтобы зощенковский герой-рассказчик, так своеобразно истолковавший процитированное стихотворение, вовсе не понял замысел его автора. Нет, он прекрасно понял, что поэт в этом стихотворении «говорит о любви как о наивысшем чувстве, которое, при некоторой доле легкомыслия, способно заменить человеку самые насущные вещи, вплоть даже до квартирных дел». Понять-то он это понял. Но предпочел не поверить автору, заметив: «Каковое последнее утверждение всецело оставляю на совести поэта». А не поверил он поэту не в силу какой-либо особой низменности своей натуры. И заподозрил его в каких-то там недопустимых комбинациях опять-таки не потому, что от природы наделен какой-то повышенной злобностью и подозрительностью. Разве глаз рыбы искажает наш мир потому, что рыба к нему несправедлива? Нет, он искажает его просто потому, что он, этот глаз, самой природой устроен иначе, чем человеческий.
Зощенковский герой простодушно исходит из того, что у всех людей, в каких бы странах и в какие бы эпохи они ни жили, их любовные дела протекали примерно так же, как они протекают в окружающей его повседневной жизни. А здесь они протекают так:
...
Которая из балетных так говорит своей подруге:
– Очень просто! Я выхожу замуж за Николая. Артист женится на тебе, а эти двое сослуживцев тоже составят вполне счастливую пару, служащую в одном учреждении…
Сослуживец, к которому пришла жена артиста, говорит:
– Здравствуйте, пожалуйста! У ней, кажется, куча ребятишек, а я на ней буду жениться. Тоже, знаете, нашли простачка…
Жена артиста говорит:
– Да я бы к нему и не переехала. Глядите, какая у него комната! Разве я могу вчетвером, с детьми, тут находиться?
Сослуживец говорит:
– Да я тебя с детьми на пушечный выстрел к этой комнате не подпущу. Имеет такого подлеца мужа, да еще вдобавок мою комнату хочет оттяпать…
Сонечка из балетных примиряюще говорит:
– Тогда, господа, давайте так: я выйду за Николая, артист с супругой так и останутся, как были, а на жене Николая мы женим этого дурака-сослуживца…
Наша дама говорит:
– Ну, нет, знаете. Я не намерена из своей квартиры никуда выезжать. У нас три комнаты и ванна. И не собираюсь болтаться по коммуналкам.
«Голубая книга»
На что бы ни обратил зощенковский герой свой рыбий глаз, какую бы жизнь ни пытался он пересказать нам «своими словами» – будь то жизнь Александра Македонского, или Люция Корнелия Суллы, или Екатерины Второй, – мы не можем отделаться от ощущения, что перед нами все тот же, бесконечно нам знакомый, многократно виденный и досконально нами изученный коммунальный советский «клоповник».
...
Такой жил при Екатерине Второй крупный политический деятель, некто Орлов. Знаменитый граф, любитель лошадей.
Вообще-то он не был графом, но после убийства Петра Третьего, к чему он был причастен, его произвели в графы.
А вообще это был крупный прохвост…
А тут еще вдобавок брат его, Гриша Орлов, состоял одно время, как известно, любовником Екатерины…
Короче говоря, однажды Екатерина Вторая приглашает к себе этого джентльмена и так ему говорит:
– Будь, говорит, другом: поезжай сейчас в Италию. Там, говорит, объявилась самозванка, княжна Тараканова. Она выдает себя, между прочим, за дочку Елизаветы Петровны. Или, может, это действительно ее дочка. Только она метит на престол. А я этого не хочу. Я еще сама интересуюсь царствовать.
«Голубая книга»
Это свойство зощенковского героя представляет собой как бы зеркальное отражение волшебного дара царя Мидаса: тот любую груду мусора прикосновением своим мгновенно обращал в золото, а этот мгновенно обесценивает любой предмет даже не прикосновением, а одним своим взглядом. Весь мир под его взглядом преображается в жалкую, заплеванную коммунальную квартиру. На какие бы высокие ценности этого мира он ни обратил бы свой взор, видит он всегда лишь одно: мелкие, грубо утилитарные побуждения. Только самые элементарные и низменные мотивы.
Вот автор «Голубой книги» пересказывает знаменитую средневековую легенду о рыцаре, который, отправляясь в поход, поручил жену своему другу. Друг влюбился в жену рыцаря, жена влюбилась в него. Но клятва верности и долг дружбы для них превыше всего. И чтобы доказать самим себе эту свою высокую верность, влюбленные спят в одной постели, положив между собой обоюдоострый меч.
И даже в рассказ об этом высочайшем проявлении человеческого благородства зощенковский рассказчик, не удержавшись, добавляет свою неизменную ложку дегтя:
...
Меч-то, может быть, они положили, и спали, может быть, они тоже в одной постели, – этот исторический факт мы опровергать не будем, – но что касается всего остального, то, извините, сомневаемся.
Но вот совсем другой, казалось бы, несомненный факт, свидетельствующий о самой возвышенной, поистине необыкновенной, неземной любви. Он тоже из тех, что нашему рассказчику с трудом удалось «наскрести», прочитав со старанием всю мировую историю от сотворения мира и до наших дней.
...
У английского поэта Р. Броунинга умерла горячо любимая жена. Страшно оплакивая ее, поэт положил в гроб самое дорогое, что было для него, – тетрадь своих новых сонетов.
Правда, в дальнейшем, когда поэт еще раз полюбил, он достал эту тетрадь, но это не так важно.
Хотя рассказчик и пытается уверить нас, что случившееся в дальнейшем «не так важно», нам совершенно ясно, что для него как раз именно это в рассказанной истории важнее всего.
В сущности, знаменитый поэт в этом случае поступил совершенно так же, как герой зощенковского рассказа из той же «Голубой книги» – инженер Николай Николаевич Горбатов. Этот инженер тоже ужасно любил свою молодую жену – поэтическую особу, о которой в рассказе говорится, что она могла «целый день нюхать цветки и настурции или сидеть на бережку и глядеть вдаль, как будто там что-нибудь имеется определенное – фрукты или ливерная колбаса».
А этот инженер Горбатов, он тоже был натурой в высшей степени поэтической. Совсем под стать своей супруге.
И вот случилось так, что эта самая дама в один прекрасный день пошла на речку купаться и не вернулась. Она утонула. Инженер Николай Николаевич сперва вел себя совершенно так же, как английский поэт. Он безумно убивался.
...
Он валялся на берегу, рыдал и все такое, но его подруга погибла безвозвратно, и даже тело ее не могли найти. И от этого инженер тоже чересчур страдал и расстраивался.
– Если бы, говорил он своей хозяйке, она нашлась, я бы больше успокоился. Но, говорит, такая жуткая подробность, что ее не нашли, совершенно меня ослабляет. И я, говорит, через это ночи не сплю и все про нее думаю. Тем более я ее любил совершенно неземной любовью, и мне, говорит, только и делов сейчас, что найти ее, приложиться к ее праху и захоронить ее в приличной могилке и на ту могилку каждую субботу ходить, чтобы с ней духовно общаться и иметь с ней потусторонние разговоры. Поскольку моя любовь выше земных отношений.
Не умея сочинять сонеты, инженер Горбатов ограничился тем, что «настриг листочков и на этих листочках написал крупным шрифтом: мол, нашедшему тело, и так далее, будет дано крупное вознаграждение».








