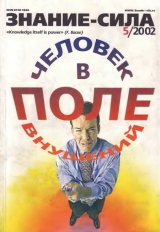
Текст книги "Знание-сила, 2002 №05 (899)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Научпоп
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Может быть, Атлантида – это Европа?
Александр Грудинкин
И а этом~то острове, именовавшемся Атлантидой. возникло удивительное по величине и могуществу царство, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка, а сверх того, по эту сторону пролива они овладели Ливией вплоть до Египта и Европой вплоть до Тиррении.
Платон. «Тимей» (перевод С. Аверинцева)

Подумать только, более десяти тысяч книг повествуют об Атлантиде, острове, который впервые описал греческий философ Платон в своих диалогах «Критий» и «Тимей». Десять тысяч книг! И чуть ли не в каждой – новое место катастрофы и новая дата гибели легендарной страны. Получается, что события, описанные Платоном, могли протекать с 80 ООО года до новой эры вплоть до 1200 года до новой эры. Но как можно найти что-то в таком интервале времени!
Однако археологи, искавшие Атлантиду «на кончике пера», открывали ее следы везде. И очень возможно, что места поисков когда-нибудь совпадут со всеми топонимами на нашей планете. Древнюю страну ищут то в горах на высоте 3400 метров над уровнем моря (Боливия), то в Атлантическом океане на глубине 2500 метров ниже уровня моря. Поразительно! Но всякий раз авторы гипотез находят веские основания, чтобы доказать присутствие погибшей цивилизации именно в полюбившемся им месте. Любой клочок Земли может стать Атлантидой – вот что интересно, парадоксально и… тоже загадочно.
* Азорские острова? Конечно. Неподалеку от них, на дне моря, обнаружили глыбы застывшей лавы. В таком случае Атлантиду, как и Помпеи, погубил вулкан.
* Греческий остров Санторин? Он был разрушен грандиозным извержением вулкана и частично погрузился в море. Возможно, Атлантида лежала здесь, неподалеку от Египта.
* Озеро Титикака в горах Южной Америки? Да, ведь оно лежит на высокогорном плато, по всему схожим с Атлантидой, как ее описал Платон: «Весь этот край лежал очень высоко и круто обрывался к морю, но вся равнина, окружавшая город и сама окруженная горами, которые тянулись до самого моря, являла собой ровную гладь». С двух сторон его окружают хребты Кордильер. Здесь, на плато, археологи обнаружили остатки искусственного канала длиной 25 километров и шириной 184 метра. Чем не Атлантида?
* Антарктида? А почему бы и нет? В отдаленные времена, по уверениям некоторых псевдоученых, Антарктида являлась обширным архипелагом, где не было привычной теперь громады ледников, а жили люди. Позднее, когда магнитные полюса Земли в очередной раз поменялись, им пришлось покинуть свою страну, но память о ней они сохранили, расселившись по свету.
Несть предела выдумкам энтузиастов. ‘Причина околонаучной путаницы понятна. Рассказ Платона об Атлантиде содержит несколько сотен строк и обрывается буквально на полуслове. «Большая часть диалога «Критий» либо утеряна, либо недописана самим Платоном, причем эта часть являлась бы самой интересной» – отмечала известный советский филолог А. Тахо-1оди. Сам Платон назвал свой рассказ «истинной правдой» и приписал его афинскому политику и мудрецу Солону, жившему в VI-V веках до новой эры. В свою очередь, Солон узнал об Атлантиде, побывав в египетском городе Саис. И вот здесь– то, расспрашивая о древних временах самых сведущих жрецов, он узнал про остров, что «превышал своими размерами Ливию и Азию, вместе взятые», остров, с которого легко было перебраться «на противолежаший материк», остров, который исчез, «погрузившись в пучину». Жрецы поведали ему, что произошло это девять тысяч лет назад. Остров же был сказочно богат: он давал «любые виды ископаемых твердых и плавких металлов», а еще «самородный орихалк, по ценности своей уступавший тогда только золоту… и испускавший огнистое блистание». Остров был покрыт лесом, который «доставлял все, что нужно, для работы строителям, а равно для прокормления диких и домашних животных».
Некогда, гласило предание, этот остров получил в удел бог Посейдон и населил своими детьми. Старший из них – Атлант – получил в удел обширное царство на острове. Девять братьев его – Евмел, Амферей, Евэмон и другие – стали властвовать над окраиной Атлантиды и другими островами «моря, что именуется Атлантическим». Каждые пять-шесть лет цари собирались на семейный совет, обсуждая, как увеличить достаток в стране и ее могушество. Местом встречи был храм Посейдона, стоявший «в средоточии острова»*

Такими маршрутами племена северян двигались в сторону Малой Азии и Египта
Так была или нет…
…реальная подоплека в этом рассказе? Дата, указанная Платоном, 9600 год до новой эры, вызывает у многих недоверие. Уж слишком рано, подозрительно рано появилась цивилизация атлантов. Пройдет почти семь тысяч лет, и лишь тогда свет мудрости забрезжит в Египте. Почти восемь тысяч – и лишь тогда расцветет крито-минойская цивилизация. Спрашивается, верна ли платоновская дата?
Но разве не могло быть, что Солон, записывая сказание об Атлантиде, допустил одну вполне простительную ошибку, которая впоследствии сыграла роковую роль? Он без обиняков принял на веру срок, подсказанный египетскими жрецами, – девять тысяч лет назад. А если предположить, – это всего лишь гипотеза! – что жрецы вели счет времени не по Солнцу, а по Луне? Тогда от разговора с ними до гибели Атлантиды прошло девять тысяч… лунных месяцев. В таком случае Атлантида погибла около 1200 года до новой эры, на исходе бронзового века. Это уже совсем другое дело.
В этой дате кроется важный смысл. Около 1200 года всю тогдашнюю ойкумену потрясают страшные катастрофы: на всем протяжении от Греции до Египта все воюют друг с другом. Не извержения вулкана губят культуры того времени и не падения метеоритов в Атлантику, а мировая война. После нее множество людей погибли или попали в рабство. Тогда и родился миф о таинственной стране – Атлантиде.
А началось все с изменения климата. Громадные приливные волны стали обрушиваться на побережье Северного моря, низменности были затоплены. На обширной территории Европы – в Англии, Германии, Нидерландах, Бретани – начался голод. В ту пору здесь жили племена, хоронившие своих покойных на необычный манер: они кремировали их, а прах помешали в керамические сосуды, погребальные урны. Археологи так и назвали их культуру – культурой полей погребальных урн.
Чтобы выжить, племена двинулись на юг. Ведь они знали, что где-то на юге лежат богатые страны – Греция, Египет. Издавна они торговали с южанами, выменивая товары на янтарь, который часто находили на берегу моря. На этот раз к берегам Средиземного моря шли не отдельные торговцы, а целые народы, вооруженные бронзовыми мечами, копьями, круглыми щитами, а также рогатыми шлемами, наподобие тех, что через тысячи лет носили норманны. Фрески египтян и греков запечатлели облик этих рослых, воинственных северян.
Колонны беженцев все разрастались. Огромной волной они захлестнули Венгрию, докатились до Македонии, осадили Афины, пересекли Малую Азию и достигли нильской дельты, где в конце концов и были уничтожены войсками египтян.
Первое нашествие европейских племен на Египет отбил фараон Мернептах в 1219 году до новой эры. Шестичасовая битва стоила «варварам» почти девять тысяч человек убитыми и свыше десяти тысяч пленными. Однако вскоре на страну обрушилась новая, более мощная волна переселенцев. На этот раз они не только двигались посуху, но и плыли на лодках, за что и получили памятное название «народов моря». Лишь в 1170 году фараон Рамсес III окончательно разбил непрошеных пришельцев. Он был так горд своей победой, что велел запечатлеть сцены битв на стенах храма в Мединет-Хабу. Изображений было столько, что они заняли десять тысяч квадратных метров. В завещании Рамсеса III говорится: «Я повергнул их в кровь, сделав из них горы трупов. Заставил я их уйти до границы Египта. Привел я тех, кого оставил живыми… Их жены и дети – в количестве десятков тысяч, их скот – числом в сотни тысяч» (перевод И. Сологуб).
Именно победа над «народами моря», невесть откуда взявшимися воинственными людьми, и породила, как полагают некоторые исследователи, легенду об Атлантиде.

Интересно, что…
…многие сделанные в последнее время археологические находки подтверждают эту довольно странную гипотезу. Немецкий историк Юрген Шпанут обследовал остров Гельголанд. Три с половиной тысячи лет назад Гельголанд был горой, высившейся среди прибрежных низинных районов, часто затопляемых морем. Шпанут обнаружил остатки вала, сложенного из камней красного, белого и черного цвета. А ведь Платон писал: «Этот остров… пари обвели круговыми каменными стенами… Камень белого, черного и красного цвета они добывали в недрах срединного острова». Впрочем, несмотря на это, многие ученые не поставили знак равенства между Гельголандом и Атлантидой.
Ведь Атлантиды, о которой повествуют тысячи книг, очевидно, не было. Вполне возможно, что под этим собирательным названием скрывались земли, лежавшие для египтян далеко за Гибралтарским проливом, то есть побережье Центральной и Северной Европы и Британские острова. Сведения об этих землях доходили до египтян отрывочно, порой в фантастически искаженном виде. Их приносили чаще всего то чужеземные купцы, умевшие объясняться лишь на пальцах, то пленные, косноязычные враги.
Египтяне плохо знали географию Европы, хотя и торговали с ней. Для жителей Египта лежавшая к северу от них часть света казалась обширным архипелагом. Разные правители владели отдельными его островами, и один из них, «равный среди равных», вероятно, был «первым» и самым могущественным властителем, как было то в Атлантиде.
Жрецы подробно рассказали об удивлявшей их архитектуре атлантов. Как тут не подумать о том, что «народы моря», как и отдельные купцы, видимо, донесли до египтян сведения о громадных постройках, возведенных где-то на севере, «на одном из островов». Возможно, молва, путая и переиначивая все подряд, поведала египтянам о британском Стоунхендже или мегалитах Бретани, приписав их делу рук атлантов. Если египтяне узнавали об этих сооружениях, они, несомненно, думали, что речь идет о храмах или царских дворцах.
Однако они ошибались. К северу от Альп тогда не было никаких царских дворцов. Возможно, они думали, что там живут таинственные «варварские» правители, чьи армии дважды обрушивались на страну? Отсюда и «золотые стены и серебряные потолки». Ведь точно так же и крестоносцы верили, что на Востоке возводят дворцы и башни из драгоценных металлов.

Мегалиты Бретани напоминают легендарную архитентуру Атлантиды
В представлениях египтян…
…северные «варвары» жили где-то среди гор, на нескольких островах, разделенных то ли проливами, то ли каналами. В дремучих лесах водились огромные звери, а на некоторых островах были громадные каменные постройки – храмы и дворцы, богато украшенные. Правили ими несколько царей. Поклонялись они, несомненно, богу моря и потому так смело устремлялись на лодках сквозь грозные волны. Люди эти были очень воинственными и, как убедились современники Мернептаха и Рамсеса III, «всех превосходили твердостью духа и опытностью в военном деле».
Долгое время они держались в основном «по ту сторону Геракловых столпов», не смешиваясь со «всеми теми, кто жил по сю сторону». Лишь некая внезапная катастрофа, думали они, видимо, гибель их острова от извержения вулкана или землетрясения (как погиб несколько веков назад близкий к Египту Санторин), погнала этих людей к берегам Египта, где они были разбиты и рассеяны, ибо, как заявил в конце своего отрывочного рассказа Платон, «бог богов… помыслил о славном роде, впавшем в столь жалкую развращенность, и решил наложить на него кару».
Слишком фантастично, скажете вы. Но не торопитесь. Вспомните, сколько небылиц европейцы не далее как в средние века рассказывали об Индии, стране, куда какому-нибудь викингу или ганзейцу было добираться так же трудно, как жителю Саиса на Гельголанд или в Стоунхендж. Известия о далеких странах приносили посредники-толмачи, умевшие изъясняться почище «испорченного телефона», а непонятное дополняла фантазия. Так родилась Атлантида.
Конечно, Платон дотошно записал известный ему рассказ, но строгой веры ему подобало не больше, чем его современнику Аристотелю, утверждавшему, например, строго научно, что «у речных угрей нет пола, нет икры, молок; их порождают недра моря». Из тех же «недр моря» взялись «народы моря» – воинственные европейцы, памятью преданий превращенные в атлантов.
Лауреаты журнала ««Знание – сила» 2001 года

Геннадий Горелик -
давний и непременный автор нашего журнала. Опубликовав целую серию портретов замечательных ученых и и стори ко-физических очерков, вышел на «большие формы», издав книгу об Андрее Сахарове (о ней – в №№ 1 и 5). Также не могли не привлечь внимания читателей его статьи «Gloria mundy» о безвременно погибшем выдающемся ученом М. П. Бронштейне (№ 7) и «Две параллели между тремя перпендикулярами» – о новом взгляде на «отцов» водородной бомбы (№ 9).

Кирилл и Наталия Ефремовы –
выпускники МГУ, читают лекции студентам-психологам. Свои рассказы всегда создают вместе (даже если подписано одним именем). Задача одного соавтора – рождать необычные идеи и такой же текст, другого – терпеть этот шум, в нужные моменты изумляться или хмуриться и по первому требованию давать любые сведения про обезьян.

Андрей Юрганов -
историк, профессор, ученик знаменитого Кобрина, сегодня – один из самых талантливых и ярких исследователей истории и культуры средневековья Руси. Обратившись к дневникам Степана Борисовича Веселовского, он явил лучшие и интереснейшие стороны таланта не только автора дневника, но и свои собственные.

Татьяна Царевская -
по образованию историк, по профессии – архивист. Несмотря на свою молодость, двадцать лет провела на Пироговке, 17 – в Центральном архиве. Последние десять лет занимается изданием архивных документов, считая свое занятие самым важным и интересным. И если бы это не было профессией, делающей счастливой, говорит она, это было бы счастливым хобби. Кстати, кое-что из документов, прежде чем попасть в книги, попадает на наши страницы. За что Татьяна Царевская и стала лауреатом.
АКАДЕМИЯ ВЕСЕЛЫХ НАУК
Доколе будем терпеть глумление над нами?..
Игорь Андреев
Кажется, никогда за всю историю отечественного книгопечатания на читателя не обрушивалась такая лавина книг. Книги го истории в этом лавинном потоке занимают не последнее место. Однако обилие не радует. Очень скоро становится ясно, что большинство романов скроено по общим меркам и похоже друг на друга, как пироги одной выпечки. Бороться с этим бедствием бесполезно. Зуд писательства приобретает эпидемический характер.
Но – нет худа без добра. Широкие массы обретают уверенность в собственном даровании. Теперь каждый может внести свой скромный вклад в литературу.
Для доказательства мы предлагаем вниманию читателя вариант остросюжетного историко-эпического романа, построенного в полном соответствии с утвердившимися ныне канонами. В романе, как и положено, есть грозный и справедливый государь, представители элиты (патриоты и изменники) и протестующие, но патриотически настроенные выдвиженцы из угнетенных масс.
Для удобства роман можно отнести как к допетровской России, так и к послепетровской – кто как пожелает, поскольку разницы нет никакой (для романа из жизни XVIII века надо лишь изменить некоторые слова, что сделано для наглядности в представленном тексте).
Достоверность романа обеспечивают строго научные комментарии (они всегда производят впечатление), которые даны в сносках. Таким образом, наш эпохальный образец несет не только высокую эстетическую, но и познавательно-образовательную нагрузку.
На переломе. Роман из жизни Московского царства (Российской империи)
Глава 1. Штурмом брать животы!
Царь (император) хмуро сидел на троне, выщипывая бороду (теребя голый подбородок) и сверля бояр (сенаторов) гневными очами (глазами).
– Так как же, бояре (господа сенаторы)? Доколе будем терпеть глумление над нами немцев?!
– Куда нам с ними, государь (ваше величество), тягаться, – простодушно встрял (произнес) боярин (сенатор) князь Федор Иванович Долгополов, известный космополит[1] и хапуга. – Весь дефицит[2] чрез них, проклятых, идет. Три шкуры дерут (ассигнациями), а деваться некуда – надо терпеть.
– Может тебе, Федька, и сподручно терпеть, а нам не с руки, – вспылил гордый князь Василий Михайлович Химки-Ховрино. – Вели, государь (ваше величество), немцев с царства (из империи) выбивать и нашим товаром жить.
Долгополов раскатисто рассмеялся.
– Совсем ополоумел князь! Да где это видано, чтобы мы нашим товаром жили?! Чай[3] , не варвары какие, XVI (XVIII) век за окном. Ты, князь, видать ум свой в кабаке (трактире) пропил, раз такое плетешь.
Пикировка бояр (господ сенаторов) вывела царя (императора) из себя. Он хватил посохом по полу (кулаком по столешнице) и закричал:
– Стыдитесь! Лаетесь, аки псы, когда немцы державу нашу растаскивают[4] . За такую вашу дурь в опалу вас, на дальнее воеводство (губернаторство). Тебя, Васька, в Астрахань, тебя, Федька, в Архангельск. Вон с глаз моих!
Вельможи, горько плача и скаредно (по-французски) ругаясь промеж себя, отправились в ссылку. Наступила тягостная тишина, которая бывает только при абсолютизме (просвещенном абсолютизме), и лишь думный дьяк (тайный советник) Агей Крюк, человек умный, но со связями, осмелился нарушить ее.
– Немцы ловки, слов нет, но и у нас на их заморский товар свой есть. Прикажи, государь, и мы их квасом сомнем.
– Ой, ли? – хором засомневались погрязшие в консерватизме бояре (сенаторы).
– Истину говорю! Что их прокисшее вино против нашего квасу, особенно клюквенного или медового? До самой Гишпании (Испании) квас повезем и рынки повоюем.
Царь (император) обрадовался. Хоть и скуповат был, а тут не устоял, расщедрился, – одарил Крюка ласковым взглядом (орденом).
– Дело говоришь, Агей! Вот вам мой указ. Везти квас за море, штурмом брать немецкие животы!
Глава 2. Заговор немцев
Английский шпион и посол граф Кальве, тайный приверженец пуритан[5] , принимал на Старом Посольском дворе в Москве (в посольском особняке в Петербурге) французского посла и шпиона маркиза Вискаса. Оба смертельно ненавидели друг друга, особенно после того, как граф выиграл у маркиза в дурака конюшню в самом центре столицы. Но на этот раз политические соображения перевесили мелкие дрязги.
– Московиты подымают голову. Я боюсь за наших пивоваров, – признался граф Кальве.
Вискас, как истинный француз, был ветреней и беспечен.
– Вы имеете в виду интригу с квасом? У них ничего не выйдет. В Лувре (в Версале) не станут хлестать квас вместо шампанского.
Граф недобро усмехнулся вставными челюстями.
– Кто знает – кто знает. Вы когда-нибудь пили квас? Нет, не тот, что продают на улицах. Настоящий, домашний. У меня его Акулька (мадмуазель Акулина) готовит.
Граф достал из погреба запотевший кувшин и разлил квас в венецианские чарки.
– За здоровье их величеств, – провозгласил маркиз, выуживая из кармана закуску – горсть чеснока и сардины. – Что это за прекрасный напиток? Неужели квас?
– Да, и он разорит виноградарей вашей бедной Франции.
– Нет-нет, я знаю московитов (русских). Они не выдержат технологии.
– Увы, маркиз, на этот раз они серьезно настроены. Даже купили в штатах[6] импортное оборудование – обручи на бочки.
– О, Пресвятая Дева! – схватился в отчаянье за парик Вискас. – Как нам спасти цивилизацию?!
– Наконец-то вас проняло, – обрадовался англичанин. – К счастью, у меня созрел превосходный коварный план…
Глава 3. Луидорами нас не купишь!
– Легких кафтанов побольше кладите, – приказывал Химки-Ховрино слугам, укладывавшим сундуки (чемоданы) в телеги.
– И шубы, шубы тоже, – запричитала боярыня (сенаторша) Марфа.
– Цыц, глупая баба (для XVIII тоже баба)! – прикрикнул на жену Василий Михайлович. – В жару едем, без шуб обойдемся.
– Как без шуб? Ведь моль побьет (из моды выйдет).
– Ну и пускай разор, пускай нишета! Все равно в мире правды нет. Вон Федьке Долгополову как повезло. На холодок едет, елками дышать. Где справедливость?
В дверь постучались. Вошедший холоп (мажор) доложил:
– Немец из фряжской земли к боярину на два слова (на аудиенцию) просится.
– Вот нелегкая принесла! Проси. А ты, матушка, ступай, нечего на немцев зенки пялить.
Боярин (сенатор) блюл свою нравственность и жену никому не показывал.
– Мое сердие обливается кровью, – начал хитрый, как Одимей[7] , маркиз Вискас. – Я отписал в Лувр (Версаль). Весь двор в скорби. Такой великий ум – и в такую глушь!
– Плевать я хотел на твой Лувр (Версаль) с колокольни Ивана Великого, – ответил прямодушный Химки-Ховрино. – Лучше говори, зачем пришел. Чай, не чай[8] (кофе) со мной пить.
Маркиз, привыкший к коварной европейской учтивости, был смущен такой простотой.
– Слышал я, что государь ваш по навету дьяка (тайного советника) Крюка вздумал торговать с нами квасом. То зело прискорбно, ибо кваса мы не пьем и окрошки не едим. Так вы бы, князь, это дело испортили и Крюка опозорили. Тогда его в опалу, а вас в Москву.
– Это как же… испортить?
– Очень просто. Как придет к вам указ караван с квасом собирать, так вы его окольным путем через Индию отправляйте. Известно, товар скоропортящийся, по дороге скиснет; а коли на то в деньгах нужда – вот! – и маркиз широким жестом высыпал на стол новенькие луидоры.
Химки-Ховрино, хотя и был боярином (сенатором), но в душе оставался патриотом. Он побледнел и взвился.
– Ах ты, погань фряжская (французская)! Вздумал меня купить луидорами! Вискас опомниться не успел, как Василий Михайлович сгреб его за грудки и выбросил в повалушное окно.
Глава 4. Гинеи-шиллинги на бочку!
– Шуб и шапок поболе кладите, – кричал боярин Долгополов слугам, укладывающим рухлядь в сани (карету).
– А летники и сарафаны куда? – запричитала боярыня (сенаторша) Дарья.
– Цыц, глупая баба. – осадил жену князь. – В холод, в сугробы едем, зачем сарафаны.
– А если без присмотра растащат?
– Ну и пускай тащат. Все равно правды нет. Вот Ваське Химки-Ховрину опала досталась. Не опала – юга и курорт[9].
Вбежавший в светлицу (кабинет) слуга доложил:
– К вашей милости немец англитской земли просится.
Одетый во все ношенное граф Кальве сразу перешел к делу.
– Не буду лукавить, боярин (сенатор). Ваш отъезд для нас – нож в сердце. Лондон скорбит. В Сити[10] – самострелы. Но у нас – граф поднял палец – не принято бросать хороших людей в беде.
– Неужто из-за меня войну объявите?
– Мы бы с удовольствием. Но сейчас у нас денежные затруднения. Однако есть другой способ…
– В эмиграцию не поеду. Я вам не какой-нибудь Курбский[11] .
– Зачем же в Лондон, когда можно и здесь. Прикажите кораблям с квасом из Архангельска вкруг Америки плыть. Гладишь, и сгинут в морской пучине. Государь на вашего недруга Агейку Крюка рассердится. Его – на плаху (в темницу), тебя, боярин (сенатор), назад в Москву.
– Опасное дело, – заколебался Долгополов, – фунты-гинеи дашь?
– Сколько угодно – все на бочку!
Князь шаркнул горлановую шапку (шляпу с позументом) об пол.
– Эх, жисть наша боярская (сенаторская), каторжная. По рукам!
Глава 5. Справедливый государь
Царь (император) скучал. Он смотрел в слюденное (застекленное) оконце, сочившееся чахлым светом, и вздыхал. Было от чего придти в уныние. Прошел год, а в стране не было ни кваса, ни денег (валюты). Вчера он даже решил отрубить голову (отдать в Тайную экспедицию) Крюку, но одумался – пускай еще ее поносит.
В сенях (вестибюле) послышался шум. Двери распахнулись и в покои, размахивая грамоткой (депешей), ворвался расхлестанный Агей Крюк.
– Великий государь (ваше императорское величество), важные вести!
– Говори.
– Посольская отписка из Италии. Караван с квасом прибыл в Италию из Астрахани. Торговля идет бойко. Квас теснит вино. В Неаполе восстание виноградарей. Разбито десять бочек. Испанский дук (гериог) ввел в город ратных людей…
По мере того как дьяк (тайный советник) читал, лицо царя светлело.
– Слава Богу, – наконец, сказал царь[12] (император[13] ). – Отпишите в Астрахань боярину (сенатору) Химки-Ховрино с похвалою: за то, что караван хорошо снарядил, я его прощаю и велю еще три года воеводою (губернатором) в Астрахани сидеть. А что про морской караван слышно? Давно от князя Долгополова известий нет.
– Великая измена, государь. Федька Долгополов вкупе (в аллиансе) с ворами, немцами графом Кальве и маркизом Вискас такую шкоду учинили, что язык немеет.
Просветлевшее лицо царя (императора) снова потемнело.
– Говори.
– Разреши, государь, человека привести, который про измену проведал и донес.
Царь (император) сурово кивнул сумрачной головой.
Двое стрельцов (кавалергардов) ввели в палату (зал) мужика. По тому, как запахло луком, чувствовалось, что мужик из самой гущи народа. Царь (император) поморщился, но стерпел.
– Как звать?
– Мишка аз.
– Вор (бунтовщик)?
– Разинец (пугачевец), – гордо ответил Мишка.
– Ишь ты, смелый какой, – недобро усмехнулся царь (император). – А почто мне помогаешь, на боярина (сенатора) Долгополова доносишь (фискалишь)?
– Нет мочи смотреть, как изменник народный продукт губит. В Архангельске сам слышал, как он твоим государевым словом приказал квас вокруг Америки вести. Для выдержки, говорит. А губит квас воевода (губернатор) по наущению немцев, супротивников московских (российских)!
– Ах, вор, ах, мерзавец! – заскрипел передними зубами царь (император). – Агей Крюк! Поедешь в Архангельск с розыском. Долгополова в железа и сюда прислать. Пускай в немилости в Москве живет. Корабли из Америки вернуть и отправить в Европу. Послов схватить.
– Никак нельзя. Послы – дипломатическая неприкосновенность. Можно только выслать, – возразил Крюк.
– Вот она, Европа, – в бессилии развел руками царь (император), – даже душу не отведешь. Тогда вот что: Мишку за вести наградить, за воровство – повесить.
– Суров ты, государь, но справедлив, – со вздохом умиления произнес думный дьяк (тайный советник), уводя Мишку награждать и вешать.
Эпилог. Свежий ветер
Свежая куртина (ветер) полоскала широкую холстину парусов. По сходням кораблей крепкие, похожие на Мишку, мужики (бурлаки) споро катали бочки с квасом. Бочки падали в раскрытые рты (зева) трюмов и замирали, бурля вспененным суслом. Ядрено пахло морем, простором и перспективой. Сломленная Европа, вытягиваясь в очереди, вожделенно ждала кваса…
Сноски
1 Здесь – интернационалист.
2 Дефицит – от лат. «Недостаток». Издавна существовал на Руси, что неопровержимо доказано крестьянскими бунтами и городскими восстаниями.
3 Не путать с чаем – напитком.
4 Я переносном смысле. Имеется в виду неэквивалентный обмен – товары на энергоресурсы (дрова) и полезные ископаемые (меха).
5 Разновидность непьющих людей в Англии, занятых первоначальным накоплением капитала.
6 Не путать с США. Здесь – Голландия.
7 Злостный неплательщик алиментов из греков. Был опознан и изобличен женой Пенелопой. Символ хитрости.
8 Здесь как раз чай, как чай – импортный китайский напиток из растения, произрастающего в Краснодарском крае.
9 Такого термина в те времена не было, но в историческом романе допускаются маленькие неточности.
10 Деловая часть Лондона, где располагались банки и ростовщики.
11 Первый грамотный диссидент, известный тем, что переписывался с царем Иваном Грозным.
12 Царь был верующим.
13 Хотя император был масоном, в глубине души он тоже верил в Бога.
МОЗАИКА

Каменный цветок
Хризантема – один из любимых цветов китайцев. Ее любили всегда.
Она воспета во многих стихах поэтов, живших в различные эпохи.
В провинции Цзянси найдены залежи оригинального камня, вид которого напоминает хризантему. Это окаменевшие морские водоросли 270-миллионолетней давности. От долгого пребывания в воде расходящиеся из центра каменные лучи стали тонкими и гладкими. Сегодня изделия из такого камня пользуются в Китае большой любовью и популярностью. Разумеется, «лепестки» каменных хризантем немного выправляются, чтобы придать «цветку» соответствующую форму.
Диаметр крупных каменных хризантем может достигать нескольких десятков, а самый маленький – двух-трех сантиметров. Легкая шлифовка и полировка естественного каменного цветка придают ему необыкновенное изящество.

Согласно традиции
Служащие небольшого британского банка при многие годы службы клерки привыкли, что первый опоздавший с британской лаконичностью сообщает: «Туман», и невозмутимо писали напротив своей фамилии: «То же самое». И с годами они так привыкли к этому ритуалу, что уже не читали, о чем говорит первая запись И вот недавно первый нарушитель трудовой дисциплины указал в книге необычную причину опоздания: «Жена родила двойню». Приверженные традиции коллеги, не читая, приписали ниже: «То же самое».

Бридж в четыре руки
Можно ли обучить шимпанзе играть в карты? Профессиональный игрок в бридж американец Г. Тейлор решил доказать друзьям, что в этой игре нет ничего сложного и любой может освоить это искусство.
В течение месяца он ежедневно тренировал трехлетнего примата, проводя с ним все свободное время. Смог или нет «наш предок» освоить это ремесло, неизвестно. Накануне выпускного экзамена ученик сбежал из дома. Наверное, решил самостоятельно, следуя примеру своего наставника, зарабатывать себе на жизнь.
Говорят, что недавно в одном из местных казино объявился экстравагантный, но очень богатый игрок. Он не говорит, у него волосатые руки и небритое лицо, зато в бридж играет великолепно!
Что в имени тебе моем
Несколько десятков магазинов родного города Чан-чунь обошла выпускница торгового техникума по имени Пей – и ни в одном ее не взяли на работу. Коммерсантов не волнуют ни оценки в дипломе девушки, ни умение общаться с людьми, ни прекрасное знание конъюнктуры. Едва заслышав ее имя, директора магазинов машут руками и указывают соискательнице на дверь. Дело в том, что Пей в переводе с китайского означает «потеря денег».
Тайна «пуховой комнаты»
Индейцы племени майя еще в 1000 году до новой эры с невероятной точностью вычисляли расположение звезд на небе. Астрология считалась у древних майя тайной наукой и передавалась из поколения в поколение, и познания в ней за прошедшие тысячелетия, видимо, не угасли, а успешно развивались.
Такой вывод напрашивается после заявления Конфедерации объединенных коренных жителей Гондураса, созванной нынешними майя, где они потребовали возвращения им сокровища, в 1525 году захваченного испанскими конкистадорами, обнаружить местонахождение которого до сих пор не удалось.
Речь идет об уникальных произведениях искусства – гобеленах, настенных коврах и балдахинах, выполненных из миллионов перьев колибри, некогда украшавших спальни высших жрецов майя. Комплекс называется «пуховой комнатой» и был подарен испанским королем Карлом II саксонскому курфюрсту Августу Сильному, который так хорошо припрятал сокровища, что о нем позабыли и след его затерялся.








