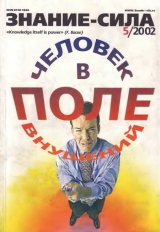
Текст книги "Знание-сила, 2002 №05 (899)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Научпоп
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
А была ли бомба?
Александр 3айцев
Весной 1945 года, в последние дни войны, молва разносила по Южной Германии слухи странные и диковинные. По Мюнхену бродили «арийцы и партийцы», еще верившие в победу, и, обходя квартиру за квартирой, твердили испуганным хозяевам, что немецкие ученые только что создали атомную бомбу и теперь «враг будет разбит». Многие обыватели, внимая ужасам войны, подобным слухам доверяли.
И в послевоенные годы подобные слухи пользовались популярностью. Долгое время поговаривали о том, что на острове Борнхольм у немцев была секретная фабрика, где изготавливали урановые бомбы. Ходили слухи, что бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, были изъяты из секретных арсеналов нацистов.
Рейхсминистр Шпеер сразу после ареста был допрошен о работах над атомной бомбой. Он показывал следующее: «Точно так же, как у вас в Америке, наши ученые давно изучали расщепление атома. Вы далеко продвинулись. У вас имеются огромные циклотроны. У нас же построили несколько небольших циклотронов – да и то, лишь когда я стал руководить работами. На мой взгляд, мы далеко отстали от вас. Мы не шагнули дальше примитивных лабораторных опытов, и даже они мало заслуживают упоминания». Для успеха «нам потребовалось бы еще десять лет», подчеркнул министр.
Шпеер был убежден в этом. Он говорил то, что внушили ему физики. Сам Гейзенберг убедил его в том, что атомную бомбу нельзя создать в ближайшие годы. Однако на то были свои причины, неизвестные властям. Чем дольше ученые работали над атомным проектом, тем яснее вырисовывались трудности, стоявшие на их пути. Поэтому не было резона привлекать внимание властей к данной работе, незачем было уверять их, что «мы готовы создать чудо-оружие для Рейха».
Впоследствии профессор Гейзенберг так сформулировал позицию немецких физиков в годы войны: мы не имели желания изготавливать атомную бомбу и были лишь рады тому, что обстоятельства избавили нас от необходимости работать над атомной бомбой.
Гейзенберг лукавил. Немецкие физики создали бы это оружие, будь у них достаточно времени. Они были типичными «кабинетными учеными девятнадцатого века»: экспериментаторами и прагматиками. Их нельзя назвать ни «воплощением зла», ни «совестью эпохи». Азарт исследователей гнал их вперед, а чувство опасности, невольно исходившее от властей, заставляло сдержаннее и рассудительнее выбирать цели своих исследований, не обещать неисполнимое, дабы не нести потом «невосполнимую утрату». Они не испытывали моральных терзаний; они ставили перед собой вполне достижимую цель и, преследуя ее, проводили эксперимент. Один, другой, третий, пока не добивались успеха.
Так они действовали и тогда. Возможные цели: бомба и ядерный реактор. Из-за нехватки средств лучше ограничиться одной из них. Возможная неудача более наказуема в первом случае, поэтому все силы и средства надо употребить на то, чтобы изготавливать реактор, а не бомбу.
Вполне возможно, что немецкие ученые все же построили бы реактор, а затем стали бы создавать атомную бомбу. Тот же Гейзенберг даже в последние месяцы войны готовился к эксперименту с реактором. Его гнала одержимость исследователя; любопытство влекло его вперед. Немецкие физики могли бы добиться успеха еще в начале сороковых, однако вмешались субъективные факторы: личные качества людей, руководивших атомным проектом в Германии, а также взаимоотношения теоретиков и практиков в ученой среде. Поговорим об этом подробнее.
Во-первых, подчеркнем, что в США атомным проектом руководили высшие военные чины. Что же было в Германии? Первым «уполномоченным по ядерной физике» стал профессор Абрахам Эзау. Атомный проект мало увлекал его; он был слишком приземленным человеком, чтобы верить во «всемирную электростанцию в шарике урана». Современники так отзывались о нем: он был человек «порядочный и скромный, очень много знающий и многого добившийся», человек, которому «уже не о чем мечтать». Подобные черты достойны похвалы, но разве можно отнести эту фразу – «уже не о чем мечтать» – к ученому, возглавлявшему загадочный «атомный проект». Здесь, как нигде, требовались люди увлеченные, одержимые идеей. Только мечтатели и идеалисты могли создать атомную бомбу. Прочим путь в царство атома был заказан.
Профессор Герлах, сменивший Эзау, был еще менее энергичен, чем его предшественник. Он явно недооценивал своих американских коллег. Он полагал, что те гораздо практичнее нацистов, и потому «призрак атомной бомбы» вряд ли их увлечет. Нет, они слишком большие реалисты, чтобы тратить на эту работу сотни тысяч долларов! Кроме того, стараясь уберечь немецких физиков от отправки на фронт, он откровенно «раздувал» любую программу. Чем больше научных групп будет заниматься одной и той же работой, – пусть мешая друг другу, пусть отнимая другу друга ценнейшее сырье, – тем больше ученых ему удастся спасти. При дефиците урана и тяжелой воды это было катастрофой.
Итак, ученые, руководившие физикой в Германии, лишь тормозили работу над атомным проектом – и не важно, что двигало ими, непонимание целей или желание «спасти отечественную науку». Немецкие физики могли создать атомную бомбу, потому что обладали и нужными для этого знаниями, и необходимым сырьем (пусть его было не так много), но немецкие физики не могли создать атомную бомбу, потому что свои знания они использовали прежде всего, чтобы накапливать новые знания, и потому что все необходимое сырье (тем паче, что его было не очень много) тратили на проведение каких угодно «интереснейших экспериментов», но только не на создание атомной бомбы.
Теперь поговорим о «другом факторе» – о вражде теоретиков и практиков в немецкой науке. Бесспорным лидером среди ученых был Вернер Гейзенберг, один из создателей квантовой механики, получивший Нобелевскую премию в 32 года. Если бы во время войны он держался подальше от атомного проекта, возможно, немцы бы и добились успеха, но он фактически подчинил все работы над этим проектом своим собственным интересам. Он почти без ограничений получал деньги и сырье и тратил их на проверку своих гипотез, лишая коллег возможности проводить эксперименты, которые, как мы можем судить, принесли бы успех.
Немалую роль в этой «узурпации ядерной физики» сыграли еще два человека, составлявшие ближайшее окружение Гейзенберга. Это – Карл Вирц и Карл Фридрих Вейцзеккер, ученые очень талантливые, многое сделавшие для науки, но «страшно далеки они были» от практики и особенно от нужд военной промышленности. Всех троих интересовала прежде всего своя карьера в науке, а не «победа любой ценой». Все трое затевали дорогостоящие эксперименты лишь для того, чтобы поверить их результатами свои теоретические выкладки. Собственно говоря, так поступали и поступают ученые во всех странах – но лишь в мирное время. «Создавая теоретические основы науки», не выиграть войну. Своими исследованиями военных лет Гейзенберг снискал лишь похвалы коллег, нечто эфемерное и удовлетворяющее одну только гордыню. Своими исследованиями военных лет американцы добились иного, более осязаемого успеха: создали атомную бомбу.
Упомянем и другие причины.
Так, сообщения абвера лишь успокаивали немецких физиков: до последних дней они были уверены, что намного опережают американцев. В конце тридцатых годов они, действительно, опережали их, но быстро растеряли преимущество. Последним их успехом стал опыт Гейзенберга и Депеля, проведенный весной 1942 года: тогда впервые в мире удалось зафиксировать размножение нейтронов. После этого эксперимента немецкая наука фактически «топталась на месте».
Немецкие ученые оказались сразу в двух технологических тупиках. Всю войну они пытались научиться обогащать уран-235, всю войну «налаживали» производство тяжелой воды, но так и не довели оба этих дела до конца. У них появлялись опытные образцы установок, способных разделять изотопы урана, но дальше образцов ничего не продвинулось. Еще хуже обстояло дело с производством тяжелой воды. Долгое время ученые уповали лишь на «чистую случайность» – небольшую норвежскую фабрику, способную выпускать немного тяжелой воды. О строительстве подобного завода в Германии говорили не раз, но разговорами все и кончилось.
В январе 1941 года, во время опыта в Гейдельберге, профессор Боте допустил ошибку, которую многие считают «роковой». Он доказал, что в качестве замедлителя нельзя использовать графит. Все опыты с этим материалом прекратились. Ошибка выявилась лишь в 1945 году, когда было поздно. Вероятно, причиной неудачи стали примеси азота, попавшие в графит из воздуха. После этого работа над «урановым проектом» застопорилась. Почему Боте не стал повторять опыт ради проверки полученных результатов? Очевидно, сказался авторитет Гейзенберга, раскритиковавшего графит еще в феврале 1940 года.
Наконец, отметим и то, что с середины 1943 года заниматься научной работой в Германии стало крайне трудно. Страна подвергаюсь постоянным бомбардировкам. Целый ряд важнейших экспериментов был из-за этого сорван.
Итак, немецкие ученые сосредоточили все силы на создании ядерного реактора, но им не удалось его сконструировать. Мало того: им не удалось убедить власти в том, что реактор нужен стране, ведущей войну. Поэтому к атомному проекту относились как к чему-то второстепеннному, «экзотическому». Его могли бы закрыть, если бы не энергия, авторитет, связи таких людей, как Гейзенберг и Вейизеккер. Его сохранили, но вниманием и поддержкой нацистских политиков он не пользовался. Разве можно сравнить дружную и целеустремленную работу американских ученых, участвовавших в Манхэттенском проекте с неторопливой и даже расхлябанной работой немецких ученых, работой, протекавшей в атмосфере вечных склок и ссор, работой, в которой одни участники проекта с нескрываемой враждой относились к другим, работой, в которой одни ученые порой затрачивали больше энергии на то, чтобы сорвать эксперимент своего коллеги, чем поставить собственный опыт?
Неудача немецкой науки обернулась великим благом для человечества. После войны, подводя итоги, Вейцзеккер писал: «Мне хочется подчеркнуть, что мы, немецкие физики, вовсе не были поставлены перед дилеммой, хотим ли мы или не хотим делать атомную бомбу. Если бы мы оказались перед таким выбором, то, безусловно, некоторые из нас наверняка стали бы делать бомбу».

ГЕЙЗЕНБЕРГ, ВЕРНЕР (5.12.1901, Вюрцбург – 1.02.1976 Мюнхен). Физик. Сын известного историка-византиниста Августа Гейзенберга. По окончании Мюнхенского университета работал в лаборатории Н. Бора в Копенгагене. В 1925 году вместе с Н. Бором разработал матричную механику – первый вариант квантовой механики. В 1927 году сформулировал принцип неопределенности, выражающий связь между импульсом и координатой микрочастицы. Его работы по квантовой механике были отмечены Нобелевской премией (1932). В 1932 году – независимо от Д.Д. Иваненко – пришел к выводу, что атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Создал теорию строения атомного ядра, исходя из идеи, что обе эти частицы (протон и нейтрон) являют собой различные состояния одной и той же элементарной частицы. С 1941 года – директор Института физики в Берлине. С приходом к власти национал-социалистов подвергался преследованиям за свои убеждения, а также за свое отношение к «чисто немецкой науке». Тем не менее именно Гейзенберг стал фактическим руководителем немецкого атомного проекта. Его деятельность в эти годы долго являлась предметом споров. После войны Гейзенберг был на некоторое время интернирован. Впоследствии был директором Института физики при Обществе имени Макса Планка.
ПОРТРЕТ НОМЕРА
Жизнь как искусство невозможного
Галина Вельская

Иное всегда дано
Был снежный март 1990 года. Во дворах – сугробы, на тротуарах – горы сбитого льда. И вдруг грянула жара. Именно в такой безумный день я искала место, где проходила конференция о закономерностях исторического развития. Устроители решили собраться почти на природе, вдали от города, в бывшей дворянской усадьбе, а ныне – пансионате, простаивающем из-за межвременья: ни лето, ни зима. Этот-то пансионат и надо было отыскать. Сложность состояла в том, что название остановки точно совпадало с названием пансионата, который, по естественной логике россиян, находился совершенно в другом месте. Эта остановка с нужным названием путала все карты и уводила черт знает куда.
Проездив и проходив в сапогах и в шубе по дикой жаре со снегом и льдом, я добрела до конференции, когда солнце, достигнув апогея, клонилось к западу.
В пансионате пахло рыбой и пыльной сыростью. И люди были серые, уставшие, а их доклады – монотонными и, в сущности, одинаковыми: все, что случилось с Россией (речь шла о ней) – революция, гражданская война, создание промышленности, мощного государства, – все закономерно, действительно, а значит, и необходимо. Иного не дано.
Это я учила в школе, потом в университете, и чтобы услышать еще раз, нечего было сквозь лед и жару преодолевать пространство и время. Экая досада!
В это самое время к самодельной трибуне энергично устремился человек – высокий, широкоплечий, бритоголовый, в широченных штанах, наподобие брюк, и цветной ковбойке. Он мгновенно пересек зал, всколыхнув застоявшийся воздух, легко вскочил на сцену и громко произнес: «Как это – иного не дано? Посмотрите на природу – какое разнообразие видов и вариантов! Посмотрите на ландшафты – горы, реки, озера! Посмотрите на деревья! В истории – точно так же. Страны, регионы – у всех своя история, свой путь развития. Иное дано всегда, оно окружает нас. И только фанатик думает, что иное не существует».
Зал словно очнулся, кто-то стал говорить с места, кто-то заспешил к трибуне. Однако бритоголовый уже решительно рассекал воздух, направляясь к своему месту, не обращая внимания на суету, им созданную.
Я поджидала его и совершенно счастливо (нашелся же человек, который думает по-другому!) и самонадеянно (будто его могут интересовать мои мысли) заявила: «Здорово! Я тоже так думаю». – «Да? Так что мы тут делаем, если выход есть?»
Это был Теодор Шанин, блестящий исследователь, социолог и историк, человек редкого мужества и острого чувства справедливости. Возможно, именно эти качества, а еще – воля и целеустремленность определили масштаб и яркую своеобразность его личности.
Тогда, в 1990 году, его раскованность, полное отсутствие «зверской серьезности» и скуки, что было принято в советской научной среде, а главное – способность иначе видеть мир, словно с какой-то другой оптикой, сильно эпатировали научное сообщество.
Шанин явился сюда явно «с другим липом». Для тех, кто не разделял его мыслей, он был сильнейшим раздражителем, человеком вредным, может быть, даже опасным. Для тех же, кому опостылели идеологические рамки и препоны, кто не столь сильно был одурманен совковой «травкой», он был глотком воздуха. Они жадно впитывали его слова. Он сразу оказался плотно окруженным и вовлеченным в разнообразнейшие проекты и сферы деятельности. Оказался долгожданным и востребованным людьми талантливыми, умными, образованными.
А ему только это и было нужно. Почему? Поначалу я искала ответы не там, где лежала разгадка. Шанин сразу же пресек эти попытки.
– Чтобы поступать честно и справедливо, не нужно никаких особых причин. В России началась перестройка, и я решил, что обязан кое-что сделать. Если бы был призыв во Вьетнам в свое время, я пошел бы воевать против Америки. Во времена Испании, будь мне тогда пет 18-20, я пошел бы в интернациональные бригады, а сейчас – я здесь.
Оказывается, все очень просто. Англичане тоже, когда их спрашивают, почему у них такие потрясающие газоны, отвечают: ничего нет проще, надо триста лет подряд их подстригать специальной газонокосилкой…
Когда в 10 – ты в тюрьме, в 17 – ты взрослый
Шанин любит такую шутку: «Мой отец родился в России, мать – в Германии, я – в Польше. И все мы родились в одном и том же городе. Теперь это – столица Литвы».
Понятно. Он родился в Вильно, это был польский город. (С 1920 по 1939 был оккупирован Польшей.) А потом туда ввалились советские войска и в течение года наращивали свою мощь, создавая социалистическую Литву со столицей Вильнюс. За это время отца отправили в лагерь Свердловской области, а мать с детьми, десятилетним мальчиком и четырехлетней девочкой, – в Сибирь. В последнюю минуту девочку пожалели, уж очень она была красивой, сказали: оставьте старикам, потому что она не выдержит, умрет.
Мальчик на всю жизнь запомнил, как она вложила свою ручонку в руку деда, запомнил поворот головы, блеск подпрыгнувшего локона и синюю эмаль глаза. И все.
Больше никогда здесь, на Земле, они не встретятся. Много лет спустя мать с сыном вернутся сюда, чтобы искать свою девочку, но найдут лишь тех, кто видел, как их гнали в последний путь, а вместе с ними в разное время еще 80 тысяч человек. Там они лежат, эти восемьдесят тысяч, вместе с красивой веселой девочкой и ее дедушкой в братской могиле, совсем недалеко от Вильнюса.
– Теперь там высокий лес, – говорит спокойно Теодор, – и камень, а на нем надпись о невинно замученных и погибших восьмидесяти тысячах.
Они с матерью попали в Алтайский край. И началась война. По настоянию англичан СССР признал польское эмигрантское правительство. А польское правительство поставило условие освободить всех польских граждан.
– Нас освободили, мы вышли из спецпоселения, а еще через год встретили отца. Долго искали друг друга. И приняли решение ехать в Самарканд, где было тепло, потому что одежды не было, там и жили. Потом, когда в Вильно мы нашли лишь братскую могилу, а бумаги наши были в порядке, мы отправились в Лодзь, Варшава была полностью разрушена. В Лодзи я и учился, в Лодзи вступил в политическое сионистское движение. Оно организовывало нелегальную эмиграцию в Палестину тех, кто туда стремился.
В 1948году Организация Объединенных Наций приняла решение о создании двух государств на территории Палестины – израильского и арабского. Наша семья в это время жила во Франции, и я едва окончил среднюю школу; мне не было 17лет, но… если в 10лет – ты в тюрьме, в 17 – ты совершенно взрослый. Возраст – вещь относительная.
Я был уверен, что начнется война, и сказал это в своей организации.
А еще он сказал, что будет очень трудно, но каждый, кто может носить винтовку, должен поехать и воевать за Израиль, а остальные должны помогать оружием – его потребуется много. И вопреки мольбам родителей, вопреки возрасту, он пересек нелегально парочку границ, сел на нелегальное судно и нелегально появился в Палестине.
Он прибыл туда за несколько недель до объявления Еврейского государства и ушел в командос добровольцем. Потери командос в то время были очень велики. Ему дважды пришлось лгать, отстаивая свое право воевать, прибавляя себе годы и доказывая, что дома осталась сестра: в командос не брали единственных детей у родителей.
– Не думай, вралем оказался не я один. Когда мы уже были в Тель-Авиве и нас расформировали, наш командир сказал: «Давно хотел спросить, но знал, что вы не ответите. Сейчас можно. Единственные дети у родителей – шаг вперед!». И шагнула половина роты…
Реабилитация инвалидов – здесь нужно мужество, как на войне
Больше года шла война, и он все это время воевал. А потом по законам тогдашнего Израиля получил стипендию за время военных действий и… пошел учиться в Школу социальных работников.
– Захотелось понять, что происходит в этой стране. В программе школы были вещи вполне конкретные – социология арабских нацменьшинств, проблема криминалистики молодежи. Учился быстро и начал работать как социальный работник сначала с криминальной молодежью, потом занимался реабилитацией инвалидов. Я изучал страну с «задней» стороны.
Тогда в Лодзи и во время войны Израиль был мечтой, тем, что мы защищали, то. что хотели создать. Теперь я был поражен. Свою дипломную работу я делал в Иерусалиме в самых бедняцких районах, там было ужасно, но меня задевало, что они даже не знали причину войны, а я считал, что спасаю народ…
И снова это чувство. Не должны сидеть дамочки в кофейнях в мехах (хотя лето) и золоте, если рядом дети умирают от гепатита в грязи и бедности. Он снова взбешен: не за это боролись, не этого хотели! Вступает в молодежную организацию «Молодая гвардия», где снова очень скоро оказывается лидером и… входит в острое противоречие с начальством колледжа. «Социальный работник не может не быть социалистом» – заявляет он с горячностью и уверенностью юности. Дальше – больше: они объединяются с коммунистами. К счастью, у него оказываются с ними сильные расхождения, и его выбрасывают из организации вместе со всей университетской оппозицией. Нет худа без добра. Он серьезно берется за учебу.
– Нов 1956году, во время Суэцкой войны, я вновь нашел себя на фронте, хотя был против войны и говорил, и агитировал, что война несправедлива. К счастью, она длилась всего шесть дней.
А потом он руководит Центром по реабилитации инвалидов и, так как Англия вто время была самой передовой страной в этой области, отправляется туда смотреть, как они это делают, учиться, учить язык. Он работал без отпусков и бюллетеней, ему дали стипендию на девять месяцев. И он отправился в Туманный Альбион.
Тропинка, которая превратилась в магистральный путь
Люди не только не знают, как отзовется их слово, но даже не представляют себе, к чему может привести совершенно конкретная с ясной целью командировка.
– Я отбыл в Англию, это был 1961 год, написал отчет о реабилитации инвалидов, изучил страну; язык, много ездил и очень ее полюбил.
Там я встретил человека из Польши по фамилии Дойчер. Он написал первую умную книгу про Советский Союз – «Сталин» (потом три тома про Троцкого). Необыкновенный ученый, очень крупная фигура в научном мире, а меня поразило то, что его книга не была просто книгой врага СССР или его апологета, она сильно выделялась из всей литературы на эту тему. Мы проговорили целый день. О России. Он буквально «вытряхивал» из меня все, что я знаю, и понятно, почему: он никогда не жил в Советском Союзе. А на прощанье сказал: «Если так случится, что вы когда-нибудь захотите продолжить учебу, сделать докторскую, связанную с темой России, я вас поддержу». Я поблагодарил, думая про себя: вряд ли воспользуюсь его предложением.
Так иной раз начинается магистральная дорога – с маленькой заросшей тропинки или просто с примятой травы. Хотя что-то тогда задевало. Как сильное преувеличение. И очень скоро, неожиданно скоро Шанину предстояло вернуться в Англию, поработав в Израиле всего два года.
Дойчер по заслугам оценил своего собеседника. Острый ум, глубокие и вместе с тем разносторонние знания, мгновенная реакция. Перед ним был яркий, талантливый человек. Да еще к тому же знавший довольно много о России. Как упустить такого? Уже в 1963 году Шанин оказался в Бирмингемском университете (по рекомендации и настоятельной просьбе Дойчера), где начал работу над докторской. А докторская – известно про что.
– Когда меня спросили, над какой темой я хочу работать, я сказал: над темой «Интеллигенция в революции в России», чтобы понять судьбу своей семьи, без этого не понять судьбу этой страны. Мне сказали: тогда ты не будешь объективен, считая объективность лучшей вещью в мире. Я посмеялся и спросил: так что вы хотите, чтобы я занялся корреляцией голубоглазых девушек и числом коров? У них загорелись глаза: десять лет не было работ на тему сельской России!
Так он занялся русским крестьянством, утверждая совершенно серьезно, что его шутки часто имеют свойство обретать реальные очертания. Но о крестьянстве он хорошо помнил рассказы отца, бывшего в студенческие годы (1917) в организации эсеров Петербургского университета. В Иерусалиме, работая и заканчивая университет на вечернем отделении, писал дипломную работу: сравнение китайского и русского крестьянства во времена революций. Какая-то база была, и интерес тоже был. Докторскую он написал[* Неудобный класс. Цикличная мобильность и политическое сознание русского крестьянства. 1910 – 1925 гг».]. Она оказалась капитальным трудом, сразу напечатанным и вошедшим в научный оборот. А Шанин стал одним из основателей крестьяноведения на Западе.
Шло время. Для него оно было наполнено непрестанным трудом и разнообразными открытиями. В Шеффилде он преподавал социологию третьего мира – развивающихся стран (с особенным вниманием, естественно, к крестьянству). В Хайфе – социологию крестьянских обществ, политическую социологию. Но самым большим открытием для него в то время (1960 – 1970) стала социология знания, тогда это была совершенно новая территория в науке, и он ее осваивал, это пограничье между социологией, философией и историей.
– До сих пор считаю это, быть может. самым интересным из того. что я преподавал. Здесь, в московской школе, я преподавал социологию знания тоже.
В Израиль он вернулся, но с каждым годом все более разочаровывался в нем.
– Я пришел к мнению, что оккупация будет продолжаться, что наша борьба против нее не даст результатов и что характер страны изменится в сторону национализма. В Войне за независимость мы боролись за правое дело, мы хотели свободу для себя, но и для арабов тоже. В Манифесте о независимости говорится, что мы обещаем арабским соседям равные права с Израилем, а дали под зад тяжелым ботинком… Сионизм, когда нужно было бороться за свободу, был позитивным явлением, теперь стал ядом. Мои студенты очень просили меня остаться, но я уехал.
Он уехал в Англию, где его знали и сразу предложили членство в колледже св. Антония, в Оксфорде, – большая честь для ученого. Проработав там год, он получил приглашение на профессорскую должность в Манчестерский университет. Там и остался. Почему? Это университет, который не стесняет свободу, справедливо считая, что твое достижение может добавить ему славу.
Шанин проводил исследования в Иране, Мексике, Индии, Танзании, Венгрии, Польше, России. В 60-е занялся работой над книгой «Россия как развивающаяся страна».
Тогда еще здесь происходили дикие веши. Например, указывали, с кем надо и не надо встречаться. На что ему пришлось ответить: «Вы забываетесь. Я не ваш подданный, я подданный Ее Величества королевы Великобритании и сам выбираю себе друзей». Ему отказали в визе…
Одним из первых в 70-е, кого он «выбрал в друзья», был профессор Виктор Петрович Данилов, крупнейший специалист в крестьяноведении. Им двоим было о чем поговорить, было что сказать друг другу. До сих пор они продолжают работать вместе. Капитальные сборники «Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ученые записки» (есть уже 4 тома) выходят под редакцией Т. Шанина и В. Данилова и в значительной степени закрывают «белое пятно» в изучении крестьянства.
Но это еще не все. Шанин по натуре максималист. И если замахивается, то на невозможное.
Известно, что в советское время многие темы были закрыты, в том числе и тема крестьянства. Для научного анализа у ученых не было информации – объемной, систематической и главное – достоверной. Но она совершенно необходима и, как понятно. не только для науки. И он предпринимает беспрецедентный эксперимент. Десять лет работают исследователи, посланные им в села и деревни различных российских областей с магнитофонами и отработанными методиками, они говорят с людьми – проникают в жизнь крестьянского мира. А крестьянский мир – это нечто многомерное, грандиозное. Он соткан из множества разнородных клеточек-элементов, образующих единое пространство, и чтобы отразить этот мир, понадобилось выделить базовые элементы, из которых он состоит, и медленно, шаг за шагом восходить от простого к сложному. А первой простейшей клеточкой был крестьянский двор, семья… Появилась серия книг, таких как «Великий незнакомец», «Голоса русских крестьян», «Неформальная экономика».
Столь пристальное и кропотливое изучение уже дало свои результаты. Вот-вот появится еще одна книга, Шанин назвал ее «Рефлексивное крестьяноведение» (а в более широком смысле – рефлексивная социология).
Верность самому себе
Итак, произошла перестройка, и чиновники, которые не пускали, исчезли навсегда. Он приехал в Россию.
Чертовски завидное качество! «Отодвинуть» все, что было, – размеренное, устоявшееся, привычное, интересное, приятное, важное (и еще тысяча всего) и, словно в омут, – в другую жизнь, какое там – на другую планету! Но для него его поступки, их последовательность связаны друг с другом, потому что он привязан не к обстоятельствам, а к самому себе, и верен не чему-то, что всегда переменчиво, а себе лично. И в этом смысле верность его безгранична. И окружающим спокойно, знаешь, что ждать от него. Всегда одного и того же – невозможного.
– Я приехал сюда, нашел Заславскую. и мы проговорили, что можно сделать для продвижения молодой российской социологии, а за пловом придумали «летние школы». Можно за один раз забрать 25 человек и 6 недель работать, не переставая!
– Отличная идея! А где взять деньги?
– Я собрал 70 тысяч фунтов.
– Как собрал? Ходил, просил?
– Ну да, я же не для себя. Дал Британский совет, Британская академия. Я просил, и давали. В результате получилась довольно приличная сумма. Но все-таки не все, что надо. Сказал Заславской, она очень обрадовалась и сказала, что остальное, примерно тысяч 30, попросит у Сороса. Я спросил, кто такой Сорос; она сказала, что есть такой богатый венгр, который помогает России. Она была членом Исполнительного комитета его фонда. Через неделю все было решено. Сорос дал нам нужные деньги. И мы начали летние школы. Их было три.
Стоит сказать, что это – первое масштабное и на редкость удачное мероприятие Шанина и Заславской. Сейчас многие их ученики – ведущие специалисты в области социологии в России.
А Сорос заинтересовался Шаниным. И не случайно. Он «загонял» в Россию миллионы долларов, а результата не видел, здесь же – результат налицо. Они встретились, понравились друг другу – было в них что-то общее! И на каком-то этапе по просьбе Сороса Шанин присоединился к Исполнительному комитету его фонда.
В Англию, особенно первое время, он буквально срывался, сбегая точно с поля боя. От тупости чиновников самого высокого ранга, от нежелания что-то решать, от глубочайшего невежества, от обшей расхлябанности и расслабленности, что для него совершенно непереносимо. Злясь, нервничая, ругаясь, он бросал: «Надоела хованщина!». И улетал.
Слава Богу, было куда – к семье, к нормальной жизни, к науке. К газонам.
Ясное дело, кто ж это выдержит? Мы, привычные, и то иной раз мысль улететь нет-нет да и заглянет. Но … вот беда, если улетит насовсем! Проходила неделя-другая, и в телефоне снова раздавался его энергичный голос:








