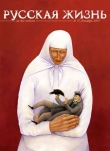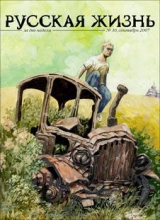
Текст книги "Русская жизнь. Земля (сентябрь 2007)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
В борьбе обретешь ты
Вспоминается некий янки из города Грэнби под Денвером, штат Колорадо. В 2004 году 50-летний Марвин Химейер бронировал свой бульдозер и в течение трех часов разносил горсовет, цементный завод, банк, редакцию местной газеты и дом мэра. Жертв не было за исключением самого Химейера, которого не смогли ни остановить, ни задержать. Он застрелился. Выяснилось, что местные власти легально вытесняли его небольшой бизнес (Марвин занимался установкой глушителей), причем вытесняли как раз в интересах цементного завода. Месть удалась: убытки города и различных предприятий составили несколько миллионов долларов.
Угрожает ли России нечто подобное? У нас борьба с системой покамест сводится к сутяжничеству. Но из искры может возгореться пламя. Рост социальной напряженности не шутка: уже существуют ассоциации обманутых дольщиков, обманутых вкладчиков, обманутых колхозных пайщиков, жертв точечной застройки. А если к ним присоединятся жертвы резервирования? А если перечисленные движения скооперируются?
Ведь, в сущности, у большинства граждан ничего нет кроме дома, плохого или хорошего, бедного или не очень. Это больше, чем гнездо, и острее, чем родовая память; это «последняя рубашка», последняя собственность, пограничная зона между полноценной жизнью и неприкаянным существованием. И когда по убогим грядкам и цветникам проедет сверкающий гербовый джип очередного земельного босса, что останется от страны?
* ВОИНСТВО *
Александр Храмчихин
Status Quo
Два эпизода из повседневной жизни зенитно-ракетных войск
I.
В начале 60-х годов в советской ПВО доминировала концепция использования ядерного оружия против американских стратегических бомбардировщиков. Поскольку янки должны были налетать на нас целыми стаями, предполагалось, что одна зенитная ракета с ядерным зарядом сможет такую стаю завалить. То, что ядерный взрыв произойдет над нашей собственной территорией, очевидно, считалось меньшим злом. Лучше один взрыв в воздухе, чем несколько десятков на земле – если бомбардировщики успеют сбросить груз. После перехода супостата на малые высоты и разомкнутые боевые строи концепция умерла, но это случилось примерно десятью годами позже.
N– ский зенитно-ракетный полк, вооруженный зенитно-ракетной системой (ЗРС) С-75, прикрывал один из важных объектов в глубине территории России (тогда -РСФСР). В рамках вышеописанной концепции кроме обычных боевых частей (БЧ) для зенитных ракет (ЗУР) в полку были спецбоеприпасы, то есть ядерные БЧ. Разумеется, в мирное время они на ракеты не устанавливались, а размещались на отдельном складе. Склад этот находился на насыпном острове посреди непроходимого болота и был окружен несколькими рядами колючей проволоки под током высокого напряжения, а также минными полями. К острову со складом вела насыпная же дорога, вдоль которой с обеих сторон были расставлены доты с крупнокалиберными пулеметами. В них дежурили бойцы третьего года службы, отличники боевой и политической подготовки.
В то время в стране еще наличествовал избыток призывного контингента, и в элитные части, к которым относились зенитно-ракетные войска, отбирали лучших. К третьему году службы – на два года тогда еще не перешли – они становились настоящими профессионалами с высокой психологической устойчивостью. Поэтому командир зенитно-ракетного полка мог не волноваться за дорогу к спецскладу.
Но однажды в полк пришла беда. Случился окружной слет отличников подготовки третьего года службы. Одновременно произошел выезд полка на полигон с боевыми стрельбами. Из-за совпадения этих событий в месте постоянной дислокации полка не осталось бойцов не только третьего, но и второго года службы – одни первогодки. Они тогда не были, как сейчас, истерзаны дедовщиной, но по уровню боевой подготовки и психологической устойчивости им было очень далеко до старших товарищей. Тем не менее сажать в доты на дороге к спецскладу кого-то было надо.
Поскольку о слете и учениях командование полка знало заранее, инструктаж будущих защитников склада начался заблаговременно. Несчастным детям с утра до вечера на протяжении двух недель объясняли, какая ответственность на них ложится. Наконец страшный день настал, первогодки-отличники заняли места в дотах. И едва на полк опустились вечерние сумерки, из одного дота раздалась длинная пулеметная очередь. Командование похолодело.
Комендантский взвод ринулся к месту происшествия. Занимавший дот боец трясущимися губами сказал командиру взвода, что вон там, в болоте, что-то шевелится.
Взвод полез в болото. Минут через двадцать командир взвода начал подозревать, что ничего тут не шевелилось. И едва его подозрение переросло в уверенность, раздалась очередь из другого дота.
Всю ночь комендантский взвод носился от одного дота к другому. Из каждого стреляли хотя бы раз, из большинства – дважды, из одного – трижды. Разумеется, ни в эту ночь, ни в последующие (как и в предыдущие) никто на спецбоеприпасы не покушался. Просто инструктаж оказался слишком эффективным.
В этой истории есть удивительный момент – тот, что комендантский взвод не потерял ни единого человека. Никто не утонул ночью в болоте и не нарвался на очередь заинструктированного до слез отличника-первогодка.
II.
Минуло четверть века. Над страной вовсю завыл ветер обновления. В Москве готовилось Очередное Судьбоносное Партийное Мероприятие с обязательной бесконечной речью Михал Сергеича. Между тем армия в целом и ПВО в особенности мучились тяжелой рустофобией (рустоманией?). Немецкий сопляк на «сессне» снес столько начальственных голов, что уцелевших бросало в дрожь при одном воспоминании.
Зенитно– ракетные войска к тому времени существенно обновились. На вооружение активно поступала ЗРС С-300, многократно превосходившая предшественниц по боевой эффективности. «Трехсотый» полк включал в себя командный пункт (КП) и до 6 зенитно-ракетных дивизионов, которые должны были располагаться в 15-25 км от КП (и друг от друга, естественно). На КП находился контейнер Ф-9 (в просторечии «девятка»), распределяющий цели между дивизионами и контролирующий весь процесс боевой работы, а также радиолокатор, обеспечивающий обнаружение целей на высотах более 1 км. Каждый дивизион включал свой КП, 12 пусковых установок (по 4 ЗУ-на каждой) и 2 локатора – низковысотный обнаружитель (НВО) для целей на высотах менее 1 км и радиолокатор подсвета и наведения, обеспечивавший наведение ракет на цели. Не забудем о полковом военном городке, где располагались штаб, вспомогательные подразделения и жили офицеры с семьями. Он находился рядом с КП полка, чтобы командир полка через пять минут после объявления тревоги мог занять место в «девятке».
Хотя СССР тратил на оборону гигантские деньги, их все-таки было не бесконечно много. Поэтому многие полки вместо 6 включали по 3-4 дивизиона. Это относилось и к Московскому округу ПВО, где нехватка дивизионов компенсировалась большим количеством окружавших столицу полков.
M– ский зенитно-ракетный полк, хоть и стоял на стратегически важном северо-западном направлении, имел всего два дивизиона. Причем конфигурация их относительно КП была весьма своеобразной. Первый дислоцировался менее чем в 5 км от КП и городка, поэтому здесь начальство присутствовало постоянно и личный состав жил по уставу. По контрасту, 2-й дивизион находился в 40 км от КП. Причем в 40 км по карте, а по дороге выходили все 120 км; надо было суметь так расположить полк в Подмосковье, но для наших людей, как известно, нет ничего невозможного. Начальства здесь, соответственно, не было никогда, второй дивизион считался полковым раем, подразделением победившего пофигизма. Это состояние души там распространялось на всех от комдива до последнего духа.
Тем не менее беда случилась в первом дивизионе.
В конце 80-х (в отличие от начала 60-х) переизбытка призывников в стране уже не было, и в армию мели всех подряд. Но это еще не самое страшное. Самым страшным был состав этого самого контингента. Славяне, прибалты и представители «интегрированных» национальностей РСФСР (татары, башкиры, чуваши, буряты и т. д.) давно ценились на вес золота. Однако не только в стройбате и пехоте, но уже и в ПВО больше половины призывников представляли республики Средней Азии. Причем ситуация ухудшалась на глазах, от призыва к призыву, то есть каждые полгода.
И вот в 1-м дивизионе M-ского полка Московского округа ПВО молодой солдат среднеазиатской национальности заглянул в кабину оператора НВО. Оператора в кабине не было, но было много интересных кнопочек, тумблерочков и огоньков. Солдатик попался любознательный. Он перевел ближайший к нему тумблер из положения «вкл.» в положение «выкл.». По стечению обстоятельств это был тумблер энергопитания, включенный всегда, кроме периода регламентных работ. Конструкторы не додумались поставить на тумблер защиту от дурака в виде планочки на шурупчиках.
Огоньки в кабине погасли. Потрясенный солдатик испарился.
Так бы и остался этот смешной случай внутренним делом 1-го дивизиона, если бы не произошел в день накануне Судьбоносного Партийного Мероприятия. Через пару часов после описанного случая на КП и в дивизионах завыли сирены боевой тревоги.
Личный состав к сиренам привык: иногда их использовали даже в качестве будильника. Но тут они выли долго и серьезно. На многочисленных УАЗах из городка на КП прибыло начальство. И сообщило, что тревога самая что ни на есть боевая. Ибо над побережьем Прибалтики наблюдатели видели два легких спортивных самолета с бразильскими (!) опознавательными знаками. Предполагается, что они хотят сесть в центре Москвы и тем самым сорвать Судьбоносное Мероприятие.
В аппаратный контейнер Ф-9 (тесный железный ящик, забитый аппаратурой) кроме боевого расчета из 6 человек влезли еще человек 20 (в званиях от рядового до полковника) – все «гости» из городка и большая часть личного состава самого КП. Поскольку «трехсотка» – система сильно автоматизированная, этим людям во время боя делать было нечего. Девать их тоже было некуда, поэтому они исполняли роль болельщиков. Притом, что сидячих мест было всего 6, для расчета. «Девятка» стала напоминать вагон метро в час пик.
Командир по радиосвязи поставил дивизионам задачу на обнаружение нарушителей воздушного пространства, а при получении соответствующего приказа – на их уничтожение.
– Первый задачу понял, выполняю, – сказало устройство громкоговорящей связи безупречно уставным голосом комдива-1.
– Втарой задачу поэл… – сказало то же устройство лениво-приблатненным голосом комдива-2.
– Задачу понял, ВЫПОЛНЯЮ! – Комполка попытался напомнить комдиву-2 уставную форму ответа.
Болельщики напряглись. Было интересно, ответит ли комдив-2 по уставу или, памятуя о 40 км по карте и 120 км по дороге, пошлет начальника по известному адресу. В душе комдив-2 явно склонялся ко второму варианту. Но выбрал третий: просто промолчал. Комполка громко скрипнул зубами.
После этого дивизионы доложили о готовности техники. Тут-то и выяснилось, насколько плохо обстоит дело. В 1-м дивизионе из 48 ЗУ– в боеготовности пребывали 40, но не работал НВО. Все в нем было исправно, только он не работал. Во втором к бою были готовы всего 20 ЗУР, зато исправны оба локатора. Совершенно очевидно, что легкие спортивные самолеты – цели низколетящие. Летят они, как правило, ниже 100 м. Таким образом, судьба полка – точнее, его начальства – полностью зависела теперь от НВО пофигистского 2-го дивизиона. Судьбу соседа справа (то есть того полка, над которым пролетел Руст), помнили все. Сейчас враги должны были пролететь как раз над M-ским полком. И ситуация представлялась чрезвычайно серьезной, поскольку вскоре по всему Северо-Западу Европейской части СССР прошла команда «Ковер» для малой и сельскохозяйственной авиации. Это означало посадку на ближайший аэродром в течение 15 минут; не выполнивший команду самолет автоматически считался вражеским. В небе остались только магистральные авиалайнеры, идущие на высоте 10-12 км, и дежурные пары и звенья истребителей с многочисленных аэродромов МВО, ЛВО, БВО и ПрибВО, поднятые в воздух с целью поиска бразильских стервятников.
Пару истребителей и обнаружил 1-й дивизион. И доложил на КП, что видит две низколетящие цели, по параметрам похожие на истребители и опознанные как свои.
– Естественно, свои, – сказал комполка. – Это МиГи-29 с Кубинки. А как вы их обнаружили?
– По данным НВО.
– Так он же у вас не работал!
– Он был выключен, – после короткой паузы сказал комдив-1.
Лучшие умы (без иронии, там были очень хорошие умы) 1-го дивизиона два часа бились над тайной мертвого, хоть и явно исправного НВО. Пока один из солдат не решил пойти ab ovo и проверить, подключен ли локатор к питанию. Взглянул на роковой тумблер, увидел, что подумал правильно, перевел его в положение «вкл.». И замигала кабина лампочками, и закрутился на мачте локатор со скоростью 20 об/мин. Причина выключения (вышеописанное любопытство среднеазиатского бойца), естественно, была никому не ведома, она выяснилась позже в ходе жестокого следствия.
Услышав слова «Он был выключен», комполка негромко застонал, но промолчал. Несмотря ни на что, ему стало спокойнее.
С момента объявления тревоги минуло более пяти часов. За это время даже легкие спортивные самолеты, летающие со скоростью около 300 км/ч, от балтийского побережья успели бы добраться не то что до Москвы, но даже и до Владимира. Болельщики, ноги которых очень сильно ныли, пытались прислониться к аппаратуре, но ее на всех не хватало, к тому же можно было случайно задеть еще какой-нибудь тумблер. В это время непосредственно на КП перестал работать РЛО. Страшно закричал комполка, и почти все болельщики вылетели в узенькую дверку «девятки», продемонстрировав сноровку, характерную разве что для подводников.
Идеология «трехсотки», заложенная в нее конструкторами, состояла в том, что аппаратура ЗРС должна быть запитана энергией, но не работать. В случае вражеского налета система получает предупреждение о нем от внешних источников, быстренько включается, отрабатывает по целям и снова выключается. На длительную непрерывную работу ЗРС не рассчитана. РЛО M-ского полка не сломался. Он просто выключился, напомнив людям, что так долго работать без отдыха не нанимался. И был глубоко прав.
На ночь начальство в городок не поехало, осталось на КП. Чтобы скрасить бессмысленность происходящего, до полуночи было организовано учение по борьбе с диверсантами (термин «международные террористы» в обиход еще не вошел).
На утреннем построении комполка сообщил обалдевшему от вчерашнего личному составу, что о судьбе бразильских самолетов точной информации пока нет, ее доведут позже. И еще, сказал он, раньше мы думали, что наши главные цели – это десять тысяч боевых самолетов стран НАТО. А вот теперь оказывается, что главная угроза – легкие спортивные самолеты. Их на Западе больше сотни тысяч. И каждый в принципе способен нести ядерную бомбу.
Если читатель решит, что командир M-ского зенитно-ракетного полка был кретин, самодур и сволочь, это глубокое заблуждение. Совершенно нормальный, адекватный мужик. Просто се ля ви. You're in the Army now.
* МЕЩАНСТВО *
Павел Пряников
Своя обедня
Выжить можно, только надежно отгородившись от внешнего мира
Реформатор Метелкин
За оборону Белого дома в августе 1991 года Александр Метелкин получил в подарок участок земли в деревне Бутьково. Больше ему ничего от цивилизации не нужно. Теперь он моделирует бытие по собственному вкусу.
«Вон в том лесу у нас и будет экопоселение. Собственно говоря, оно уже есть, только юридически пока не оформлено». Метелкин показывает рукой вдаль. Сам он, впрочем, пока проживает на том, подаренном ему государством участке. За 15 лет отстроил на нем небольшой домик, какие-то хозблоки. Лет пять назад к исходным 15 соткам прирезал еще с полгектара. Высадил 150 деревьев: сосен, орешников, берез и дубов.
Но все это лишь приложение к основной деятельности опытника. Главные события разворачиваются в его доме. Там штаб экопоселения. Александр от зари до зари сидит над кипой бумаг, ведет переписку с десятком инстанций, наносит на масштабные карты геодезические символы, принимает посетителей и переговаривается с ЮНЕСКО.
Попивая чай с калиной, Метелкин рассказывает о событиях 20-летней давности, которые привели его к бегству из города. «Я работал в Морозовской детской больнице. И там увидел закрытую статистику: в конце восьмидесятых больше тридцати процентов младенцев рождались с железодефицитной анемией, у каждого пятого наблюдались старческие заболевания почек или печени. Тогда-то я и понял, что городская цивилизация обречена, конец ее не за горами». Метелкин принял решение строить новый мир, своего рода резервацию, в которой люди могли бы спастись.
Рядом с деревней Бутьково он обнаружил заброшенное поселение Храброво. К 2002 году там не осталось ни одного местного жителя, десятки изб стояли пустыми. В Храброво Метелкин и принялся организовывать экопоселение.
В российском законодательстве, на счастье, оказалась лазейка– упоминание о некой «особо охраняемой природной территории» (ООПТ). Четкого правового определения ООПТ в федеральных законах нет до сих пор. Но, по сути, такие территории приравниваются к заповедникам. Отличие состоит в том, что в ООПТ законом охраняется буквально все: не только растения или животные, но сложившийся там мир в целом. То есть людей, там проживающих, выселить нельзя, и материальную цивилизацию, ими построенную, нельзя разрушать.
Метелкин не очень охотно называет фамилии чиновников, оказавших ему содействие, но Храброво признали ООПТ и выделили деньги на оформление необходимой документации из областного бюджета. Помогали Метелкину и международные организации. «Да, они мне выделяли гранты. Кроме того, нашу идею всецело поддерживают ЮНЕСКО и ряд чиновников ООН».
В Храброво 500 гектаров земли; через год их обитатели официально отгородятся от внешнего мира. 300 гектаров так и останутся под лесом, а на 200, ныне заросших бурьяном и мелколесьем, развернется биорезерв – питомник растений, занесенных в Красную книгу. «Это одно из условий ООПТ: сохранять и восстанавливать биогеоценоз», – подчеркивает Александр.
В экопоселении будет не больше 15 семей (около 100 человек). Метелкин рассчитал, что именно такая плотность позволит и прокормить поселенцев, и не нарушить окружающую среду. Сейчас в Храброво живут две семьи, которые надежно защищены от большого мира лесом и бездорожьем: добраться туда можно или на лошади, или пешком (километров 7-8). Правда, некоторые поддерживают контакты с миром виртуальным. Глава одного из семейств, сидя в избе, занимается программированием по заказам из Москвы. Нет ли тут парадокса: экопоселенец получает из города деньги и способствует общей урбанизации? «В идеале надо заниматься только землей, но и от городских благ, если они не противоречат нашим ценностям, отказываться не стоит, – поясняет Метелкин. – Вот на речке Смедове я хочу поставить мини-гидроэлектростанцию. А мне говорят, что в России по закону ею может владеть только РАО „ЕЭС“. Ну и ладно, будут у нас солнечные батареи». Александр полагает, что надо пользоваться возможностями окружающего мира, пока тот не успел погибнуть.
«В моей деревне из ста сорока дворов жилых осталось двенадцать, причем мужчин нет, одни старухи. В Сосновке, здешнем лесничестве, из местных работает только лесник, в помощники он вынужден был набирать таджиков и узбеков. И вообще лесничество это, как мне сказали, скоро закроют: не от кого стало лес охранять». Свободные ниши в окружающих деревнях сейчас занимают выходцы из Средней Азии. Когда едешь по Озернинскому району, то тут, то там встречаешь узбеков, пасущих овец, или таджиков, гоняющих коров. Они, по мнению Метелкина, опасности не представляют. «Их город не успел испортить. Поживут тут немного и, возможно, людьми станут. Да и вообще они какие-то прозрачные, словно эльфы: непонятно, где живут, чем кормятся, как размножаются».
Мне все время казалось, что Александр что-то не договаривает, и уже перед самым расставанием он словно угадал мои мысли. «Вы знаете, ведь одним протестом против города не проживешь. Нужна собственная этическая программа». Экопоселенец долго размышлял, что должно быть первично в его жизнестроительном проекте: бытие или сознание. «Все же бытие. Можно сочинить прекрасную идею, но где ее реализовывать?» – философствует Метелкин. В России уже действуют около сотни экопоселений, и ни одно из них нельзя назвать успешным, внешний мир не дает им покоя.
Например, в калужском «Ковчеге» никак не могут решить проблему взаимоотношений с местными крестьянами. В результате там регулярно случаются поджоги домов, драки и т. п. В «Ковчеге» даже придумали новый антипожарный строительный материал – блоки из глины с соломой. Но и глиняный дом руководителя экопоселения «Ковчег» Федора Голутвина все равно недавно сгорел.
«А вот если бы „Ковчег“ стал особо охраняемой природной территорией, мог бы официально отгородиться от соседей, хоть трехметровым забором. В случае проникновения аборигенов поселенцы имели бы полное право вызвать на подмогу ОМОН, – говорит Метелкин. – Если все сложится с ООПТ, как я и мои единомышленники из ЮНЕСКО задумали, эту практику можно будет распространить на все наши поселения».
Метелкин консультирует десятки отечественных экопоселений. Но только одно из них может служить ему примером и источником вдохновения– частный заповедник (единственный в России, кстати) Сергея Смиренского в Амурской области, раскинувшийся на 5000 гектаров. Он тоже был создан под эгидой ЮНЕСКО, на деньги американских и японских неправительственных фондов, и теперь туда приезжают ученые со всего мира смотреть на гнездовья журавлей. «За такими частными этнографическими территориями – будущее», – утверждает Александр.
И лишь после того, как будет обеспечена полнейшая автономия, установлена абсолютная независимость от местных жителей и от государства, следует вплотную приступить к перестройке сознания. А оно, сознание, может обретать совершенно невероятные свойства. «В экопоселении „Мыски“ в Алтайском крае люди научились держать прямую связь с Логосом. Там уже фактически коммунизм, бесклассовое и безденежное общество. Ну, контакты с Логосом – это факт ненаучный, а вот того, что люди могут годами питаться только водой, воздухом и солнцем, никакая наука не оспорит!» – ликует Метелкин. Спастись от грядущего апокалипсиса сумеют только такие сверхчеловеки. «На всю Россию их наберется максимум миллион-полтора.»
Но и бесклассовое общество, одной ногой стоящее в коммунизме, подчас озабочено сугубо земными проблемами. Метелкин на базе своего ООПТ создает некоммерческое партнерство. Предельно четко, как в бизнес-плане корпорации, прописана в уставе партнерства экономика поселений. В ООПТ завозятся растения, животные и насекомые, занесенные в Красную книгу, – примерно 300 видов и пород. Они начинают интенсивно размножаться, и это потомство продается в ботанические сады и зоопарки мира. Кроме того, в экопоселении организуется научная станция, будут проводиться экскурсии для иностранных экологических туристов. Инвестировать деньги в такие поселения наверняка захотят различные международные организации. Россия (а также Альпы, настаивает Метелкин) вообще будет тем местом на Земле, где может сохраниться человеческая цивилизация. Она, Россия, уже начала очищаться от всего инородного, противного Природе и Логосу. «Думаете, пьянка эта в стране происходит просто так? Нет, это Природа занимается саморегуляцией. И СПИД в Африке, и электромагнитные излучения, и демографическая катастрофа в „белом“ мире – все неспроста».
Несмотря на свои ожидания скорого краха сначала городской, а потом и всей человеческой цивилизации, Александр Метелкин полон радужных эмоций. «Только на земле ко мне вернулось здоровье. Я счастлив, что занимаюсь свободным трудом, ничего не должен государству и могу себе позволить ничего от него не требовать. Местная земля наконец-то стала родить после пятнадцатилетнего запустения (вот, копните тут, посмотрите, сколько дождевых червей и жужелиц). О чем еще можно мечтать?!»
Возвращаясь в Москву, мы решили сократить маршрут и проехать по проселочной дороге через заросшее бурьяном поле. Из-за отары овец, перегородившей нам путь, выскочил таджик в футболке с надписью Manowar и, участливо заглядывая нам в глаза, сформулировал, может быть, сам того не желая, всю суть русской жизни на современном этапе: «Ни впереда, ни вбока меня дорога нет. Только назада».