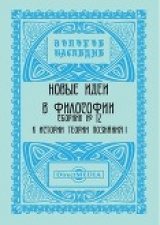
Текст книги "Сборник № 12. К истории теории познания I"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
§ 12
Вернемся назад к чистому мышлению. – Последнее усмотрело, что знание может быть только схемой божественной жизни. В этом мышлении я обладаю знанием не непосредственно, но лишь в схеме; еще менее непосредственно обладаю я божественной жизнью, но имею ее лишь в схеме схемы, во вдвойне умерщвленном понятии. Я должен отдать себе отчет (besinnen), – а такая способность непосредственно отдавать себе отчет должна, на ниже указываемом основании, заключаться в общей способности, – я должен отдать себе отчет в том, что Я усматриваю только что сказанное, что поэтому я могу это усматривать, что, так как, согласно установленному сейчас взгляду, знание есть обнаружение Бога (Ausdruck Gottes), также и сама эта способность есть его обнаружение, что способность существует налицо для того, чтобы осуществляться, что я поэтому, в силу моего бытия от Бога, должен усмотреть это. Только путем отдачи себе такого отчета прихожу я к взгляду, что я безусловно должен; но я должен придти к этому взгляду; поэтому, как это и следовало показать, абсолютная способность отдавать себе такой отчет необходимо должна заключаться во всеобщей способности, опять-таки в силу моего бытия от Бога. Вся эта описанная теперь сфера открывается поэтому как долженствование узрения (Ersehen): что Я, узренный уже в сфере созерцания принцип, что Я должен. В ней Я, делаемое чрез простую отдачу себе отчета непосредственно видимым как принцип, есть принцип схемы, как это сказывается в установленном выше взгляде о знании, в его единстве и о божественной жизни, как носитель этого знания, во взгляде, к которому, отдавши себе в нем непосредственно отчет, я в состоянии прибавить: я мыслю это, я порождаю этот взгляд. Это знание с помощью принципа, видимого непосредственно как принцип, зовется, как сказано, чистым мышлением, в отличие от знания с помощью непосредственно невидимого принципа, т. е. созерцания.
Итак, чистое мышление и созерцание не совпадают, – до того не совпадают, что последнее отменяется первым вплоть до своего принципа и уничтожается. Связь их, однако, устанавливается тем, что последнее обусловливает фактическую возможность первого; а также тем, что проявившееся в созерцании Я остается в своей простой схеме (ибо в своей действительности оно уничтожается вместе с влечением) также и в чистом мышлении, отдавая себе в этом отчет.
§ 13
В этом описанном мышлении я мыслю только знание, как могущее быть схемой божественной жизни, и так как возможность эта есть устремленное к бытию обнаружение Бога, как долженствующее быть ею; однако, никоим образом я не есмь эта схема. К тому, чтобы быть ею действительно, не может принудить меня никакая сила; также как прежде никакая сила не могла меня принудить осуществить даже только созерцание истинного чувственного мира или возвыситься до чистого мышления и тем самым до действительного, но пустого усмотрения абсолютно-формального долженствования. Это – в моей власти; а так как все фактические условия уже выполнены, то это непосредственно в моей власти.
Если теперь, отвергнув с одной стороны ничтожное созерцание, с другой – пустое умопостижение (Intelligieren), я, с абсолютной свободой и в полной независимости от них, буду осуществлять свою способность, – что возникнет тогда? Схема, т. е. знание, известное уже мне через умопостижение, как схема Бога, которое, однако, в ныне совершившемся знании является мне непосредственно как то, что Я безусловно должен. Знание, содержание которого не проистекает ни из чувственного мира, ибо мир этот уничтожен, ни из рассмотрения простой формы знания, ибо я отверг также и ее; но которое существует налицо так, как оно есть, просто чрез самого себя, так же, как и божественная жизнь, которой оно есть схема, существует так, как она есть, просто чрез самое себя.
Теперь я знаю, что я должен. Но к действительному знанию, благодаря его формальной сущности, примешивается его схематический характер; так что, хотя я сейчас и знаю о схеме Бога, я все же не есмь еще непосредственно эта схема, но лишь схема схемы. Постулированное бытие все еще не совершено.
Я должен быть? Кто это Я? Очевидно, существующее данное в созерцании Я, индивид. Этот последний должен быть.
Что означает его бытие? Как принцип в чувственном мире он дан. Слепое влечение, правда, уничтожено, и вместо него возвышается ярко усмотренное долженствование. Но сила, приводившая сначала в движение влечение, остается, дабы теперь долженствование приводило ее в движение, становясь ее высшим определяющим принципом. Посредством этой силы должен я поэтому изображать в сфере этой силы, в чувственном мире, делая созерцаемым в ней то, что я, как мою истинную сущность, созерцаю в сверхчувственном мире.
Сила дана, как нечто бесконечное; поэтому, то, что в едином мире мысли безусловно едино, то, что я должен, – становится в мире созерцания для моей силы бесконечной задачей, над разрешением которой я должен вечно трудиться во все времена.
Эта бесконечность, которая в сущности есть неопределенность, может иметь место только в созерцании, но ни в коем случае не в моем истинном простом бытии, которое, будучи схемой Бога, столь же просто и столь же неизменно, как и он сам. Как, в пределах все же длящейся и абсолютным долженствованием, как направленным на меня, индивида, явно освященной бесконечности, может быть порождена эта простота?
Если бы в течение времени в каждый вновь наступающий момент Я должно было в особом акте определять себя понятием того, что оно должно, то тогда, конечно, оно было бы в своем первоначальном единстве неопределенно и было бы только определяемо всегда в бесконечном времени. Но такой определяющий акт мог бы сделаться во времени возможным лишь в противоположность некоему сопротивлению. Но это сопротивляющееся и актом определения принуждаемое начало не могло бы быть ничем иным, как чувственным влечением; поэтому необходимость такого долженствующего продолжаться во времени самоопределения была бы достоверным свидетельством того, что влечение не окончательно еще умерщвлено, как мы это, однако, предположили при подъеме к жизни в Боге.
Через действительное и совершенное умерщвление влечения уничтожается сама эта бесконечная определяемость и принимается в единое абсолютное определение. Это определение есть абсолютно простая воля, возводящая столь же простое долженствование в побудительный принцип силы. Предоставьте силе этой протекать до бесконечности, как ей надлежит, изменение касается лишь ее произведений, но никоим образом не ее самой, она – проста, и направление ее едино, и единым разом завершено оно.
Итак, воля есть та именно точка, в которой умопостижение и созерцание или реальность тесно проникают друг друга. Она – реальный принцип, ибо она абсолютна, и неудержимо определяет она силу, сама себя, однако, держит и носит; она – умопостигающий принцип, она прозревает себя, и она созерцает долженствование. У ней способность исчерпана сполна, и схема божественной жизни возведена в ней в действительность.
Бесконечное действие самой силы существует не ради себя самого, не как цель; но оно существует лишь для того, чтобы свидетельствовать в созерцании бытие воли.
§14
Так наукословие, содержание которого сводится к умопостижению осуществления измеренной нами выше абсолютной способности, заканчивается познанием себя самого, как простой схемы, но и как необходимого и незаменимого средства, переходя в теорию мудрости, т. е. в совет, по усвоении достигнутого в нем познания, чрез которое единственно только и возможна себе самой ясная и без смятения и колебания на себе самой покоящаяся воля, – отдаться снова действительной жизни; не – познанной в ее ничтожности – жизни слепого и неразумного влечения, но долженствующей стать в нас зримой божественной жизни.
Фр. Шеллинг.
Иммануил Кант 5555
Первоначально появилось как некролог в газете «Frankische Staats– und Gelehrten-Zeitung», март 1804 г., № 49, 50. Перепечатано в 6 томе первой серии полн. собр. соч., стр. 1 – 10.
[Закрыть]
Хотя Кант и умер в глубокой старости, он не пережил себя. Только некоторых из своих ожесточеннейших противников пережил он физически, но всех их зато он пережил духовно, и пламя идущих далее него лишь помогло отделить чистое золото его философии от примесей времени и явить его во всем его чистом блеске. Общественное влияние всякого великого писателя зависит отчасти от отношения противоположности, отчасти от отношения соответствия его с эпохой, в которой он живет. Первое отношение, обыкновенно первоначальное, превращается затем, однако, раньше или позже в другое. По естественному закону всякая крайность требует себе противодействия, и поэтому на духовно и нравственно расщепленную и утерявшую всякое единство эпоху воздействие столь прекрасного и мощного духа не могло повлиять иначе, как возвышающе. После периода эклектического и развязного философствования, когда обыденный человеческий рассудок принимался за обсуждение также и умозрительных проблем, кое-как сохранившихся в памяти путем традиции, – внутреннее единство, строгая цельность как бы из одного куска изваянного труда, взошедшего к источникам всякого познания, должны были, даже независимо от его содержания, только одной его формой и общим его методом внушать серьезное отношение к делу и глубокое уважение. В особенности молодое поколение должно было чувствовать неотразимую притягательную силу Кантова труда и как счастливой находке радоваться формам, благодаря которым оно получило возможность обсуждать с легкостью не только предметы науки, но и жизни; и притом с не меньшей, а даже с большей основательностью, чем прежде. Посреди ожесточенной борьбы само время привело, между тем, к моменту, когда Кант оказался в совершенной гармонии со своей эпохой, явившись для Германии наивысшим провозвестником и пророком своего духа. Отнюдь не неверно будет сказать, что только благодаря великому событию французской революции он приобрел то всеобщее широкое влияние, которое его философия сама по себе никогда бы ему не доставила. Не случайно, думали иные из пламенных его последователей, встретились вместе оба эти, в их глазах равно важные, переворота. Восхищенные открывшимся перед ними зрелищем, они усматривали в этой встрече волю судьбы, не понимая, что причиной обоих этих великих событий был один и тот же давно уже зревший дух, который, соответственно различному характеру народов и обстоятельств, проявился там в реальной, здесь в идеальной революции. Подобно тому, как, благодаря Кантовой философии, в Германии быстрее, чем где-либо, образовалось определенное суждение относительно революции, точно так же и обратно: пережитое потрясение всех до сего момента прочно признанных основ придало всеобщее значение убеждению в вечных, неизменных, себе довлеющих началах права и общественного порядка, сделавши изучение Кантовой философии, которой, по-видимому, предстояло сказать последнее и решающее слово в этом вопросе, потребностью даже практиков и политиков. – Краткость ее нравственных формул, сделавшая возможной более определенную оценку моральных фактов; ригоризм нравственных и правовых основоположений, ею защищавшихся, а также возведение их в сферу, независимую от всякого опыта, долженствующего будто бы проверять их, – все это обрело в великом зрелище той эпохи свое подтверждение, свою параллель и богатейший материал применения. Если с отливом революции, по-видимому, наступил также и отлив для Кантовой системы, то причину этого знаток будет искать не столько в прекращении случайной поддержки интереса к последней со стороны первой, сколько в реальном внутреннем соответствии и равенстве обеих, ибо обеим им в равной мере общ чисто отрицательный характер и неудовлетворяющее разрешение противоборства между абстракцией и действительностью, противоборства, непреодолимого для последней в умозрении, для первой – на практике.
Если оценивать общественное влияние какойнибудь философии по ее влиянию на другие доктрины, то не только в нравственных или политических науках, но косвенно или непосредственно также и в большинстве других Кант положил основание совершенно новому способу рассмотрения. Подобно своему соотечественнику Копернику, переложившему движение из центра в периферию, он первый в корне обратил представление, согласно которому субъект бездействует, спокойно воспринимая, предмет же исполнен активности: обращение, передавшееся во все ветви знания как бы путем электрического воздействия.
Задачей нашей не может быть здесь подробная оценка научных заслуг Канта: интереснее для нашей цели отпечаток его личности, оставленный им, на его трудах. Уже часто делалось замечание, что в душе его не идея целого его философии предшествовала частям, но части предшествовали целому, и что целое поэтому возникло скорее атомистически, нежели органически. Обязанный своей профессорской должностью читать умозрительную философию, он многие годы провел в простой критике, предметом которой была господствовавшая тогда вольфо-баумгартенская философия, не удовлетворявшая Канта, которому бесконечная честность и искренность духа по отношению к себе самому мешала, не в пример прочим, примириться с догматизмом этой теории. Впрочем, по-видимому, уже в 1770– 80 годах перед Кантом вполне ясно вырисовывались основные идеи его Критики, потому что их можно уже найти в вышедшей в это время книге Гиппеля «Жизнеописания в восходящей линии»: даже популярным образом представлены они уже там в диалоге, в котором «Декан философского факультета» есть не что иное как научный и даже личный портрет Канта.
Если спросить себя, чем столь превосходит Кант большинство своих противников, среди них новейшего и не менее ожесточенного – Якоби, то причину этого всякий более или менее чуткий человек увидит в упомянутой выше философской искренности, которую он сам с такой готовностью предполагал у большинства философов, восхваляя ее как первую добродетель их; а также в ясной твердости его духа, презиравшего всякие темные закоулки мысли, всякое пустое разглагольствование и пускание пыли в глаза. Уже из хода развития его трудов видно, как искренне и непреднамеренно приходил он к своим выводам; из иных выражений его даже можно было бы заключить, что он – почти что против воли и лишь исключительно из соображений приносимой им миру пользы – занимался теми отвлеченными исследованиями, которые составляют предмет его критики. Для него самого критика, по-видимому, была скорее процессом освобождения от философии и представлялась ему лишь необходимым переходом от «тернистого пути умозрения» к плодородным полям опыта, по которым, как он достаточно ясно давал понять, более счастливые потомки могли бы затем бродить, пользуясь его трудами. Дух его вообще не был, как его обычно представляют, тяжелого, глубокомысленного характера (в своей «Антропологии» он сам высмеивает это слово (Tiefsinnig), обозначающее, по его мнению, лишь меланхолическое), но отличался легкостью и ясностью. Тенденция к французскому изяществу и салонному остроумию этой нации сказывается у него уже в его самых ранних произведениях, например, в «Размышлениях о чувстве прекрасного и возвышенного». Отсюда его любовь к оживленному обществу, к просветленной радостями духа застольной беседе, от которой он ни при каких обстоятельствах не отказывался; отсюда же его неистощимый запас шуток, полных юмора, и остроумных анекдотов, часть которых, наряду с иными менеe значительными выражениями, сохранена в его «Антропологии».
Будучи, таким образом, в известном смысле философом против воли (philosophe malgré lui), Кант, рассматриваемый обыкновенно только как философ, не мог быть понят в своей истинной гениальности. Но, несомненно, только мыслитель, отличающийся такими духовными особенностями, и мог одержать решительную победу над привыкшим к долгому господству догматизмом, только он мог прояснить философский горизонт, который тот заволакивал. Старый Парменид, с его описанной Платоном ясностью духа, и диалектик Зенон признали бы в нем родственного им по духу мыслителя, если бы им дано было увидеть его искусственно возведенные антиномии, этот непреходящий памятник победы над догматизмом, эти вечные пропилеи истинной философии.
Несмотря на постепенное, частичное возникновение его философии, дух его являет все же естественное и неудержное стремление к целостности, которой он и достиг в своей сфере. Его позднейшим умозрительным исследованиям предшествовали, кроме нескольких сочинений, посвященных общественным вопросам и вопросам жизни, преимущественно естественно-научные труды, которые, опять-таки за исключением тех немногих, более всего привлекали его дух, вплоть до момента, когда угасла его мысль. Его «Теория и История неба» достаточно уже восхвалялась другими, благодаря предвосхищению в ней планеты, сверх числа уже известных (что, впрочем, не имеет слишком большого значения), благодаря весьма близкому к действительности и выведенному до наблюдения определению времени обращения Сатурна, а также благодаря смелым мыслям, впервые высказанным им о системах неподвижных звезд, о млечных путях и туманных пятнах. Все эти мысли, которые, впрочем, до сих пор еще гораздо более поражают воображение, нежели обосновываются с достаточной для разума убедительностью5656
Срв. «Einleitung in die Philosophie der Mythologie», стр. 495.
[Закрыть], стали известными лишь много лет спустя, благодаря «Космологическим письмам» Ламберта, повторившим их даже без упоминания Канта. Гораздо выше всего этого стоит дерзновенный полет его духа, осмелившегося в области самой материи и ее естественных сил искать основания даже для тех определений всемирной системы и ее движений, для объяснения которых ньютонианизм прибегал непосредственно к божественному Всемогуществу.
Свою теоретическую Критику разума, эту формальную сторону своей философии, он впоследствии дополнил «Метафизическими началами естествознания», представляющими как бы материальную сторону ее, хотя разделению этому и не было дано созреть до истинного единства основоположений обеих частей, и его естествознанию не пришлось стать натурфилософией, так же, как ему не удалось развить всеобщее до совершенной гармонии его с частным. Еще в 1801 году, в немногие остававшиеся ему часы свободной силы мысли, он работал над трудом: «Переход от метафизики к физике», который, если бы время позволило ему завершить его, был бы, несомненно, одним из самых интереснейших. Его воззрения об органической природе были у него отделены от общего естествознания, они изложены им в его «Критике телеологической силы суждения», не объединенные с теми общими взглядами.
Также и широкое поле истории пронизал целым рядом лучезарных мыслей его дух, которому только помещала отличавшая его эпоху идея непрерывного прогресса человечества.
Проникающая все труды его наивность, часто обнаруживающая доброту его души, равно как и глубину его духа; нередко божественный инстинкт, уверенно ведущий его, сказались особенно в его «Критике эстетической силы суждения». Только чистотою истинно независимой души и великим прозрением ясного духа можно объяснить, что в эпоху глубочайшего принижения искусства; в эпоху, частью распыленную в пустой сентиментальности, частью ожидающую от искусства грубого, материального возбуждения, частью требующую от него нравственного воспитания или, по крайней мере, поучения или какой-либо другой пользы; в эпоху, совершенно забывшую или не оценившую то единственно прекрасное, что дано было ей в лице Винкельмана и Гете, – Кант возвышается до идеи искусства, независимого ни от какой другой цели, кроме лежащей в нем самом; вскрывает безусловность красоты и постулирует наивность, как сущность художественного гения. Все это вдвойне замечательно, если вспомнить, что частью природное умонастроение, частью жизненные обстоятельства (ибо далее нескольких миль он никогда не отлучался из своего родного города Кенигсберга) препятствовали ему приобрести историческое знание прекрасных творений изобразительного искусства, известного ему, впрочем, не лучше творений словесного искусства, среди которых поэмы Виланда (крайний предел знакомства его с немецкой поэзией) и Гомера стояли для него приблизительно на одной ступени. Если для объяснения своей теории гения он говорит: «Никакой Гомер или Виланд не может указать, каким образом могли возникнуть или встретиться в его голове его исполненные фантазии и вместе с тем глубокомыслия идеи, – не может потому, что он сам этого не знает», то неизвестно еще, чему должно больше удивляться – наивности ли, с которой Гомер приводится в пояснение (современного) понятия о гении; или добродушию, с которым о Виланде говорится, будто он сам не мог знать, как сошлись в его голове его исполненные фантазии идеи, что, по суждению знатоков французской и итальянской литературы, Виланд вполне точно мог знать. – Как известно, последний плохо воздал впоследствии Канту за его добродушие.
Несмотря на все эти черты, не подлежит никакому сомнению, что только со времени Канта и благодаря ему сущность искусства была высказана также и научно. Поистине, сам того не зная, он создал понятия, открывшие глаза также и на то, чтó в прошлом немецкого искусства было прекрасного и подлинного, – понятия, образовавшие эстетическое суждение. И, подобно всему более жизненному в науке, также и тот дерзновенный подъем, который отличает Критику последних лет, может быть косвенно сведен к его влиянию.
Это косвенное отношение ко всему позднейшему в известном смысле отделяет его от него, сохраняя чистоту его образа. Он как раз образует границу двух эпох в философии: одной, которую он навсегда закончил; другой, которую он отрицательно подготовил, мудро ограничив себя чисто критической целью.
Неискаженный грубыми чертами, которые приписывало ему непонимание тех, кто, под именем его толкователей и приверженцев, были в действительности лишь его карикатурами или плохими его копиями, а также чертами, которыми наделяла его неистовая злоба врагов, – образ его духа, в своей завершенной единственности, будет вечно сиять, пока стоит философия.
Распространение его философии среди других народов, кроме северных, всегда ближе примыкавших к немецкой культуре, до сих пор не имело значительного успеха, и не может при тех же условиях рассчитывать в будущем на таковой. Философия Канта и еще более его изложение ее носит резкий отпечаток национальности и очень много теряет в общепонятности и универсальности благодаря многократным ссылкам на господствовавшую до него в Германии школьную философию. Те, кто до тех пор пытался пересадить Канта на чужую почву, не были в состоянии отделить это только национальное, – эту примесь индивидуальности и времени, – от существенного, как например, г. Виллер, представивший, к тому же, своим соотечественникам Канта, искаженного всеми кривотолкованиями немецких кантианцев5757
Срв. рецензию на сочинения Виллера в предыдущем томе собр. соч., стр. 184 и сл.
[Закрыть]. Тогда как философия Канта по необходимости должна остаться чуждой научно неподвижному народу, величайшими философами которого были Бэкон, Локк и Юм; наоборот, независимо от того, что иными сторонами своими она, действительно, могла бы стать в более близкое соприкосновение с французской культурой, – уже негодование главнейших французских журналистов по поводу учения и личности немецкого философа может служить доказательством того, что они к нему относятся далеко не с тем безразличием, как они хотели бы то показать. В особенности это справедливо относительно сенатора в Корнетте, который, чтобы отмстить за славу Канта, не мог, при бедности своего остроумия, выдумать ничего лучшего, как, воспользовавшись плоской эпиграммой Попа на Ньютона и переделавши ее на еще более плоский лад, применить ее к Канту, и который вообще мог бы смело ограничиться полемикой с единственно достойным его противником – аббатом Жоффруа.
В памяти своего народа, к которому, как духом, так и своими душевными качествами, он только поистине и может принадлежать, Кант будет вечно жить как один из тех немногих интеллектуально и морально великих индивидуумов, в которых германский дух созерцал себя самого в своей живой целостности: HAVE SANCTA ANIMA5858
Прощай, святая душа. (Прим. перев).
[Закрыть].








