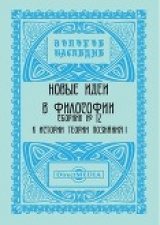
Текст книги "Сборник № 12. К истории теории познания I"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)

Ф.В. ШЕЛЛИНГЪ. Современная литографiя г-жи Брандтъ.
Ф. В. Й. Шеллинг.
Философские письма о догматизме и критицизме 2424
Письма появились впервые в Философском Журнале за 1795 г. (где вместо догматизм первоначально стояло догматицизм), позднее они были включены в 1-ый том философских сочинений (1809), где в предисловии они были охарактеризованы следующими словами: «Письма о догматизме и критицизме содержат оживленную полемику против почти повсеместно господствовавшего тогда и часто дававшего повод к злоупотреблениям так называемого морального доказательства бытия Божия, с точки зрения столь же безусловно господствовавшей тогда противоположности объекта и субъекта. Автору кажется, что полемика эта, в отношении образа мыслей, на который она направлена, до сих пор не утратила еще всей своей силы. Никто из оставшихся еще поныне на той же точке зрения не опровергнул ее. Кроме того, заключающееся в девятом письме замечание об уничтожении в абсолюте всех противоположностей противоборствующих начал представляют явный зародыш позднейших и более положительных воззрений».
[Закрыть]
(1795)
Предуведомление
Ряд обстоятельств убедил автора этих писем в том, что границы, проведенные «Критикой чистого разума» между догматизмом и критицизмом, для многих друзей этой философии еще недостаточно резко определены. Если он не ошибается, из трофеев критицизма собираются ныне построить новую систему догматизма, которой всякий искренний мыслитель предпочел бы, пожалуй, простое восстановление прежнего его здания. Рассеять вовремя эту путаницу, которая истинной философии обыкновенно приносит гораздо более вреда, нежели самая зловредная, но при том последовательная система философии – это хотя и неприятное, но, конечно, не излишнее дело. – Автор избрал форму писем, полагая, что в этой форме ему яснее всего удастся выразить свои идеи, а в данном случае ему более, чем когда бы то ни было следует заботиться о ясности. Если непривычному читателю изложение в иных местах покажется слишком резким, то автор просит объяснить эту резкость исключительно лишь его живейшим убеждением во вреде оспариваемой системы.
Письмо первое
Я понимаю Вас, дорогой друг! Вам кажется более достойным бороться с абсолютной Силой (Macht) и погибнуть в борьбе, нежели заранее оградить себя от всякой опасности с помощью морального Бога. Несомненно, эта борьба с Неизмеримым есть не только самое возвышенное, что в силах помыслить человек, но, как мне думается, даже есть начало всего возвышенного. Но я хотел бы знать, как, по Вашему, догматизм объясняет самую силу, в которой человек противопоставляет себя Абсолюту, и чувство, сопровождающее эту борьбу. Последовательный догматизм приходит не к борьбе, но к подчинению, не к насильственной, но к добровольной гибели, к тихой покорности и преданности абсолютному объекту: всякая мысль о сопротивлении и борющемся самоутверждении есть контрабанда, перешедшая в догматизм из другой, лучшей системы. Но зато покорность эта имеет чисто эстетическую форму. Тихая преданность (Hingabe) Неизмеримому, успокоение в лоне мира, – вот, что на другом полюсе искусство противопоставляет той борьбе: стоическое спокойствие духа, спокойствие, ожидающее или уже завершившее борьбу, стоит по середине.
Если зрелище борьбы предназначено для того, чтобы изображать человека в высший момент его мощи и самоутверждения, то, напротив, тихое созерцание того покоя находит его в высшем моменте жизни. Он покорно отдается вечно новому миру для того, чтобы только вообще утолить свою жажду жизни и бытия. Быть, быть! раздается в нем голос; он предпочитает ринуться в лоно мира, чем в лоно смерти.
Итак, если мы будем рассматривать идею морального Бога с этой стороны (эстетической), то наше суждение ясно. Предполагая Его, мы тем самым теряем подлинное начало эстетики.
Ибо мысль о противопоставлении меня миру мне более уже не представляется величественной, когда между ним и мною я ставлю высшее Существо, когда необходим Блюститель мира для того, чтобы соблюдать его в его пределах.
Чем отдаленнее мир от меня, чем более посредств ставлю я между ним и мною, тем ограниченнее мое созерцание его, тем невозможнее та покорная преданность миру, то взаимное приближение, та обоюдная гибель в бою (подлинное начало красоты). Истинное искусство, или, вернее, божественное (ϑείον) в искусстве, есть внутреннее начало, изнутри образующее для себя материал и мощно противодействующее грубому механизму, беспорядочному накоплению извне материала. Это внутреннее начало тотчас же утрачивается с интеллектуальным созерцанием мира, возникающим в нас в силу мгновенного соединения обоих противоборствующих начал; и оно до тех пор не восстановимо, пока в нас не победят окончательно либо борьба, либо соединение.
До сих пор мы вполне согласны, мой друг. Идея морального Бога не имеет никакой эстетической стороны; но я иду еще далее: я утверждаю, что она не имеет даже никакой философской стороны, она не только не содержит ничего возвышенного, но она вообще ничего не содержит; она столь же пуста, как и всякое другое антропоморфистическое представление (ибо в принципе все они равны друг другу). Она одной рукой берет назад то, что дала другой, и она хотела бы на одной стороне дать то, что на другой она хотела бы отнять: она одновременно хочет возвеличить как слабость, так и силу, моральное смирение и моральное самоутверждение.
Она хочет Бога. Но этим она ничего не выигрывает по сравнению с догматизмом. Она не может ограничить им мир, не давши ему самому того, что она взяла у мира; вместо того, чтобы бояться мира, я должен теперь бояться Бога.
Отличительной чертой критицизма является таким образом не идея Бога вообще, но идея Бога, мыслимого под моральными законами. Как прихожу я к этой идее морального Бога? Так естественно гласит первый вопрос, который я могу поставить.
Ответ, который чаще всего приходится слышать, при ближайшем рассмотрении сводится к следующему: так как теоретический разум слишком слаб для того, чтобы понять Бога, и так как идея Бога реализуется только благодаря моральным требованиям, то я должен мыслить Бога также под моральными законами. Итак, я нуждаюсь в идее морального Бога, для того, чтобы спасти свою моральность; и потому что я, только чтобы спасти свою моральность, принимаю Бога, – потому Бог этот должен быть моральным.
Таким образом не идеей Бога, но лишь идеей морального Бога я обязан этому практическому убеждению. Но откуда же Вы имеете ту идею Бога, которую Вы ведь должны были иметь раньше, прежде чем Вы были в состоянии иметь идею морального Бога? Вы говорите, теоретический разум не в силах понять Бога. Хорошо, тогда называйте это, как Вам угодно: допущением, знанием, верой; все равно, от идеи Бога Вы все-таки не можете отделаться. Посмотрим, каким образом именно практические требования привели Вас к этой идее? Ведь не в волшебных словах: практическая потребность, практическая вера лежит основание этого? Ибо в теоретической философии это допущение было невозможно не потому, что я не имел в нем никакой потребности, а потому, что я нигде там не находил места для абсолютной причинности.
«Но практическая потребность принудительнее, насущнее теоретической». – Это ничуть не помогает делу. Ибо потребность, как бы насущна она ни была, все-таки не в состоянии невозможное сделать возможным: я вполне соглашаюсь с Вами пока относительно насущного характера этой потребности, я хочу только знать, как Вы хотите удовлетворить ее, или что это за новый мир Вы вдруг открыли, в котором Вы находите место для абсолютной причинности?
Впрочем, и об этом я не хочу спрашивать. Пусть будет так. Но теоретический разум, хотя он и не мог сам найти того мира, все же, после того, как он уже открыт, должен также иметь право овладеть им. Сам по себе теоретический разум не может дойти до абсолютного объекта. Допустим это. Но после того, как Вы открыли уже этот объект, как хотите Вы помешать тому, чтобы и он также принял участие в открытии? Таким образом, теоретический разум должен стать совсем другим разумом, он должен быть расширен с помощью практического разума, для того, чтобы наряду со своей старой областью допустить еще новую.
Но если вообще возможно расширить область разума, то почему я должен так долго ждать? Ведь Вы сами утверждаете, что и теоретический разум также имеет потребность в допущении абсолютной причинности. Но раз Ваши потребности вообще в состоянии созидать новые миры, то почему теоретические потребности не могли бы также делать этого? – «Потому что теоретический разум слишком узок, слишком ограничен для этого». Хорошо, этого нам и надо было! Ведь когда-нибудь, раньше или позже, Вы должны прибегнуть и к теоретическому разуму. Ибо, сознаюсь, я не постигаю, что Вы разумеете под только практическим допущением (Annahme). Это слово может означать лишь, что в данном случае нечто принимается за истину, процесс, который, как и всякий другой процесс, принятый за истину, по форме хотя и теоретичен со стороны материи, однако, по основанию своему практичен. Но ведь Вы именно жалуетесь на то, что теоретический разум слишком узок, слишком ограничен для абсолютной причинности. Однако, если он даже и получает основание для того допущения от практического разума, откуда все же берет он новую форму принятия за истину, в этот раз уже достаточно широкую для того, чтобы вместить также и абсолютную причинность? Дайте мне тысячу откровений абсолютной причинности вне меня и тысячу требований усиленного практического разума, – я все же никогда не смогу поверить в нее, пока мой теоретический разум остается тем же! Чтобы быть в состоянии хотя бы только верить в абсолютный объект, я должен был бы раньше отменить себя самого, как верящего субъекта2525
Если кто-нибудь заметит мне, что выражения эти не затрагивают критицизма, тот скажет мне лишь то, что я сам думаю. Они направлены не против критицизма, а против иных толкователей его, которые – я не говорю уже из духа Кантовой философии, но – хотя бы только из употребляемого Кантом слова «постулат» (значение которого должно было бы быть им известно хотя бы из математики) могли бы понять, что в критицизме идея Бога вообще выставляется не как объект теоретического утверждения (Fürwahrhalten), но только как объект действования (Handeln).
[Закрыть].
Но, хорошо, я не буду мешать Вашему Deus ex machine! Согласимся с Вашим предположением идеи Бога. Как приходите Вы, однако, к идее морального Бога?
Моральный закон должен оградить Ваше существование от могущества Божия? Смотрите, не допускайте Всемогущества, прежде чем Вы не удостоверились в воле, соответствующей этому закону.
С помощью какого закона хотите Вы достичь той воли? С помощью самого морального закона? Но это именно мы и спрашиваем: как можете Вы быть убеждены, что воля того Существа соответствуете этому закону? Проще всего было бы сказать, что то Существо само – создатель морального закона. Но это ведь противоречит как духу, так и букве философии. – Или моральный закон не должен зависеть ни от какой воли? В таком случае мы находимся в области фатализма; ибо закон, не объясняемый ни из какого независимо от него существующего бытия, равно повелевающий как над высшей, так и над самой незначительной силой, не имеет другой санкции, кроме как санкции необходимости. – Или моя воля должна объяснить моральный закон? Быть может, я должен предписывать закон Высшему Существу? Закон? Пределы Абсолютному? Я, конечное существо?
…Нет, этого ты не должен! Ты должен лишь в твоем умозрении исходить из морального закона, должен так построить твою систему, чтобы моральный закон был в начале, Бог же – в самом конце ее. Так что если ты, в конце концов, дошел до Бога, то моральный закон, предшествующей ему, уже готов положить пределы Его причинности, пределы, при которых твоя свобода вполне может быть охранена. Если комунибудь не понравится этот порядок, пускай: он сам виноват, если ему придется отчаяться в своем существовании…
Я понимаю тебя. Но позволь мне предположить, что еще больший умник, чем ты, придет и скажет: что раз допущено, то обладает значимостью уже во всех направлениях – как вперед, так и назад. Так что верь, если тебе угодно, в абсолютную причинность вне тебя, но позволь также и мне сделать обратное заключение, а именно: что для абсолютной причинности не существует никакого морального закона, что Божество не виновато в том, что разум твой слишком слаб, и что из того, что Ты можешь дойти до него лишь чрез посредство морального закона, не следует, будто и Само Божество можно мерить тою же мерой, можно мыслить только в тех же пределах. Одним словом, пока путь твоей философии прогрессивен, я во всем охотно соглашаюсь с тобой; но, милый друг, не удивляйся, если я захочу пройти назад тот путь, который мы вместе сделали, и если, идя назад, я разрушу все то, что ты сейчас с таким трудом возвел. Твое спасение лишь в непрерывном бегстве: остерегайся остановиться где-нибудь; ибо где бы ты ни остановился, я настигну тебя и заставлю тебя вернуться со мною назад – но каждый наш шаг поведет к гибели и разрушению: впереди нас рай, позади – степь и пустыня.
Да, мой друг, я понимаю, как могли Вы устать от всех тех похвал, которыми засыпают новую философию, и от непрерывных ссылок на нее, когда нужно принизить разум! Может ли философ представить себе больший позор, нежели зрелище собственной превратно понятой и во зло употребленной системы, низведенной до уровня старых формул и торжественных проповедей и выставленной на позорище всеобщей хвалы? Если Кант не хотел сказать ничего иного, кроме как: добрые люди, ваш (теоретический) разум слишком слаб, для того, чтобы вы могли понять Бога, с другой стороны вы должны быть морально-добрыми людьми и ради моральности вы должны предположить Существо, награждающее добродетель и наказующее порок, – если бы в этом был смысл учения Канта, то что было бы в нем неожиданного, необычного, неслыханного, ради чего стоило бы подымать шум и молиться: Боже наш, спаси нас от друзей, ибо с врагами нашими мы справимся сами.
Письмо второе
Основывая всю свою систему только на структуре нашей способности познания, а не на самой нашей первоначальной сущности, критицизм, мой друг, не в силах победить догматизма. Я не говорю уже о громадном преимуществе догматизма, сообщающем ему так много привлекательности и свойственном ему, по крайней мере, постольку, поскольку он исходит не из абстракций или из мертвых положений, а (по крайней мере, в совершенных своих формах) из бытия, презирающего все наши слова и мертвые положения. Я хочу только спросить, мог ли бы критицизм действительно достигнуть своей цели – сделать человечество свободным, если бы вся его система была основана единственно и исключительно на нашей способности познания, как на чем-то, отличном от нашей первоначальной сущности?
Ибо, если требование не допускать никакой абсолютной объективности исходит не из самой моей первоначальной сущности, если только слабость разума преграждает мне доступ в абсолютно объективный мир, то тебе не возбраняется, конечно, строить свою систему слабого разума, только ты не думай, будто тем самым ты предписываешь законы самому объективному миру. Простое дуновение догматизма разрушит весь твой карточный домик.
Если не сама абсолютная причинность, но лишь идея таковой реализуется впервые в практической философии, то думаешь ли ты, что эта причинность и ее воздействие на тебя будут ждать, пока ты с превеликим трудом практически реализуешь ее идею? Если ты хочешь действовать свободно, то ты должен действовать, прежде чем существует объективный Бог. Ибо то обстоятельство, что ты в него веришь лишь по совершении своего действия, ничему не поможет: прежде чем ты действовал и прежде чем ты только уверовал в него, его причинность уже уничтожила твою.
Но, в самом деле, следовало бы пощадить слабый разум. Слаб, однако, не тот разум, который не познает никакого объективного Бога, а тот, который хочет познавать такового. Так как вы думали, что не можете действовать без объективного Бога и абсолютно объективного мира, приходилось, чтобы тем легче можно было отнять у вас эту игрушку вашего разума, ссылаться на его слабость; приходилось утешать вас обещанием, что вы потом получите ее обратно, в надежде, что до тех пор вы научитесь уже действовать самостоятельно и станете, наконец, взрослыми людьми. Но когда исполнится эта надежда?
На том основании, что первая попытка опровергнуть догматизм могла исходить лишь из критики способности познания, вы думали, что в праве дерзко взвалить на разум вину за вашу не исполнившуюся надежду. Это именно вам и было нужно. Затем, в широких размерах на примере вы наглядно представили то, чего давно желали, т. е. слабость разума. Для вас рушился не догматизм, но в лучшем случае только догматическая философия. Ибо максимум, чего мог достичь критицизм, – это доказать вам недоказуемость вашей системы. Поэтому вы и должны были искать причину этого результата не в догматизме, а в вашей способности познания, и при том в недостаточности, в слабости ее, так как догматизм вы раз навсегда ведь возвели уже в ранг самой совершенной системы. Догматизм, который был бы глубже обоснован, чем только в способности познания, мог бы презреть, думали вы, все наши доказательства. Чем сильнее доказывали мы вам, что система догматизма не реализуема с помощью способности познания, тем сильнее укреплялась ваша вера в нее. То, что вы не находили в настоящем, вы перелагали в будущее. Ведь с давних пор уже смотрели вы на способность познания как на наброшенное на нас покрывало, которое некая высшая рука произвольно могла бы с нас снять, если бы оно устарело, или как на величину, которую произвольно можно на аршин укоротить или увеличить.
Недостаточность, слабость – разве все это не случайные ограничения, допускающие бесконечное расширение и прогресс? И разве убеждение в слабости разума (какое прекрасное зрелище – это трогательное согласие философов и мечтателей, верующих и безбожников) не влечет за собою вместе с тем надежды когда-либо причаститься высших сил, разве вера в ограниченность разума не налагает даже обязанности всеми возможными средствами попытаться ее уничтожить? Конечно, Вы должны быть нам очень благодарны за опровержение вашей системы. Вам теперь более уже не нужно вдаваться в хитроумные и трудно понятные доказательства: мы открыли вам более короткий путь. На все то, чего вы не можете доказать, вы накладываете печать практического разума, с уверением, что монета ваша будет иметь хождение всюду, где еще господствует человеческий разум. Хорошо, что разум укрощен в своей гордыне. В свое время он довлел себе, ныне вы познали его слабость и терпеливо ждете милости небес в надежде, что она откроет вам (о счастливцы!) больше, нежели бедному философу тысяча ночей, проведенных в трудных размышлениях.
Настало время, мой друг, рассеять это заблуждение и ясно и определенно заявить, что смысл критицизма отнюдь не сводится к тому, чтобы дедуцировать слабость разума и доказать против догматизма лишь то, что он недоказуем. Вы сами лучше всякого другого знаете, как далеко уже теперь завели нас все эти ложные истолкования критицизма. Я воздаю должное старому, честному вольфианцу; тот, кто не верил в его доказательства, считался просто не философским умом. Это было не страшно! Кто не верит в рассуждения наших новейших философов, на том лежит анафема моральной испорченности.
Настало время нам разойтись. Довольно терпели мы в своей среде тайного врага, который, здесь сдавши оружие, там готовит нам новую войну, чтобы поразить нас – на этот раз не в открытом поле разума, а в закоулке суеверия.
Настало время провозгласить для лучшей части человечества свободу духа и не терпеть более, чтобы она оплакивала потерю своих оков.
Письмо третье
Этого я не хотел, мой друг. Я не хотел на самое «Критику чистого разума» взваливать вину за все эти лжетолкования. Она дала, правда, повод к ним, ибо она необходимо должна была его дать. Настоящий же их виновник – это непрекращающееся и поныне господство догматизма, который даже из-под своих развалин все еще владеет сердцами людей.
Повод к тому « Критика чистого разума» дала постольку, поскольку она была только Критикой способности познания, и в качестве таковой могла дать лишь отрицательное опровержение догматизма. Первый бой против догматизма мог исходить лишь из точки, общей как ему, так и лучшей системе. Оба в самых первых началах абсолютно противоположны друг другу, но один-то раз они неминуемо должны ведь встретиться в какойнибудь общей точке. Ибо если бы у различных систем не было никакой общей почвы, они вообще не могли бы существовать, как различные системы.
Это – необходимое следствие из понятия философии. Философия не должна быть хитроумной выдумкой, вызывающей лишь удивление пред остроумием сочинившего ее. Она должна изображать ход развития самого человеческого духа, а не только развитие отдельного индивида. Развитие же это необходимо ведет через области, общие всем спорящим сторонам.
Если бы мы имели дело только с Абсолютом, то спор различных систем между собой никогда не возник бы. Только вследствие того, что мы выходим из сферы Абсолюта, возникает противоборство против него и лишь благодаря этому первоначальному противоборству в самом человеческом духе – спор философов. Если бы не философам, а человеку удалось когда-нибудь покинуть эту область, в которую его вверг выход его из Абсолюта, то тогда вместе с той самой областью прекратилась бы и всякая философия. Ибо она возникает лишь благодаря тому противоборству и обладает реальностью лишь до тех пор, пока противоборство длится.
Поэтому тот, кто стремится примирить спор философов, должен исходить именно из той точки, откуда изошел спор самой философ, или – что одно и то же – откуда началось первоначальное противоборство в человеческом духе. Но эта точка есть не что иное, как выход из Абсолюта; ибо относительно Абсолюта мы все были бы согласны, если бы никогда не покинули его сферы; и если бы мы не вышли из нее, у нас не было бы никакой другой области для спора.
И действительно, «Критика чистого разума» также начала свою борьбу лишь из этой точки. Как приходим мы вообще к синтетическим суждениям? спрашивает Кант в самом начале своего труда, и этот вопрос лежит в основе всей его философии, будучи вместе с тем проблемой, выражающей подлинную общую точку всякой философии. Ибо, в иной формулировке, вопрос этот гласит так: как вообще получается, что я выхожу из Абсолюта в сферу противоположного?
Ведь синтез возникает вообще лишь чрез противоборство (Widerstreit) множества с первоначальным единством. Ибо без противоборства вообще ни один синтез не обладает необходимостью; где нет множества, там безусловное единство: если бы, напротив, множество было первоначальным, то и тогда опять-таки не было бы никакого синтеза. Хотя мы и можем понять синтез исключительно лишь чрез посредство первоначального единства, в противоположность множеству, все же «Критика чистого разума» не могла подняться к тому абсолютному единству, потому что, стремясь примирить спор философов, она могла исходить лишь именно из того факта, из которого исходит спор самой философии. Но именно потому также тот первоначальный синтез она могла предполагать лишь как факт в способности по-знания. Тем самым она достигла большого преимущества, значительно перевесившего невыгоду, получившуюся с другой стороны.
С догматизмом ей предстояла борьба не относительно самого факта, но лишь относительно выводов из него. Пред Вами, мой друг, я могу не оправдывать этого моего утверждения. Ибо Вы никогда не могли понять, как можно приписывать догматизму утверждение, будто вообще не существует никаких синтетических суждений. Вы давно уже знали, что разногласие обеих систем коренится не в вопросе «существуют ли вообще синтетические суждения?», а в гораздо более глубоком вопросе: «где лежит принцип единства, выражаемого в синтетическом суждении?».
С другой стороны, невыгода такой постановки вопроса состояла в том, что она почти неизбежно дала повод к указанному лжетолкованию, а именно: будто вся вина за невыгодный для догматизма результат лежит исключительно лишь на способности познания. Ибо, пока способность познания рассматривалась как нечто хотя и свойственное субъекту, но при этом не необходимое, указанное недоразумение было неизбежно. Этому же заблуждению (будто способность познания не зависит от сущности самого субъекта) критика одной только способности познания не могла вполне воспрепятствовать, потому что она могла рассматривать субъекта лишь, поскольку он сам есть объект способности познания, т. е. совершенно отличен от нее.
Еще неизбежнее все это недоразумение оказалось потому, что «Критика чистого разума», так же, как и всякая другая чисто теоретическая система, не могла пойти дальше простой проблематичности, т. е. могла дойти лишь до доказательства теоретической недоказуемости догматизма. Так что достаточно было освященной долгой традицией мечте догматизма представиться практически самой желанной и самой достойной системой, чтобы вполне естественной явилась попытка догматизма спасти себя путем ссылки на слабость разума. Но ведь мечта догматизма была неуязвима, пока весь спор продолжал вращаться в сфере теоретического разума. А тот, кто переносил ее в область практическая разума, разве мог он внимать голосу свободы?
Письмо четвертое
Да, мой друг, я твердо убежден, что даже совершенная система критицизма не в состоянии теоретически опровергнуть догматизм. Он, правда, рушится в теоретической философии, но только, чтобы восстать снова с тем большей силой.
Теория синтетических суждений необходимо побеждает его. Критицизм, вместе с ним исходящий из общей им точки первоначального синтеза, может сам объяснить этот факт только из способности познания. С подавляющей очевидностью доказывает он, что субъект, как только он входит в сферу объекта (высказывает объективные суждения), выходит из самого себя и принуждается тем самым к синтезированию. Допустивши это, догматизм необходимо должен также признать, что абсолютнообъективное познание невозможно, т. е. что объект вообще познаваем только при условии субъекта, при условии, что этот последний выходит из своей сферы и производит синтез. Он должен признать, что ни в каком синтезе объект не может наличествовать абсолютным образом, потому что, будучи абсолютным, он не допускал бы безусловно никакого синтеза, т. е. никакой обусловленности противоположным. Он должен признать, что я достигаю объекта не иначе, как чрез посредство себя самого, и что я не могу стать на собственные плечи для того, чтобы выглядывать выше меня самого.
Постольку догматизм теоретически опровергнут. Однако, этим действием синтеза способность познания далеко еще не исчерпывается. А именно, синтез вообще мыслим лишь при двух условиях.
Во-первых, при условии, что ему предшествует абсолютное единство, которое лишь в самом синтезе, т. е. если дано нечто противоборствующее, а именно, множество, становится эмпирическим единством. До этого абсолютного единства простая критика способности суждения, правда, не может подняться, ибо последнее, с чего она начинает, есть уже тот самый синтез: но тем очевиднее, что совершенная (полная) система должна исходить именно оттуда.
Во-вторых, ни один синтез не мыслим без предположения, что он сам опять-таки кончается абсолютным тезисом: цель всякого синтеза есть тезис. Это второе условие всякого синтеза, во всяком случае, находится на линии, которую критика способности познания необходимо должна пройти, ибо здесь речь идет о тезисе, не из которого синтез должен исходить, но в котором он должен кончиться.
Однако, критика способности познания не в состоянии (хотя совершенная наука необходимо должна это сделать) дедуцировать утверждение, что всякий синтез в конце концов приходит к абсолютному единству, из первоначального абсолютного единства, предшествующего всякому синтезу, ибо до этого единства она не поднимается. Вместо этого она прибегает к другому средству. А именно, предполагая, что чисто формальные действия субъекта не подвержены никакому сомнению, она указанный выше процесс синтеза, поскольку он материален, пытается доказать чрез посредство процесса всякого синтеза, поскольку он чисто формален. А именно, она предполагает, как факт, что логический синтез мыслим лишь при условии безусловного тезиса, что субъект принужден восходить от условных суждений к безусловным (с помощью просиллогизмов). Вместо того, чтобы дедуцировать формальный и материальный процесс всякого синтеза из общего им обоим, равно лежащего в основании обоих начала, она объясняет процесс одного синтеза чрез процесс другого.
Таким образом, она должна признать, что теоретический разум необходимо приходит к безусловному, и что абсолютный тезис, как конец всякой философии, необходимо постулируется тем самым стремлением, которым синтез был произведен: а этим она вынуждена снова разрушить то, что только что сама создала. Поскольку она остается в области синтеза, она побеждает догматизм; лишь только она покидает эту область (а она столь же необходимо должна ее покинуть, сколь необходимо должна была раньше в нее войти), битва возобновляется с новой силой.
А именно (я должен просить Вас запастись еще терпением), если синтез кончается тезисом, то условие, при котором только синтез действителен, должно быть отменено (aufheben)2626
Мы переводим «отменить», а не «снять», так как здесь у Шеллинга термин этот не имеет Гегелевского смысла, утвержденного традицией за термином «снять». (Прим. перев.).
[Закрыть]. Условием же синтеза является противоборство вообще, и притом, определеннее, противоборство между субъектом и объектом.
Для того, чтобы противоборство между субъектом и объектом могло прекратиться, субъект не должен быть более принужден выходить из себя самого, оба должны быть абсолютно тождественны, т. е. либо субъект должен теряться в объекте, либо объект в субъекте. Если бы какое-нибудь из обоих этих требований исполнилось, то тогда тем самым или субъект или объект стал бы абсолютным, т. е. синтез закончился бы в тезисе. А именно, если бы субъект стал тождествен с объектом, то объект тотчас же перестал бы быть обусловлен субъектом, т. е. был бы положен вещью в себе, был бы положен абсолютным, субъект же, как познающее, был бы совершенно отменен2727
Я имею в виду совершенный догматизм. Ибо, что в промежуточных системах абсолютный объект полагается рядом с познающим субъектом, нигде не понятно, кроме как в самих этих системах. – Кто не доволен тем, что данное выше изложение хода «Критики чистого разума» не скопировано дословно с нее самой, для того не предназначены эти письма. – Кто находит их непонятными, – за недостатком терпения прочитать их внимательно, – тому остается только посоветовать вообще читать лишь то, чему он уже раньше научился.
[Закрыть]. Наоборот, если бы объект стал тождествен с субъектом, то тем самым этот последний стал бы субъектом в себе, абсолютным субъектом, объект же, как познаваемое, т. е. как предмет вообще, был бы безусловно отменен.
Одно из двух должно необходимо случиться. Или нет субъекта и зато есть абсолютный объект, или нет объекта и зато есть абсолютный субъект. Как решить этот спор?
Прежде всего, мой друг, вспомним, что мы здесь все еще находимся в области теоретического разума. Однако, только ставя этот вопрос, мы тем самым уже перескочили эту область. Ибо теоретическая философия направляется исключительно лишь на оба условия познания, – субъект и объект. Желая же теперь отменить одно из этих условий, мы тем самым покидаем уже ту область, почему спор и должен остаться здесь нерешенным: если мы хотим решать его, то мы должны искать новую область, в которой мы, может быть, будем более счастливыми.
Теоретический разум необходимо стремится к безусловному (geht auf ein Unbedingtes); он породил идею безусловного, поэтому, будучи сам, как теоретический разум, не в состоянии реализовать безусловное, он требует, постулирует действие, которым оно должно быть реализовано.
Здесь философия переходит в область требований (постулатов), т. е. в область практической философии, и здесь единственно, здесь лишь должен одержать победу принцип, выставленный нами в начале философии и оказавшийся ненужным для теоретической философии, понимаемой как отдельная область.
До сих пор нас и довела «Критика чистого разума». Она показала, что упомянутый спор не может быть разрешен в теоретической философии, она не опровергла догматизма, но объявила весь вопрос вообще неподсудным суду теоретического разума; и в этом, во всяком случае, она сходится не только с совершенной системой критицизма, но даже и с последовательным догматизмом. Чтобы осуществить свое требование, и догматизм должен апеллировать к другому суду, а не к суду теоретического разума: он должен искать другой области, чтобы получилась возможность судить о споре.








