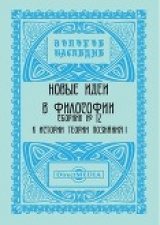
Текст книги "Сборник № 12. К истории теории познания I"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Вы говорите о пленительной стороне догматизма. Мне кажется, я лучше всего отвечу на это последовательно проведенной догматической моралью, тем более, что ход наших рассуждений естественно приводит нас к последней попытке догматизма решить в свою пользу спор в области практического разума.
Письмо пятое
Вы предупредили меня, дорогой друг, Вы сами признаете, что, говоря о пленительности догматизма, Вы имели в виду лишь популярную систему догматизма, т. е. лейбницевскую. С другой стороны, против моего утверждения, что и догматизм сам прибегает к практическим постулатам, Вы выставляете возражения, которые я не могу обойти молчанием. К сожалению только, мой ответ на Ваше последнее письмо так запоздал, что я сильно опасаюсь, не утратил ли он для Вас своего интереса, так как он имеет в виду непосредственно Ваши тогдашние возражения. Впрочем, постараюсь напомнить Вам, о чем в них шла речь, чтобы таким образом снова возбудить в Вас интерес к нашей беседе.
Вы говорите: толкователи критицизма (во всяком случае, большинство их) утверждают, что догматизм навсегда и окончательно опровергнут тем, что «Критика чистого разума» вскрыла тщетность всех теоретических доказательств в пользу существования объективного умопостигаемого мира. Ибо в том именно и состоит характерное отличие догматизма, что он мнит с помощью теоретического разума найти то, что по критическом исследовании способности познания возможно лишь с помощью практического разума. – Поэтому догматизм никогда не может согласиться на употребление только практических постулатов, ибо тогда он перестал бы быть догматизмом и необходимо превратился бы в критицизм. Так что исключительное употребление практических постулатов прямо даже отличает критического философа от догматического, так как в необходимости прибегать к моральным основаниям веры последний видит принижение умозрительного разума и т. д.
Вы совершенно правы, мой друг, в Вашем историческом утверждении, что большая часть критических философов считают переход от догматизма к критицизму чрезмерно легким; что, желая еще более облегчить и сделать удобным этот переход, они рассматривают метод практических постулатов как характерный, только критицизму присущий метод, полагая даже, что один уже термин «практический постулат» достаточно отличает эту систему от всякой другой. При этом получается еще следующая своеобразная выгода: проникнуть глубже в особенный дух практических постулатов в системе критицизма оказывается совершенно не нужным, раз действительно метод сам по себе считается уже достаточно отличающим критицизм моментом. Как будто метод не есть именно то, что может быть общего у двух противоречащих систем и как будто метод не должен быть общим двум противоположным системам.
Впрочем, позвольте мне вернуться еще несколько более назад.
Ничто, как мне кажется, не доказывает с большей очевидностью того факта, как мало большинство последователей критицизма проникло в дух «Критики чистого разума», как именно всеми почти разделяемая вера, будто «Критика чистого разума» принадлежит лишь одной системе, между тем как все своеобразие «Критики разума» состоит именно в том, что она не покровительствует специально никакой системе, но для всех их в равной мере выставляет или, по крайней мере, подготовляет общий канон. Необходимой частью канона всех систем является также, конечно, и общая методология; но принимать метод, выставляемый Критикой для всех систем, за самое систему – что можно себе представить для нее печальнее?
После столь долгих споров относительно цели Кантова великого труда представляется даже несколько дерзким иметь о ней еще собственное мнение. Но, быть может, чтобы разрешить этот вопрос, причинивший столько хлопот как противникам, так и друзьям Критики, только полезно будет освободиться от первого чрезвычайного впечатления, вызванного ее появлением. Ведь, так часто случается в человеческой жизни, что виды на будущее обладание принимаются за самое обладание!
Итак, если, без опасности показаться дерзким, мне позволено будет формулировать Вам свой собственный взгляд на этот вопрос, то я скажу, что, по-моему, «Критика чистого разума» не может и не должна обосновывать исключительно какую-нибудь одну систему – менее же всего тот ублюдочный продукт смешения догматизма с критицизмом, который я пытался охарактеризовать в своих предыдущих письмах. Напротив, насколько я понимаю, цель ее именно вывести из сущности разума возможность двух прямо противоположных друг другу систем и одинаково обосновать как систему критицизма (в совершенной его форме), или, вернее, идеализма, так и прямо противоположную этой системе систему догматизма, или реализма2828
Мимоходом замечу, что, на мой взгляд, следовало бы отказаться от этих названий и заменить их новыми, более определенными. Почему не определить обе системы сразу их названиями, назвав догматизм системой объективного реализма (или субъективного идеализма), а критицизм – системой субъективного реализма (или объективного идеализма)? (Очевидно, «Критика чистого разума», говоря о явлениях, в основе которых лежат вещи в себе, допускает одинаково как объективный, так и субъективный реализм). – Улучшение терминологии представляется обыкновенно делом весьма несущественным, хотя для многих и даже для большинства слова больше значат, нежели понятия. Если бы после появления Критики выражения «критическая философы», «критицизм» не были пущены в оборот, то, пожалуй, гораздо раньше было бы покончено с мнением, будто «Критика чистого разума» обосновывает только одну систему (т. н. критицизма).
Слова в тексте «или, вернее, идеализма» и «или реализма» вставлены во 2-м изд. (Прим. издателя собр. соч. Шеллинга).
[Закрыть].
Говоря против догматизма, «Критика чистого разума» говорила в сущности против догматицизма, т. е. против такой системы догматизма, которая возводится слепо и без предварительного исследования способности познания. «Критика чистого разума» научила догматицизм тому, как он может стать догматизмом, т. е. прочно обоснованной системой объективного реализма. Быть может, Вы заранее уже решили, что это утверждение совершенно противоречит духу критики, и большинству Ваше суждение покажется тем естественнее, что оно, во всяком случае, противоречит ее букве. Позвольте мне поэтому также заранее напомнить Вам одну часть Критики, которая, несмотря на все споры, как раз наименее всего ныне выяснена. Я имею в виду часть, трактующую о вещах в себе. Если полагать, что «Критика чистого разума» должна обосновывать только критицизм, то именно в этом пункте ее, на мой взгляд, совершенно невозможно спасти от упрека в непоследовательности. Если же предположить, что «Критика чистого разума» не принадлежит специально никакой системе, то тогда вполне объясняется, почему она сохранила рядом обе системы – идеализм и реализм. Она обладает значимостью для обеих, потому что значимость ее распространяется одинаково как на систему критицизма, так и на систему догматизма, понимая под критицизмом и догматизмом не что иное, как идеализм и реализм, мыслимые в системе. Всякий, кто внимательно прочел то, что Критика говорит о практических постулатах, должен, конечно, сам перед собою признать, что она оставляет для догматизма открытое место, на котором он может верно и прочно возвести свое здание.
Как много мнимых врагов критицизма утверждали (и при том утверждали только потому, что, подобно друзьям его, не шли дальше внешней стороны его, его метода), будто критицизм отличается от догматизма единственно лишь своим особым методом. А что на это отвечали так называемые приверженцы критической философии? Они – их скромность большей частью была так велика, что и они признавали, что отличительной чертой их критицизма является только метод, что они лишь верят в то, что догматик мнит знать, и что главная выгода нового метода (более чем о таких выгодах здесь и не идет даже речи!) заключается единственно лишь в том сильном влиянии, которое благодаря ему теории догматизма оказывают на мораль.
Как бы то ни было, в этом заслуга нашего времени: оно удачно применило новый метод в пользу догматизма. Ближайшему поколению предстоит задача создать противоположную систему во всей ее законченной чистоте. Мы можем продолжать работать над системой догматизма, только никто не должен уже нам более выдавать свою догматическую систему за систему критицизма на том основании, что норма для нее взята им из «Критики чистого разума».
Критика, выставлявшая свои метод практических постулатов для двух совершенно противоположных систем, никоим образом не могла дать нечто большее, чем простой метод, никоим образом не могла, стремясь удовлетворить все системы, определить подлинный, истинный дух метода в какой-нибудь особой системе. Чтобы сохранить этот метод в его всеобщности, она должна была вместе с тем сохранить его в его не-определенности, не исключавшей ни одной из обеих систем. Даже, соответственно с духом времени, сам Кант более применил ее к заново обоснованной системе догматизма, чем к впервые основанной им системе критицизма.
«Критика чистого разума» (позвольте мне еще дальше пойти в своих выводах) потому именно единственное произведение в своем роде, что она обладает значимостью для всех систем или, так как все остальные системы являются только более или менее верными копиями двух главных систем – для обеих систем, между тем как всякая попытка, выходящая за пределы простой Критики, может принадлежать лишь какойнибудь одной из обеих систем.
Именно потому «Критика чистого разума», как таковая, должна быть неотменяемой и неопровержимой, тогда как всякая система, заслуживающая это имя, должна быть опровергаема необходимо противоположной ей системой. Пока стоит философия, будет вместе с нею стоять и «Критика чистого разума» и только она одна, тогда как всякая система должна будет рядом с собой терпеть другую, ей прямо противоположную. «Критика чистого разума» вне влияния индивидуальности и потому обладает значимостью для всякой системы, между тем как всякая система непременно носит на себе печать индивидуальности, ибо никакая система не может завершиться иначе, как практически (т. е. субъективно). Чем более философия приближается к системе, тем большее участие принимают в ней свобода и индивидуальность, тем меньше может притязать она на общезначимость.
Одна лишь «Критика чистого разума» есть или содержит в себе подлинное наукословие: ибо она обладает значимостью для всякой науки. Наука стремится подняться к абсолютному принципу; если же она хочет стать системой, то она даже необходимо должна сделать это. Наукословие же никоим образом не может выставить одного абсолютного принципа, чтобы тем самым сделаться системой (в узком смысле слова), потому что оно должно содержать не абсолютный принцип, не определенную, законченную (совершенную) систему, но лишь канон для всех принципов и систем. Но давно пора вернуться назад к нити нашего спора.
Если «Критика чистого разума» – канон всех возможных систем, то необходимость практических постулатов она также должна была вывести из идеи системы вообще, а не из идеи какой-нибудь определенной системы. Поэтому, если имеются две совершенно противоположные системы, то метод практических постулатов никоим образом не может всецело принадлежать одной из них; ведь из идеи системы вообще «Критика чистого разума» впервые доказала, что ни одна система – как бы она ни называлась – не может в своей законченной форме быть предметом знания, – но лишь предметом практически необходимого, но бесконечного действия. То, что «Критика чистого разума» выводит из сущности разума, все это уже раньше само собою применялось при возведении системы всяким философом, руководившимся регулятивной идеей системы, только, пожалуй, без ясного сознания оснований своей собственной деятельности.
Быть может, вспомните Вы наш вопрос: почему Спиноза изложил свою философию в системе этики? Несомненно, он это сделал не зря. О нем больше, чем о ком-либо другом, сказано: «он жил в своей системе». Но несомненно также, – в ней видел он нечто большее, чем только теоретический воздушный замок, в котором ум, подобный его уму, вряд ли нашел бы покой и «небо в рассудке», в котором он так явно жил и творил.
Система знания есть необходимо или простой фокус, игра мысли (Вы знаете, что ничто не было более чуждо суровому уму этого философа), или она должна обрести реальность, не с помощью теоретической, но с помощью практической, не с помощью познающей, но с помощью продуктивной, реализирующей способности, не через знание, а через действие.
«Но ведь, скажут, в том именно и заключается отличительная черта догматизма, что он занимается простой игрой мысли». Я прекрасно знаю, что таково именно общее мнение всех тех, кто до сих пор продолжает догматизировать на Кантовский счет. Но простая игра мысли никогда не дает системы. – «Этого-то именно мы и хотим, не должно быть никакой системы догматизма: единственная возможная система – это система критицизма». Что касается меня, то я полагаю, что система догматизма существует не менее, чем система критицизма. Я даже думаю, что сам критицизм дает разрешение загадки, почему обе эти системы должны необходимо существовать рядом друг с другом, почему даже, пока существуют конечные существа, должны также существовать две, прямо противоположные друг другу системы, почему, наконец, ни один человек не может убедиться в истинности какой-нибудь системы иначе, как практически, т. е. непосредственной реализацией в себе самом одной из обеих систем.
Этим, я думаю, объясняется также, почему для ума, освободившего себя самого и обязанного своей философией только самому себе, не может быть ничего несноснее деспотизма узких голов, не терпящих подле себя никакой другой системы. Ничто более не возмущает философский ум, как утверждение, что отныне вся философия должна двигаться в рамках какой-нибудь определенной системы. Для него нет более возвышающего зрелища, чем бесконечный простор расстилающегося впереди знания. Вся величественность его науки состоит именно в том, что она никогда не может стать законченной, завершенной. И то мгновение, когда он сам поверил бы в завершенность своей системы, он показался бы себе несносным. В то самое мгновение он перестал бы быть творцом и опустился бы до уровня орудия своего творения2929
Пока мы находимся в процессе реализации вашей системы, имеет место лишь практическая ее достоверность. Наше стремление завершить ее реализует наше знание о ней. Если бы в какой-нибудь определенный момент времени мы разрешили полностью нашу задачу, то система сделалась бы предметом знания и тем самым перестала бы быть предметом свободы.
[Закрыть]. – Сколь несноснее еще должна быть для него эта мысль, если она внушается ему другим?
Высшее достоинство философии заключается именно в том, что она всего ожидает от человеческой свободы. Ничто поэтому не может быть пагубнее для нее, чем попытка насильственно замкнуть ее в границах теоретически-общеобязательной системы. Кто пытается сделать это, может быть очень умным человеком, но он необходимо лишен истинно критического духа. Ибо последний стремится искоренить суетный зуд демонстраций и доказательств, чтобы спасти свободу науки.
Сколь бесконечно большее значение для истинной философии имеет поэтому скептик, заранее объявляющий войну всякой общезначимой системе. Сколь бесконечно ниже его стоит догматицист, заставляющей все умы молиться какой-нибудь одной теоретической науке. Поскольку первый остается в своих границах, т. е. поскольку он сам не осмеливается нападать на область человеческой свободы, поскольку он верит в бесконечную истину, но также только в бесконечное внушение (unendlichen Genuss) последней, в бесконечно развивающуюся, самостоятельно добытую и самостоятельно завоеванную истину, – кто откажется почтить в нем истинного философа3030
Философия, какое прекрасное слово! Если позволено будет автору участвовать в голосовании, то он даст свой голос за сохранение старого слова. Ибо, на его взгляд, все наше знание навеки останется философией, т. е. всегда только развивающимся знанием, которого высшими или низшими степенями мы обязаны исключительно лишь нашей любви к мудрости, т. е. нашей свободе. – Менее всего желал бы он видеть нарушение смысла этого слова со стороны философии, впервые пытавшейся спасти свободу философствования от притязаний догматизма, философии, предполагающей самостоятельно добытую свободу духа и предназначенной поэтому вечно оставаться непонятой всяким рабом системы.
[Закрыть]!
Письмо шестое
Свое утверждение, что обе совершенно противоположные друг другу системы, догматизм и критицизм, равно возможны, и что обе они будут существовать рядом друг с другом до тех пор, пока все конечные существа не будут стоять на одной и той же ступени свободы, я, коротко говоря, обосновываю следующим образом: обе системы имеют перед собою одну и ту же проблему, но эта проблема никоим образом не может быть решена теоретически, а только практически, т. е. посредством свободы. При этом возможны лишь два решения этой проблемы, – одно приводит к критицизму, другое – к догматизму.
Какое из обоих решений мы выберем, – это зависит от приобретенной нами самими свободы духа. Мы должны быть тем, за что мы хотим выдавать себя теоретически; но что мы таковы, в этом может убедить нас лишь наше стремление стать таковыми. Это стремление реализует наше знание пред нами самими; и тем самым это последнее становится чистым продуктом нашей свободы. Собственным трудом должны мы раньше вознести себя до вершины, откуда мы хотим исходить: «вознести себя разумом» («hinaufvernunfteln») человек не может так же, как и не может дать вознести себя другим.
Я утверждаю, что догматизм и критицизм оба имеют одну и ту же проблему.
В чем состоит эта проблема, я уже сказал в одном из своих предыдущих писем. А именно, она касается не бытия Абсолюта вообще, потому что о самом Абсолютном как таковом невозможен никакой спор. Ибо в области самого Абсолюта обладают значимостью лишь чисто аналитические предложения, здесь господствует лишь закон тождества, здесь мы встречаемся не с доказательствами, но лишь с анализом, не с опосредствованным познанием, но лишь с непосредственным знанием – короче, здесь все понятно.
Нет предложения по природе своей менеe обоснованного, чем то, которое утверждает Абсолютное в человеческом знании. Ибо именно потому, что оно утверждает Абсолютное, для него самого нельзя далее привести никакого основания. Вступая в область доказательств, мы тем самым тотчас же вступаем в область обусловленного3131
Почти совершенно непонятным представляется то обстоятельство, что при критике доказательств бытия Божия так долго оказалось возможным просмотреть ту простую, понятную истину, что о бытии Бога возможно только онтологическое доказательство. Ибо, если Бог есть, то он может быть только потому, что он есть. Его существование и его сущность должны быть тождественны. Но именно потому, что доказывать бытие Бога возможно лишь, исходя из самого этого бытия, это доказательство догматизма и не есть совсем доказательство, в собственном смысле слова; предложение же «Бог существует» является недоказанным, недоказуемым, необоснованным предложением, столь же необоснованным, как и высшее основоположение критицизма: Я существую! – Но еще несноснее для мыслящего ума, когда говорят о доказательствах бытия Божия. Как будто бытие, которое может быть понятным лишь чрез себя самого, лишь чрез свое абсолютное единство, можно, подобно многостороннему историческому предложению, заключая со всех сторон, сделать вероятным. Что должны были иные испытывать, читая возвещения, вроде следующего: «Опыт нового доказательства бытия Божия»! Как будто о Боге можно производить опыты и всякий раз открывать нечто новое! Причина таких в высшей степени нефилософских опытов как причина всякого нефилософского метода, лежала в неспособности отвлекать (от чисто эмпирического); особенно же в данном случае – в неспособности к чистейшему, высшему отвлечению. Бытие Бога мыслилось не как абсолютное бытие, но как определенное существование (Dasein), абсолютное не чрез себя самого, но лишь постольку, поскольку выше его неизвестно никакого другого. Такое эмпирическое понятие образуют о Боге все неспособные к абстракции люди. Еще более укрепляла в этом понятии боязнь, что чистая идея абсолютного бытия приведет к спинозовскому Богу. Да и как мог иной философ, желавший избежать ужасов спинозизма и потому удовлетворявшийся эмпирически существующим Богом, относиться к тому, что Спиноза в качестве первого принципа всякой философии выставлял предложение, которое он сам мог лишь выставить в результате кропотливых доказательств в конце своей системы! Но он хотел также доказать и действительность Бога (что может произойти только синтетически), так как Спиноза не доказал абсолютного бытия, а просто безапелляционно его утверждал. Замечательно, что язык уже столь точно различает между действительным (Wirkliches), т. е. тем что, будучи дано в ощущении, воздействует на меня, и на что я отвечаю обратным действием, существующим (Daseyend), т. е. определенно (в пространстве и времени) существующим вообще, и сущим (Seyend), т. е. тем, что не зависит ни от какого временного определения, а есть само чрез себя. Но при таком смешении этих понятий разве можно было хотя бы только подозревать даже отдаленный смысл систем Картезия и Спинозы? Они говорили об абсолютном бытии, мы же подставляли вместо него наши понятия о действительности, в лучшем же случае – чистое, но обладающее значимостью лишь в мире явлений, вне же его совершенно пустое понятие существования. В то время, как наша эмпирическая эпоха, казалось, совершенно утратила ту идею, она все еще продолжала жить в системах Спинозы и Декарта и в бессмертных творениях Платона, как священнейшая идея древности (τò őν); но не было бы ничего невозможного в том, что наше время, если бы ему когда-нибудь удалось снова возвыситься до той идеи, в гордом самомнении полагало бы, будто до сих пор ничего подобного не приходило еще на ум человеку.
Строка 11, снизу, в оригинале стояло «грубые наши понятия». (Прим. изд. собр. соч. Шеллинга).
[Закрыть], и обратно: вступая в область обусловленного, мы тем самым вступаем в область философских проблем. Как мало понял бы Спинозу тот, кто полагал бы, будто для него вся задача философии сводилась к одним только аналитическим предложениям, положенным им в основание его системы. Читая «Этику», явно чувствуешь, какое небольшое значение он сам им придавал; его мучила другая загадка, загадка мира, вопрос: как может Абсолют выйти из себя самого и противопоставить себе мир3232
Вопрос этот умышленно нами здесь так выражен. Автору известно, что Спиноза утверждает лишь имманентную причинность абсолютного объекта. Однако в дальнейшем мы увидим, что он утверждал это только потому, что ему было непонятно, как Абсолют может выйти из самого себя, т е. потому, что этот именно вопрос он мог, правда, поставить, но не разрешить.
[Закрыть]?
Именно эта загадка гнетет критического философа. Основной вопрос его гласит: как возможны синтетические, а не как возможны аналитические суждения? Для него нет ничего понятнее философии, объясняющей все из нашей собственной сущности, ничего непонятнее философии, выходящей за пределы нас самих. Для него Абсолютное в нас понятнее, чем все другое, но непонятно, как мы выходим из Абсолюта, чтобы противопоставить себе нечто другое. Самое понятное для него, – как мы все определяем лишь согласно закону тождества, самое загадочное – как можем мы чтонибудь определять, выходя за пределы этого закона.
Эта непонятность (иррациональность), на мой взгляд, теоретически одинаково неразрешима как для критицизма, так и для догматизма.
Правда, для области опыта критицизм может доказать необходимость синтетических предложений. Однако, что это даст нам для разрешения вопроса? Я снова спрашиваю: почему имеется вообще область опыта? Как бы я ни ответил на этот вопрос, сам ответ предполагает уже существование мира опыта.
Таким образом, для того, чтобы быть в состоянии ответить на этот вопрос, мы должны были бы раньше уже оставить область опыта; но как только мы оставили бы эту область, пал бы самый вопрос. Так что и этот вопрос может быть разрешен лишь способом, подобным тому, каким Александр Македонский распутал гордиев узел, т. е. снятием самого вопроса. Таким образом, на вопрос этот нельзя дать решительно никакого ответа, ибо единственный ответ, который можно дать на него, это тот, что его более нельзя уже ставить.
Но тогда само собою становится очевидным, что такое решение этого вопроса уже более не может быть теоретическим, но необходимо должно стать практическим. Ибо, чтобы быть в состоянии ответить на него, я сам принужден покинуть область опыта, т. е. я должен отменить для себя пределы опытного мира, я должен перестать быть конечным существом.
Таким образом, тот теоретический вопрос необходимо превращается в практический постулат, и проблема всякой философии необходимо приводит нас к требованию, выполнимому лишь вне всякого опыта. Но именно тем самым она необходимо также выводит меня за пределы знания, в страну, где я уже не нахожу твердой земли, на которой мог бы прочно стоять, но где я должен сам только впервые создать таковую.
Правда, теоретический разум мог бы попытаться, оставив область знания, отправиться наугад на поиски какой-нибудь другой; но этим он ничего не достиг бы, только заблудился бы сам в суетных измышлениях, которые не привели бы его ни к какому реальному владению. Чтобы быть обеспеченным от таких приключений, он там, где прекращается его знание, должен был бы сам создать новую область, т. е. из только познающего разума он должен был бы сделаться разумом творческим – из теоретического стать практическим.
Но необходимость сделаться практическим обязательна лишь для разума вообще, а не для определенного, в рамках отдельной системы замкнутого разума.
Как бы ни были различны принципы, из которых исходят догматизм и критицизм, все же оба они необходимо должны сойтись в одной точке, в одной и той же проблеме. Только теперь лишь настало для обоих время подлинного расхождения; только теперь лишь замечают они, что принцип, до сих пор предполагавшийся ими, был не более как пролепсисом (предпосылкою), относительно которого лишь теперь предстоит высказать суждение. Лишь теперь выясняется, что все выставлявшиеся ими до сих пор положения были лишь голыми утверждениями, т. е. положениями, утверждавшимися без всякого основания: теперь, когда они вступают в новую область, в область реализирующего разума, должно открыться, в силах ли они дать реальность тем положениям; теперь лишь должно решиться, в состоянии ли они в пылу боя собственною силою своей свободы защищать свои принципы так же, как они защищали их в сфере всеобщего мира [с помощью абсолютной, не имеющей заслуг силы]3333
В скобках – слова, вставленные в 1-ом издании.
[Закрыть]? В области Абсолютного ни критицизм не мог следовать за догматизмом, ни этот не мог следовать за тем, ибо в ней для обоих возможно было лишь абсолютное утверждение – утверждение, совершенно игнорировавшееся противоположной системой, ничего не решавшее для системы противоречащей. Лишь теперь после того, как оба они встретились друг с другом, ни один из них не может игнорировать другого, и если раньше речь шла о спокойном, без всякого сопротивления добытом владении, то теперь уже владение их должно быть завоевано победой.
Напрасно думали бы мы, что одни только принципы, положенные в основание системы, решают победу, и что для того, чтобы спасти ту или другую систему, важно лишь, какой принцип выставить в начале. Тут дело совсем не в фокусе, посредством которого в конце находят снова лишь то, что в начале – не без хитрости – было приготовлено для того, чтобы быть найденным.
Не теоретические утверждения, выставляемые безусловно раз навсегда, должны принудить нашу свободу решить вопрос так или иначе (это был бы слепой догматизм). Наоборот, с наступлением спора те принципы, как они были выставлены в начале, в себе и для себя самих, лишаются всякой значимости: теперь только должно практически и с помощью нашей свободы решить, обладают ли они значимостью или нет. Скорее наоборот, – наше теоретическое умозрение путем неизбежного порочного круга заранее предпосылает то, что наша свобода будет утверждать потом, в пылу спора. Если мы хотим выставить систему, т. е. принципы, то мы можем сделать это не иначе, как предвосхитивши практическое решение: мы не выставили бы тех принципов, если бы уже раньше наша свобода не сделала своего выбора; поставленные в начале нашего знания, они суть не что иное, как пролептические утверждения, или, – как выразился однажды Якоби неправильно и весьма таки неудачно, как он сам говорит, но все же не совсем не философски – первоначальные, непреоборимые предрассудки.
Итак, ни один философ не будет воображать, будто, просто выставив высшие принципы, он уже все сделал. Ибо сами эти принципы, будучи основанием его системы, имеют лишь субъективную ценность, т. е. они обладают для него значимостью лишь постольку, поскольку он предвосхитил в них свое практическое решение.
Письмо седьмое
Я все более приближаюсь к цели. Мы скорее поймем мораль догматизма, узнавши, какую проблему надлежит ей, как и всякой другой морали, разрешить.
Главная задача всякой философии состоит в разрешении проблемы существования (Dasein) мира: над решением ее трудились все философы, как бы различно ни формулировали они даже самую проблему. Кто хочет овладеть духом какой-нибудь философии, должен здесь именно пытаться схватить его.
Когда Лессинг спросил Якоби: в чем, по его мнению, состоит дух спинозизма, то Якоби ответил: ни в чем ином, как в старом положении «ex nihilo nihil fit», которое Спиноза выставил и разобрал в более отвлеченных понятиях, нежели философствовавшие каббалисты и другие философы до него. Согласно этим более отвлеченным понятиям, он нашел, что с допущением какого бы то ни было возникновения в бесконечном полагается нечто из ничего, какими бы образами и словами ни пытались затем помочь делу.
«Он отвергал, таким образом, всякий переход бесконечного к конечному», вообще все causas transitorias и эманирующий принцип заменил имманентным, внутренней (inwohnende), вечно в себе неизменной причиной мира, тождественной со всеми своими следствиями. Я не думаю, чтобы можно было лучше схватить дух спинозизма. Но я думаю, что этот переход от бесконечного к конечному есть проблема всякой философии, а не только какой-нибудь отдельной системы, и что даже решение Спинозы есть единственно возможное решение, но что толкование, которое должна была придать ему его система, может принадлежать только ей, иная же система должна дать ему иное толкование.
«Это само нуждается в истолковании», слышу я возгласы. Постараюсь дать его, насколько буду в силах.
Ни одна система не может реализовать перехода от бесконечного к конечному, ибо простая игра мысли хотя и возможна всюду, но повсюду весьма мало дает; ни одна система не может заполнить пропасти, лежащей между обоими. Это я предпосылаю как результат не критической философии, а «Критики чистого разума», значимость которой распространяется одинаково как на догматизм, так и на критицизм, и которая должна быть очевидной равно для обоих.
Разум хотел реализовать этот переход от бесконечного к конечному, чтобы ввести единство в свое познание. Между бесконечным и конечным он хотел найти посредствующее звено, чтобы быть в состоянии связать их оба в одно и то же единство знания. Но, не имея, конечно, никакой возможности найти такое звено, разум отнюдь не отказывается в виду этого от своего высшего интереса – единства познаний, – а раз навсегда хочет не нуждаться более в таком звене. Таким образом, его стремление реализовать этот переход превращается в абсолютное требование: не должно быть никакого перехода от бесконечного к конечному. Как отличается это требование от противоположного: должен быть такой переход! Это последнее трансцендентно, оно хочет повелевать там, куда не простирается его могущество3434
В области бесконечного (дополнение 1-го издания).
[Закрыть]. Это – требование слепого догматизма. Напротив, первое требование имманентно; оно хочет, чтобы я не допускал никакого перехода. Догматизм и критицизм объединяются здесь в одном и том же постулате.
Философия, хотя и не может перейти от бесконечного к конечному, может зато перейти, наоборот, от конечного к бесконечному. Стремление не допускать никакого перехода от бесконечного к конечному тем самым именно становится соединительным звеном обоих, также и для человеческого познания. Чтобы не было никакого перехода от бесконечного к конечному, самому конечному должна быть присуща тенденция к бесконечному, вечное стремление утонуть, потеряться в бесконечном.
Теперь только ясен нам смысл спинозовой «Этики». Не чисто теоретическое принуждение, не простое лишь следствие положения ex nihilo nihil fit привело его к такому решению проблемы: нет никакого перехода от бесконечного к конечному, нет никакой транзитивной, а есть только имманентная причина мира. Этим решением обязан он тому же самому практическому голосу, что слышится во всей решительно философии, только Спиноза дал ему особое толкование соответственно своей системе.
Исходным пунктом его была бесконечная субстанция, абсолютный объект. «Не должно быть никакого перехода от бесконечного к конечному», – в этом следует видеть требование всякой философии. Спиноза истолковал его соответственно своему принципу: конечное должно отличаться от бесконечного только лишь своими пределами, все существующее должно быть лишь модификацией того же самого бесконечного; так что не должно быть также никакого перехода, никакого противоборства, а только требование, чтобы конечное стремилось стать тождественным с бесконечным и погибнуть в бесконечности абсолютного объекта.
Не спрашиваете ли Вы, мой друг, как Спиноза мог вынести противоречие такого требования? Он, правда, чувствовал, что заповедь: «уничтожь себя самого» неисполнима, поскольку субъект имел для него вообще значение в той мере, в какой он имеет значение в системе свободы. Но ведь этого именно он хотел. Его Я не должно было быть его собственностью, – оно должно было принадлежать бесконечной реальности.
Субъект, как таковой, не может сам себя уничтожить; ибо для того, чтобы он мог себя уничтожить, ему нужно было бы пережить свое собственное уничтожение. Но Спинозе совсем не был известен субъект, как таковой. Он раньше, чем выставлять тот постулат, отменил уже у себя само это понятие о субъекте.
Если субъект обладает независимой, ему – поскольку он субъект3535
В тексте полн. собр. соч. (I, I, стр. 315) стоить «объект» – очевидная опечатка. (Прим. пер.).
[Закрыть]– присущей причинностью, то требование потеряться в бесконечном содержит в себе противоречие. Но именно эту независимую причинность Я, благодаря которой оно есть Я, Спиноза отменил. Требуя уничтожения, потери субъекта в абсолютном, он вместе с тем требовал также тождества субъективной причинности с абсолютной, он практически решил, что конечный мир есть не что иное, как модификация бесконечного, конечная причинность лишь модификация бесконечной.
Таким образом, не собственною причинностью субъекта, но чужою причинностью в нем должно было исполниться это требование. Говоря иначе, это требование в сущности гласило: Уничтожь себя самого абсолютной причинностью, или: относись безусловно страдательно к абсолютной причинности!
Конечная причинность должна была отличаться от бесконечной не по своему принципу, но лишь пределами. Та же причинность, что господствовала в бесконечном, должна была господствовать в любом конечном существе. Подобно тому, как в сфере Абсолютного она приводила к абсолютному отрицанию всякой конечности, в сфере конечного она должна была приводить к эмпирическому – во времени, прогрессивно производимому – отрицанию последнего. Если бы (так принужден был он дальше заключать) – если бы это последнее отрицание когда-нибудь вполне разрешило всю свою задачу, то оно оказалось бы вполне тождественным с первым, ибо оно уничтожило бы тогда те пределы, благодаря которым оно только и различалось от того.
Позвольте нам здесь остановиться, мой друг, в удивлении пред спокойствием, с которым Спиноза сам шел навстречу завершению своей системы. Пусть покой этот он, в конце концов, нашел лишь в любви бесконечного. Кто решился бы упрекнуть его ясный дух в том, что, желая сделать выносимой мысль, пред которой остановилась его система, он прибегнул к такому образу?








