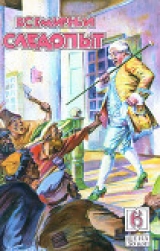
Текст книги "Всемирный следопыт, 1928 № 06"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Николай Ловцов
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
А Дун, изгнанный и окровавленный, забился в первую попавшуюся яму и лежал там, тяжко набирая воздух и глухо хрипя от боли и досады.
VI. Огненная буря.
Дун не мог сразу примириться со своим изгнанием, но знал, что в первые дни его противник будет ожидать повторных нападений и потому застать его врасплох будет трудно. Дун издали следил за стадом и выжидал подходящей минуты, Вскоре она представилась.
Как-то Дун засел с подветренной стороны около кабаньей стоянки. Счастливый его соперник находился, видимо, в самом благодушном настроении. Он гонялся за любимыми веприцами, игриво толкал их боками, в шутку наставлял на них клыки.
Пулей вылетел из зарослей гневный мститель и, прежде чем его соперник мог повернуться для обороны, он стремительным ударом сшиб его на землю. Ближайшая веприца от испуга отчаянно заверещала. А за нею взбудоражилось и все стадо. Молодые самцы не забыли побоев Дуна и скопом ринулись на него.
Поднялся невообразимый визг. Кабаны яростно наскакивали на своего прежнего обидчика. Они охватили его подковой и били справа и слева. Дун отступал и остервенело отбрыкивался от наседавших. Тем временем оправился и новичок-вожак. Он зашел Дуну в тыл. Тот в отчаянии дернулся вперед, разорвал окружение и пустился наутек. Теперь судьба Дуна была решена – он навсегда изгонялся из стада. В это время ему было без малого шесть лет.
Трудно было Дуну первое время выносить одиночество. Он ходил по пятам за родным стадом: принюхивался на свежих лежках к знакомым запахам, выслеживал своего соперника. Он не оставлял мысли еще раз сразиться с ним за свои попранные права. Но один непредвиденный случай окончательно сбил все расчеты Дуна.
Одним июльским вечером Дун, по обыкновению, после лежки опрометью несся к воде. В сухих камышах стоял проломный треск. Иногда он круто останавливался на ходу, и тогда никакое тонкое ухо не могло уловить даже малейшего шороха. Дун замирал и изучал подозрительные звуки. А потом снова шарахался срыву, и камыши вздрагивали и с треском расступались перед ним.
И вдруг Дун ощутил неприятную горечь в носу. Он остановился и потянул воздух, долго и тяжко набирая его в легкие. В нос попало что-то едкое – он отфыркнулся. В то же время в отдалении он заслышал какое-то смятение, быстро надвигавшееся на него. Камыши не просто трещали, – они выли, гудели, как скалы под гигантскими ударами отдаленного прибоя. Еще минута – и земля задрожала от бешеного топота тысячи ног. Накатывалась волна рева, треска, визга, хлопанья – какого-то всеобщего звериного переполоха. Легкий ночной ветерок становился горячее и стремительнее. В то же мгновение небо вздрогнуло и замигало всем своим темным сводом. Все чаще и чаще его пронизывали огненные; стрелы. Дун рванулся от этих ярких острий вперед и слился с общим валом звериного ужаса и безумия…
Это был пожар в камышах[77]). Если бы взглянуть на него с одного из окрестных холмов, камыши показались бы огненным морем, которое плавно разливалось вширь и вдаль. Приземляясь в середине, пламя вздымалось впереди ярким всплеском к небу и выло, поднимая бурю. Тучи золотых перьев летели вперед, зажигая все новые и новые участки сухих камышей. Огонь, как лава, обтекал темные, непроницаемые массивы тугая, но и в них с ближайшей стороны он выхватывал отдельные острова и букеты тростников. На тех местах, с которых откатывалась огненная волна, расстилались темные платы, усеянные красным мерцающим бисером искр, – можно было подумать, что небо и звезды опустились немного ниже горизонта.
Окрестности зловеще приоткрывались. Небо накалилось и рдело, как опрокинутый медный таз. Струи на левом боку Аму-дарьи покрылись золотой чешуей, и река извивалась вокруг Бурлю-тугая, как сказочный ночной змей.
Дун инстинктивно взял направление к реке. Паника была невообразимая. Звери забыли свои обычные природные счеты, все – от слабого до сильного – слились в общем порыве ужаса перед стихией.
В одном месте в сушняк врезался небольшой косяк зеленых зарослей. Дун приостановился. Зверья здесь набилось до отказа. Но скоро в этой узкой полосе трудно стало дышать, – огонь окружал ее и перекидывался дальше. Все живое ринулось снова вперед. Но теперь уж лавина неслась прямо от огня, – ближайший путь к реке был отрезан, приходилось брать наискось.
Вот, наконец, золотыми морщинами блеснула впереди одна из отмелей Аму-дарьи. Огонь сбросил живую волну в воду. Облегченно окунулся и Дун. Но он не остался в этой мелкой заводи, которая положительно кишела зверьем. Он отпрянул дальше от берега в темные и быстрые струи и, чуя впереди камыши, отдался течению.
Дун ловко справлялся с закрутями и обходил воронки, направляясь к черневшему впереди островку. Он крепко и упористо держался на воде и через некоторое время, сопя и отфыркиваясь, уже вылезал на низкий илистый берег. На островке затаенно шелестели камыши. Черные обрывы противоположного берега придвинулись в будоражливых красноватых отблесках. Огненная буря продолжала бушевать. Временами она замирала, наткнувшись на темную, непроницаемую полосу, потом, проструившись где-нибудь ручейком, Еспыхивала с прежней силой в соседнем углу. Реку затягивала молочная пелена дыма. Сильно пахло гарью.
Дун лег на противоположной от пожара стороне островка. В своем одиночестве он иногда потревоженно вскакивал, ловя звуки.
Бледнело утро. Пожарище туманно курилось. А на островке слышалось только предутреннее шушуканье камышей да легкий звон аму-дарьинской буйной струи.
VII. В изгнании.
Дня через два Дун вернулся на старые места. Но он не узнал их. Вместо густого камышового леса, по которому ветер обычно поглаживал своей задумчивой рукой, Дун увидел короткую обгорелую щетину на грязно-серой от пепла земле. Кое-где еще поднимались дымки, и пламя иногда вспыхивало одинокими языками, но. это тлел камышовый валежник, и догорали последние пучки камышей, прижавшиеся к зеленой поросли. Отчетливо обнажились мрачные очертания древесного тугая.
В лесу скопилось много переселенцев и было тесно. Но Дун не нашел здесь следов родного стада, – очевидно, в суматохе пожара оно взяло другое направление. В поисках пищи и более просторных мест Дун двинулся вдоль реки, по ее течению.
Началась для него сиротливая жизнь секача[78]). Иногда он ютился в прибрежных камышах, иногда забивался в тугай, рыл себе под кустом яму и жил отшельником.
В ноябре он приставал к кабаньим стадам, но его принимали неохотно. И плелся Дун, как бродяга, сзади или сбоку, ловя отстающих самок. А тут по осени опять загрохотали по тугаям будоражливые выстрелы. И Дун, гонимый жизненными невзгодами, шел все дальше и дальше на северо-запад…
Лицо местности менялось. Открывались необозримые пространства, покрытые щебнем с редкими пучками верблюжьей колючки или устланные белыми солончаковыми холстинами. Иногда местность прерывалась громадными дикими углублениями– балками с совершенно ровным дном, которое было зацементировано засохшим и растрескавшимся илом почти белого цвета. Это – бывшие озера. Встречались по пескам и саксауловые[79]) поросли. Но Дун держался больше берега реки, затянутого камышами. Только летом, когда он попадал в полосу кишлаков, уже за Питняком, он шел вдоль посевов, чтобы кормиться сытно, вкусно и без особых хлопот.
Заправившись джугарой и дынями и отойдя к пескам, Дун устраивался на день где-нибудь на песчаном горбе среди темно-зеленого гребенщика[80]). Звуки уходили далеко – ничто не нарушало его пустынного уединения.
Только однажды Дун встревожился не на шутку. Недалеко от его лежки грянул выстрел. Ему даже показалось, что в воздухе пронеслась ноющая струйка, которая улетела в пустыню. Дун выглянул из своего убежища.
Сквозь переплет ветвей видна была уходящая к горизонту холмистая зыбь. По ней, как грязная пена, лепились серые пятна саксаульника. В лощинках жухли кое-где пучки жалких былинок. И туда, в золото дня и песков, летели два легких серых комка. Это были джейраны[81]). А сзади них, на холме, Дун увидел рассеивавшийся дымок выстрела и небольшого человечка.
Дун долго следил за ним. Между холмов мирно паслись верблюды. Прошло часа два. Вдруг человечек пополз вперед и остановился совсем недалеко от Дуна. Охотник был еще совсем юн, почти мальчик.
И тут началось непонятное для Дуна. Мальчик встал вниз головой, а ногами начал перебирать в воздухе, изображая игрушечную мельницу. Простояв так некоторое время, он опускался на землю, а потом снова вздергивал ноги кверху и крутил ими. Дун долго не мог понять этой диковинки, пока не увидел далеко за холмами джейранов.

Пастушонок встал вниз головой, а ногами начал перебирать в воздухе, изображая собой игрушечную мельницу…
Стадо паслось, отыскивая между холмами скудные былинки. Изящные козочки были очень пугливы. Они не раз изведали коварство своих врагов. В их нервно-чутких ушах, казалось, еще дрожал грохот выстрела, прокатившийся по пустыне отдаленным эхом. Но эти пугливые животные были до крайности любопытны, что представляло их уязвимое место. На этой гибельной для них слабости мальчик-пастух и строил свою охоту. Нелепой мельницей ног он привлекал внимание любопытных козочек.
Стадо медленно приближалось. Вот от него отделилось несколько джейранов. Мальчик усиленно и подолгу вертел ногами. Солнце и труд выжимали с его лица крупные капли пота, которые глотал песок. Но едва мальчик опускался, козы подозрительно останавливались. Новое усилие охотника – и козы приближались еще на десяток шагов. Около часа продолжалось состязание любопытства и хитрости.
Но вот ближайшая – на расстоянии дальнего выстрела. Вот еще несколько шагов. Мало, – соображает мальчик, – мултук ненадежен. Голова мальчика пухнет от прилившей крови, в глазах красные и зеленые круги. Но опускаться сейчас нельзя – поймут. Ноги уже едва маячат в воздухе. Но, наконец, передняя козочка приблизилась шагов на двадцать. Быстро опускается охотник. Мултук под рукой. Несколько томительных секунд, ружье чиркает и всхлипывает. Джейраны уже взметнулись. Но гремит выстрел – и любопытство наказано смертью. Пастушонок забывает свое изнеможение и бежит к добыче. А Дун замирает в своей яме, зная, что ему не угрожает никакой опасности.
Ночь поднимала Дуна в дальнейший путь. Местами кишлаки шли густой цепью в приречной полосе, и тогда Дун забирал глубже в пустыню. Он находил здесь в каменных колодах около колодцев воду, оставленную караванами, подбирал разные отбросы на месте их стоянок. Тут же он наскоро, но с аппетитом терся о камни и лессовые[82]) обрывчики, оставляя на них клочья шерсти на удивление и догадки путников и следопытов.
Дун упорно теперь шел вперед. Подходя в некоторых местах к реке и кроясь в прибрежных зарослях, он медленно и громко тянул воздух. Он чуял впереди и большие камыши и темные тугаи.
Однажды к ночи Дун спустился в воду и долго плыл вниз по течению. Он был уже за Дурт-кулем.
В одном месте красавица Аму игриво согнула свое колено. Крутой берег, на котором расположилось старинное кладбище с мечетью и мазарами[83]) в виде усеченных пирамидок, осыпался. Мечеть стояла в разрезе, а в оборванном берегу белели скелеты. Когда Дун, подняв над водой лопухи своих ушей, проплывал мимо этого места, огромный филин бесшумно поднялся с берега и пролетел над водой, разглядывая пришельца. Но едва ли Дун обратил внимание на филина. Он боролся за жизнь, которая сулила ему новые места и новые заботы.
VIII. Шабасвалийский робинзон.
Километрах в восьмидесяти от Дурт-куля к северо-западу сверкают разноцветные мраморы Хек-тау. Этот кряж– будто бело-розовый с чернью корабль, врезавшийся в золотые волны песков. Как иллюминаторы, у его ватер-линии голубеют стекла озер. До самой Аму дошел он, но не смог спуститься в голубые воды. И навстречу ему по реке десятки уже лет плывет зеленая яхта-остров. Шумят ее густолиственные паруса, спешит зеленая яхта на помощь каменному кораблю – и крутит река за кормой у нее гневные воронки.
Это – Шабасвалийский тугай. Километров на двадцать в длину и на два– на три в ширину протянулась посредине Аму-дарьи лессовая отмель. И не приземистые запутанные заросли Бурлю-тугая, а величественные густолиственные шатры покрывают весь остров. Буреломом и топями оборвался его восточный берег. Не видно здесь признаков человечьего жилья, – пустынные места.
Но если обогнуть на каюке[84]) остров с юга и пуститься вдоль его западного берега, вскоре неожиданно наткнешься на уютную, расчищенную среди леса полянку. На полянке – идиллическая, ослепительно белая в тени украинская хата. Около нее на лужке мирно пасутся две коровы. Ближе к берегу на кольях– паутина неводов. Все здесь говорит об умелой, хозяйственной руке и наивной, но крепкой близости к природе.
Было обычно и знакомо на укромной лужайке, когда Рущуков подъехал к берегу. Четко выделяясь на темной зелени тугая, над хатой висел жемчужный столбик дыма. Те же невода, те же коровы маячили в солнечно-зеленом уголке. А вот и сам «робинзон», как в шутку Рущуков называл Ермолаича.
Ермолаич был занят доением коров. На приветствие гостя он немножко сурово прогудел:
– Здорово, землячок! – и выпрямился во весь свой гигантский рост.
Это был настоящий лесовик. Широко развернулась стальная мощь его груди и плеч. Голова буйно заросла волосами: копной они свешивались с темени, огромной лопатой прицепились к лицу и даже на бровях торчали пучками непокорной пакли. Но из этого угрюмого на вид вороха волос добродушно сверкали голубые глаза, и широкий жест правой руки окончательно располагал собеседника к этому богатырю.
Ермолаич был тамбовских земель. Еще солдатом забросила его судьба в эту страну. Пришлась она ему по сердцу, и после гражданской войны он не поехал к себе на родину. Облюбовал он себе шабасвалийское укромье и нанялся лесным сторожем на остров. С тех пор и жил здесь робинзоном-отшельником.
Хозяйство у Ермолаича спорилось. Были даже и чурки с пчелами. Дыша с природой одним дыханьем, он принимал жизнь просто, наивно мудро. Его лесная душа, казалось, растворилась в этих зеленых дебрях и упругих струях, – так спокойно и как-то сами собою текли его дни.
И только буйными мартами, когда закипает кровь у всего живого, когда и птица надсадно воркует и зверье в зарослях визжит-будоражится, как-то не по себе становилось Ермолаичу. Шел он тогда на берег Аму и слушал, глядя на потухавший запад, ее широкие шумливые песни. И мерещился Ермолаичу в пламени заката малиновый полушалок и алые щеки с далеких тамбовских земель.
Кончив доение, Ермолаич присел с гостем на скамью перед домом. Начались охотничьи разговоры. Ермолаич рассказывал о своих лесных новостях, о вылетах и заходах, о гнездах и лежках, он говорил обо всем острове так, как будто это был его огород, где он знал каждый корешок, каждую выбоинку. Вот он потянул Рущукова в сторону от дома шагов на двадцать и, наклонившись, стал показывать ему кабаньи следы. Ермолаич весь загорелся, – он ползал по земле на коленях, раздвигал траву и приговаривал:
– Ишь, куды заходил шкурец! Во, глядь-ко, как рыванул!
И глаза медведеподобного следопыта загорались детской радостью.
Потом Ермолаич повел гостя в хату чаевничать. Он, видимо, рад был в своем одиночестве человеку и торопился поделиться с ним теми могучими ощущениями природы, которыми переполнен был сам.
Через час стали собираться на охоту.
– Пули возьмем? – спросил Рущуков.
– Не, седни на кабанов не будем. Рябчик ногу подшиб, а Первак без его шалой. Без их не подымешь. Фазанов, гусей пострелям.
Пошли.
Тугай здесь высокий, как липы в русских садах. Тутовое дерево, турангыл, джида[85]), колючий кустарник пышно разрослись по острову. Хотя деревья стоят редко, но колючка местами превращает тугай в непроходимые дебри. Только ближе к жилью Ермолаича в лесу встречаются лужайки, покрытые газоном, они прибраны, колючка с них подчищена.
Охотники шли вдоль берега. Сквозь стволы деревьев голубела Аму, в ее струях играла солнечная плавь.
Фазаны не вылетали. По кызыл-аякам[86]) и кроншнепам не стреляли. Охотники решили разойтись. Ермолаич забрал глубже в лес, Рущуков шел вдоль берега.
Не прошло и десяти минут, как из глубины острова послышались частые выстрелы. Рущуков, цепляясь за колючки, ринулся на помощь. Выстрелы сразу оборвались.
Через несколько минут Рущуков выбежал на полянку. На ней лежал Ермолаич. Ружье было брошено сбоку. Сам он, закуривая трубку, тяжко дышал.
– Что? – бросился к нему Рущуков.
– Во! – только мог бросить Ермолаич, махнув рукой в сторону.
И Рущуков на другой стороне полянки увидел секача. Кабан был изрешечен. Оба глаза у него вытекли…
Посредине лужайки рос куст держидерева[87]). Он был непроницаем и четко ограничен. Сверху его осыпали белые цветы плюща, а под ним зияла дыра.
Ермолаич, отдышавшись, рассказал:
– Вышел это я сюды, гляжу – дыра. Я и загляни в ее. Кы-ык он выскочит да у меня промеж ног! Сшиб, стервец, наземь. Ну, и ништо бы! Да дернула меня нелегкая – возьми да и пальни ему в зад. Это дробью-то! Он и повернул. Я от него за куст, он за мной. Кружить-то ему несподручно – хребтина не пускат. Нацелится он да, как бес, на меня по прямой! Ну, я покруче забираю за куст. А сам к а бегу патроны взоставляю да палю взад. Так и кружились округ куста, пока ему всей морды не разворот йл. – И Ермолаич сокрушенно добавил: —Ну, скажи на милость, зачем я стрелял? Он наутек, а я его дробью. Вот дурень!..
Ермолаич досадовал на себя за то, что погорячился. Его, видимо, смущала мысль, что он так врасплох встретился со зверем и так постыдно, по-мальчишески бегал от него.
Рущуков подошел к кабану. Не подозревал он, конечно, что не в первый раз встречается с ним. Несколько лет назад этот кабан ловко ускользнул от него в Бурлю-тугае. А теперь он лежал перед ним мертвый.
Да, это был Дун. Вся его морда была залита кровью, из оскаленной пасти торчали свирепые серпы клыков, огромное тело, разметавшееся в смерти, как-то неестественно подвернулось и было смешно и неуклюже на вид.
– Как же мы его потащим? – крикнул Рущуков Ермолаичу.
– Да бодай его к чорту! – огрызнулся было тот, но через минуту начал все-таки свежевать тушу и вырезать окорока. И уже дорогой, нагрузившись мясом, он все сокрушался:
– Ну, зачем я стрелял, лешева голова?
А ночью, когда луна облила желтым маслом густолиственные шатры тугая, Рущуков вышел из хаты. Аму звенела, как приглушенная струна кобыза[88]). Из глубины острова неслись пронзительные надрывные звуки. Они начинались обычным человеческим плачем, потом утончались, вибрировали, переплетались и кончались тончайшим, за сердце хватающим визгом. Это шакалы справляли поминки по Дуну…
Рущукова передернуло от этих ночных песен, и он вернулся в хату.


КИТОВЫЕ ИСТОРИИ
На китовых пастбищах
Рассказ М. Петрова-Грумант
После жестокого шторма, целую неделю гулявшего на водах Ледовитого океана, наступил штиль.
Белая летняя ночь; торопливо уходила, как будто не веря в покой океанской пучины. Солнце огромным ковшом, наполненным жидким золотом, опрокинулось на краю горизонта и разлило по морю червонный металл. Проснувшийся океан, словно расправляя стесненную панцырем грудь, с каждым вздохом сгибает стеклянную гладь воды.
Упрямо уставясь тупым носом бугшприта в пылающий заревом север, пересекает хребты мертвой зыби моторная шхуна «Песец». От крутых скул ее корпуса с веселым лепетом разбегаются вспененные волны, и она, уверенно взбираясь на кручи, режет острым форштевнем[89]) их бархатистую целину. С высоких мачт свисают беспомощно холщевые стены парусов. Влажные от ночного тумана, они тяжело и лениво вздрагивают в такт качке судна и заставляют скрипеть такелажные блоки. Жалобой на усталость и боль ран, полученных в схватке с бурей, раздается их скрип.
Под гордо выгнутой палубой четко бьется железное сердце шхуны – мотор. Из трубы глушителя вырываются дымчатые кольца газа. За ними беспрерывно, один за другим, улетают вдаль порывисто-четкие звуки. Дрожит палуба. Неутомимый винт дрожит за кормой. На иглистых пиках мачт, словно пульс, замирают удары мотора, а слезливая жалоба такелажа глохнет в бодрой, звенящей песне машины.
На развернутом по палубе парусе, греясь в косых золотистых лучах солнца, отдыхают люди экипажа. Чувствуя тяжесть перенесенной бури и бессонных ночей, все-крепко уснули. Лишь машинист, борясь с набегающим сном, смотрит за работой мотора, да рулевой, окаменело уставясь на картушку компаса, машинально крутит штурвал.
С зыби на зыбь, словно с горки на горку, убаюкивает людей плавная качка. Даже рыжая кошка Фроська, приснастившись на парусе у кока[90]) в ногах, спит безмятежно. Пропахшая и засаленная жиром куртка кока отдает острым запахом кухни, и Фроська с задорным урчанием шевелит и топорщит усы. Должно быть, сладкие сны тревожат ее: жмурясь и вытягивая лапки, жмется она к засаленному сапогу. Вдруг она вскакивает, дугой выгибает спину, взъерошивая шерсть и запуская острые когти в полотно паруса; она готова броситься на невидимого врага. Но, постояв настороженно с минуту, Фроська кружится, высматривая местечко поудобнее, ложится и, снова мирно мурлыкая, спит. Улеглась шерсть, убрались в мягкие бархатистые лапки крючки когтей, только пушистый хвост, словно встревоженная змея, крутится, сгибаясь волнами, и нетерпеливо стучит о парус. Вот он вытянулся, изогнулся, метнулся в сторону, коснулся носа кока…
– Тьфу ты, окаянная! – сплевывая и сонно сопя, заворчал разбуженный кок Исачка и хотел было дать шлепка озорной Фроське, но, успокоившись, шутливо проворчал:
– Ты, Хрося, не балуй! – и, лениво зевнув, снова закрыл глаза. Но спугнутый сон не возвращался уже к нему.
Огненный шар солнца давно уже оторвался от горизонта и плывет высоко над сверкающим краем водяной пустыни. В его лучах побледнели нежно-розовые краски, ярче вспыхнули блики на рябой поверхности зыби.
– Солнышко на ели, а мы еще не ели[91]), – с шуткой поднялся кок с палубы и зевая поплелся на нос судна.
Его маленькая, с осунувшимися плечами фигурка юркнула в низенький кап крохотного камбуза[92]), и оттуда скоро послышался звон посуды, а из жестяной трубы, торчавшей над капом, поплыл крутящейся прядью дымок.
Лишенная теплого места у поварских ног, кошка вертелась перед кухней.
– A-а… Ахросинь Иванна!.. Просим милости к нам в балаган, – певучим говорком рассыпался кок, открывая дверку камбуза.
Из дверки потянуло едким чадом коптящей каминки, и кошка, брезгливо фыркнув, отскочила прочь.
– Не ндравится? – лукаво ухмыльнулся кок, выглядывая из дымных потемок камбуза.
Вдруг он, словно ужаленный, подпрыгнул на месте, и глаза его, направленные на вершину мачты, застыли на бочке[93]).
Там, на ее борту, прислонясь головой к стволу мачты и бессильно опустив руки, крепко спит вахтенный матрос. Зрительная труба балансирует на коленях спящего, готовясь соскользнуть на палубу. Голова матроса, порой отделяясь от мачты, клонится книзу.
– Сейчас грохнется… – сквозь судорожно сжатые губы прошептал кок и бросился к мачте.
Проклиная свою старость, он стал неуклюже и торопливо карабкаться на ванту.
– Эх, упадет… Не доберусь… Крикнуть бы…
На мачте чувствительней мертвая зыбь. Высокий корпус, качаясь, баюкает. В чистом солнечном воздухе дышится легче, и сон вяжет все тело мягкой веревкой, отнимая последнюю волю. Еще взмах– и вахтенный сорвется на палубу. Зрительная труба подползла уже к самому краю… Тревожно блеснувшее солнце отразилось в ее медной оправе… Но жилистые, махоркой прижженные пальцы кока почти на лету подхватили скользивший цилиндр.
Обхватив обеими руками спящее тело, кок с силой оттолкнулся назад и, рискуя сорваться с края узкой площадки, опрокинул матроса в бочку.
Внезапно хлынул дождь. Он продолжался не больше минуты. Сверкающим, как бриллиантовая россыпь, каскадом, огромным столбом прошел он от мачты, рассыпался на кливерах, вспенил море перед носом шхуны и пропал…
– Кит! – одновременно крикнули матрос и кок.
От носа «Песца», разворачивая складки зыби, уходило огромное животное. В нежных красках расплеснутой воды темнела глянцевитым отливом кожа и, как винт парохода, будоражил спокойную воду широкий ласт. Вот на высоком гребне волны обозначились бока кита. Крутой поворот в сторону – и уже далеко от судна плыла зарывавшаяся в зыбь громада его туши. Новый фонтан, с шумом взметнувшийся в воздухе из ноздрей кита, бурным ливнем упал в море…
Экипаж «Песца» весь на ногах. Старшина промысловой артели, плотный, широкоплечий помор, крепко ступая, словно впиваясь в палубу кривыми ногами, шаром катится по судну. Его хриплый голос лязгает то на корме у рулевого колеса, то в машинной, то неожиданно раздается на баке среди кучки матросов, возящихся с гарпунной пушкой, сердито поглядывающей своим медным рылом на морскую синь.
– Не так крутишь, – оборвал он матроса, укладывавшего спиралью стальной тонкий трос. – Пеньковый – по солнышку, стальной – против, – и, показав матросу, как нужно закидывать петли троса, он торопливо подбежал к пушке.
– Хорош!.. – одобрительно проговорил он, пытливо оглядывая настороженный ствол.
Из тупого рыла пушки жутко торчало острое жало гарпуна. Отточенная сталь горела синеватым блеском, и спираль тонкого троса, свернутого в кольца за рамой лафета, как змея, приготовила страшный бросок.
Голубая пустыня океана оживилась внезапно появившейся стаей птиц; крикливые чайки и грузные бакланы носились над волнами. Хлопая крыльями, бросались они с высоты в воду и, подцепив хищным клювом добычу, улетали туда, где на полосе горизонта выступали вершины пловучего льда.
Столпившись на баке, матросы с любопытством следили за охотой нырявших птиц.
– Мойва[94]) идет, – проговорил пожилой помор, вглядываясь в воду. – В этот год запоздала, надо бы по весне ей подняться.
Он приготовился было рассказывать что-то, но вахтенный, сидевший в бочке с подзорной трубой, закричал:
– Зверь!.. Слева юровой[95]), справа сонный! Вороти направо!..
Матросы мигом заняли свои места, судно легло поперек зыби и, покачиваясь с бока на бок, пошло по указанию вахтенного.
На носу у пушки застыли в настороженном оцепенении старшина и гарпунщик.
Слегка опаленное океанской ветреницей лицо гарпунщика Яна стало точно высеченным из серого камня. Нижняя челюсть подалась вперед, нос заострился, а плотно сжатые губы напряженно замкнулись. Лишь в глубоких прорезах глаз, словно льдинки, засветились голубым холодным блеском две лучистые точки, в которых отразилась игра изумрудных волн.
Шхуна тихо скользит. Впереди, мирно покачиваясь на волнах, распласталась грузная туша кита. Словно греясь в млеющей над океаном солнечной мари, крутым завалом поднялась спина животного. Над нею с криком носятся чайки. Издалека видно, как слетаются они на темное пятно, соскучась по твердой почве, но, покружась, пугливо отлетают прочь от качающейся туши, и сильнее звучит их крик, похожий на плач ребенка…

Впереди, мирно покачиваясь на волнах, распласталась грузная туша кита…
Судно приближается к зверю. Застопоренный мотор прекратил свой звенящий стук, и оно, разогнанное быстрым ходом, бесшумно надвигается на жертву.
Старшина беспокойно ткнул локтем Яна. Ему казалось, что шхуна вот-вот скользнет под уклон зыби, и острый штевень[96]) уткнется в кита.
Но Ян, не отрывая глаз от отливавшей блеском, спокойно лежавшей громадины, прошептал:
– Приготовь второй гарпун с дюймовым тросом! – И, нагнувшись над пушкой, замер.
Видно было, как его глаза бегали быстро с конца гарпуна к цели и обратно, и на скуле окаменелого лица нервно дергалась жилка. Крепкая, как железные клещи, рука оборвала нить запальной трубки. Гулко грянул пушечный выстрел, и спираль стального троса, развернувшись, взметнулась за борт.
Крик радости сорвался с мачты. Перегнувшись через край бочки, вахтенный одобрительно кивал головой.
Когда рассеялся пороховой дым, все увидели, что метко пущенный гарпун до конца впился в тело животного и сильно отброшенный трос, захлеснувшись через спину, свился в кольцо.
Быстро заряжена пушка, и стальное жало нового гарпуна торчит уже из ствола. Ян целится, и опять вместе с гулом выстрела шипит змея крутящегося троса. А с мачты на палубу слетает восторженный крик вахтенного.
Запенилась зыбь… У боков кита зачастили волны, широкий хвост взметнулся над водой, глощно ударил, поднимая каскады брызг.
– Трави! – зычно крикнул старшина матросам, набиравшим бухты[97]) тросов.
Кит ушел в глубину… Натянулись, как струны, оба стальных троса.
– Стой!.. Крепи!.. – командует старшина.
Матросы поспешно крепят концы. Стальные тросы впиваются в деревянный планшир[98]). От его кромки с дымом отлетают щепы, борт скрипит, и судно кренится набок…
– Уйдет, злодей… Трави по малу!.. – озабоченно бросает матросам старшина.
Матросы слегка сдают трос. Судно как будто выпрямляется, но снова нажимают на планшир туго натянутые тросы, и борт еще сильнее зарывается в волны.
– Чорт с ним!.. Крепи на мертвую!.. – злобно сплюнув, бросает старшина и, подбегая к борту, с тревогой глядит на готовые оборваться тросы…
Охваченный оцепенением экипаж ждет, чем кончатся усилия подводного богатыря. Палуба накренилась, в полупортики[99]) заглянула, словно любопытствуя, вода, а желтая Фроська, задрав хвост, шмыгнула под шлюпку и оттуда, уставясь горящими точками глаз, смотрит с ужасом на ползущую по палубе воду…
Вдруг на кромке планшира бессильно ли внезапно ослабевшие тросы, наклонившийся борт поднялся, и шхуна, словцо человек, сбросивший с плеч тяжесть, облегченно тряхнула всем корпусом.
Старшина подбежал к борту и, потрогав рукой слабо болтавшийся трос, упавшим голосом прохрипел;
– Оборвал… ушел…
Матросы принялись выбирать снасти.
– Разве удержишь такого чорта! – рассуждал пожилой помор.
– Где там! – отозвался другой и, хмурясь на неудачу, пошел выбирать трос.
– А ты чего тут крутишься без дела? Помогай!.. – сердитым окриком на подвернувшегося кока отвел старшина душу.
Исачка осклабился, выпучил глаза, затряс бороденкой, передразнивая старшину, и, ворча под нос, нагнулся над спутанным тросом. Потянул за одну петлю, потянул за другую и, убедившись, что надо трос разбирать с конца, шагнул в середину бухты. Но не успел он дотронуться до снасти, как ее путаница, словно куча змей, разом зашевелилась и с шумом шмыгнула стремительно за борт…
Матросы испуганно разбежались.
– Беги! – загремел чей-то голос в ушах Исачки.
Но не успел Исачка убежать, как ноги его сдавило будто клещами. Исачка упал. Сверху легла на него заметнувшаяся петля стального троса. Его отчаянный крик прорезал жуткую тишину… Бессильно взмахнули над бортами судна руки, мелькнула в воздухе засаленная куртка и скрылась в волнах…








