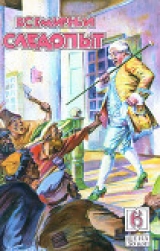
Текст книги "Всемирный следопыт, 1928 № 06"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Николай Ловцов
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Первые дни Ичке совсем не оставляла своего нежно любимого семейства. Она извелась и обвисла. Только на третий день она вылезла из логова, чтобы вырыть поблизости несколько кореньев и проглотить пару-другую червей. Потом она делала так каждую ночь.
Сидя в яме, Дун смутно чувствовал, что там, наверху, находится иной, огромный мир. Оттуда доносились непонятные звуки, туда уходила его мать. Было в этом и жуткое и непреодолимо влекущее.
И вот, на десятую ночь, Дун, презрев запреты матери, в ее отсутствие полез из ямы наверх. Он разворошил сбоку камыши, и вскоре над краем логова показался его нос. Это была для Дуна потрясающая минута – он в первый раз. увидел мир.
До сих пор в отверстие гнезда он различал вверху лишь клочок чего-то далекого, которое делается то ярким и заплетенным в решотку, то темным с золотыми и, казалась, живыми точками. Теперь все это отрывочное и таинственное сомкнулось и связалось в единое – величественное и бескрайное.
Он увидел над собой густой шатер тугая, сквозь который тянулись к нему бесчисленные золотые нити звезд. Тысячи звуков – завывающих, мяукающих, лающих – наполнили уши Дуна смятением. Во тьме что-то шуршало, потрескивало, двигалось. Природа набухала мартовской буйной силою, даже тугаи она окутала благоуханным медом цветения. Дун упоенно потянул носом, и по телу его пробежала неизъяснимо сладостная волна, которая налила каждый мускул чем-то упругим. Радостно визгнув, как бы приглашая тем оставшихся за собой, Дун лихо выпрыгнул из ямы.
Вскоре все юное общество было наверху. Оно визжало от возбуждения и восторга перед таким чудесным открытием. Да, здесь было где разгуляться! Можно и разбежаться, и брыкнуть, и перевернуть сразбега своего братишку, можно отбежать в сторону и глядеть в темные глубины тугая и ловить напряженным слухом его ночной говор.
Вой, взвизги, хрюканье доносились из таинственных недр зарослей, и среди этого многоголосого хора откуда-то издалека лилась нежная, плачущая мелодия.
Вот она вспыхнула ближе, перешла в глухие, низкие стоны и сразу оборвалась.
Стадо юнцов продолжало бесноваться. И вдруг в черни зарослей Дун заметил две круглые золотые звезды. Они тихо подвигались по направлению к веселой компании. Необъяснимый ужас налил все члены Дуна. Он сумасшедше взвизгнул, инстинктивно бросился к логову и там зарылся в камыши. За ним последовало и все стадо.
Но было уже поздно. Ловкий кара-кулак[63]) темной дугой метнулся из кустов и опустился на одного из отставших весельчаков.

Кара-кулак – степная камышовая рысь.
Смертельный визг огласил ночь, холодной судорогой прокатился он по спине забившегося в камыши Дуна и мгновенно оборвался.
Не прошло после этого и минуты, как послышался отчаянный топот и проломный треск в тугайных зарослях. Это обезумевшая Ичке неслась на помощь своему погибавшему детенышу. Она уже узнала врага и неслась за ним по кровавому следу. Чуя за собой кабанью ярость, кара-кулак, не выпуская добычи, ринулся на дерево. Оттуда он по заплетенным сучьям перебрался на другое дерево и, прижавшись к толстому суку, замер.
Через мгновение Ичке была уже у дерева и сразмаху встала, как вкопанная. След ушел кверху. В бессильной ярости она металась вокруг, ломая кусты и разрывая нависшие канаты лиан. Она неистово подкапывала дерево, обрызганное кровью ее детеныша, рвала зубами землю и издавала отрывистые харкающие звуки. Кара-кулак не выдал себя ни единым звуком.
Но вдруг Ичке застыла на месте и, словно осененная новой мыслью, ринулась назад, к логову. Там она едва собрала забившееся в камышовый настил, насмерть перепуганное свое семейство. Она ласково ткнула в каждого детеныша. носом, как бы пересчитывая их, и, не досчитавшись одного, снова метнулась из гнезда. Но скоро она приплелась – вялая, обессиленная горем.
А под утро ей все снился потерянный, и она тяжко вздыхала басовитым своим нутром…
II. Первые уроки.
Прошло уже две недели, как Дун увидел свет. Ужас после первого выхода из логова скоро сгладился, и теперь Дун никак не желал ограничиваться тесной ямой – его неудержимо тянуло наверх. Ичке учла настроение молодежи. и решила, в первый фаз вывести свое многочисленное семейство на прогулку. К ночи она пригласительно хрюкнула и вылезла из гнезда.
Шествие представляло из себя радующую картину. Впереди – огромная веприца-мать, а за ней – с десяток шустрых зверьков, уморительно разрисованных: бурые спины у них были прострочены телеграфными цепочками черточек и точек.

Ичке решила вывести в первый раз на прогулку свое многочисленное семейство…
Вся эта пестрая компания вела себя самым непринужденным образом. С визгом и хрюканьем неуклюжие зверьки носились друг за другом, выкидывая различные угловатые штуки. То рассыпались в разные стороны, как горох из лопнувшего мешка, то снова грудились, то, подражая матери, тыкались носом в землю, пытаясь копать. Восторгу и забавам не было конца. Временами они теснились к матери, путаясь у нее в ногах, и принуждали ее остановиться, требуя, чтобы она дала сосать. А потом– снова взапуски…
Ичке шла настороженно. Спустилась ночь. Тугай наполнился звуками и враждебной тайной.
Но вот заросли поредели. Вскоре семейство вышло к небольшому озерку. Собственно, это было даже не озеро, а большая лужа, заросшая камышами.
И что только тут творилось! И справа и слева рывками носились темные туши кабанов, визжали, харкали, хрюкали. Кругом стоял треск камышей. Слышались заливистые усердные рулады шакалов. Доносились и тысячи других голосов, которое дрожали, переливались, сталкивались и замирали в ночном звездоточивом воздухе. В стороне сторожко пробирались к водопою козы и олени.
Ичке при виде воды тоже оживилась и, взбороздивши жидкий ил, с упоением зарылась в него. Дун хотел было последовать ее примеру, но у него ничего не вышло, и он только забил себе грязью нос. Однако он все-таки присел подле матери, ловя на себя комья грязи, которые летели с нее. Вскоре все семейство с увлечением барахталось в мелкой луже. Это был первый урок купанья.
С тех пор Ичке каждую ночь водила свое стадо купаться. Оттуда шли бодрые, освеженные. Ичке по дороге кормилась: Дун видел, как она ловко наскакивала на лягушек, мышей, придавливала их тяжелым копытом и немедленно проглатывала. Дун и сам ловчился подражать матери. Сначала у него выходило плохо: поймав длинного червя и не сумев его заглотать, он обычно отчаянно верещал, так как тот щекотал ему глотку. Ичке его выручала.
Но еще чаще приходила к нему на помощь другая заботливая и могучая мать – природа. Она раскрывала ему лесные и камышовые тайны, она посылала ему навстречу тысячи существ, которые или убегали или нападали на него, она таинственно намекала ему, когда грозила опасность, языком крови и смерти она рассказывала ему о жизни и ее законах. И уроки ее подчас были потрясающи…..
Как-то, подходя к обычному месту купанья на озерке, семейство Ичке заслышало впереди отчаянный переполох. Как большие серые пружины, вылетели из камышей обезумевшие козы, прядая над кустами метра на два кверху. Вслед за ними на полянку с дребезжащим, судорожным криком выскочила и последняя, но она тотчас же споткнулась и рухнула на передние ноги. На ее шее, около затылка, висело гибкое пятнистое тело. Это был леопард. Он вгрызся в мускулы животного и, тихо и кровожадно урча, пил его кровь, пока тело жертвы замирало в последних судорогах. Потом хищник вырвал несколько кусков мяса из брюха животного и через несколько минут, сыто облизываясь, ленивыми движениями скрылся в зарослях.
А когда выводок возвращался с купанья, уже целая стая шакалов облепила труп козы; они жадно отрывали от него куски мяса и при малейшем подозрительном звуке отпрядывали в стороны…
Еще когда Дун сидел под кустом, затаясь от леопарда, он чувствовал, как, несмотря на страх, в нем что-то просыпалось и заострялось. В окружающей жизни он постепенно улавливал простой, но суровый закон. Однако эти первые уроки не всегда проходили гладко.
Однажды на прогулке Дун был особенно резв и задорен. Он щипал своих сверстников за хвост, заглядывал в звериные норы, забивался под корни и камни. Он всем хотел показать, что ему хорошо живется на свете и что он ничего не боится.
Но в одном месте, остановившись на камышовом валежнике, он вдруг почувствовал, что под ним что-то забарахталось, задвигалось. Через минуту из-под валежника выскочил еж, который, отступая, свирепо шипел. Этот уморительный серый зверек – такой маленький и такой грозный – заинтересовал Дуна. Он бросился за ним, чтобы поближе познакомиться, и ткнул в него носом. Еж мгновенно сжался в клубок, колючки его ощерились, вздрогнули и впились Дуну в нос. Удалец отчаянно заверещал и, позабыв о своей храбрости, пустился наутек. И через минуту, плаксиво подвизгивая, он жаловался матери на несправедливость судьбы. Ичке сначала недовольно выговаривала своему любимцу, а потом, в знак прощения, лизнула его в окровавленный нос.
Но огорченья скоро забывались. Дун с каждым днем крепчал. Белые строчки на его спине постепенно бурели. Его инстинкты изощрялись. Перед ним открывалось суровое поле жизни.
III. Садыварская излучина.
Между станцией караванной дороги Джегербент и селением Сады-вар Амударья делает крутую излучину. Ее голубое лицо в этом, месте покрывается оспинами островов и отмелей. Упершись упругим плечом, она веками отодвигает правый берег в пустыню. И только теснина Дуль-дуль-атлаган надевает на нее не надолго свой каменный ошейник. Ширина русла тут всего пятьдесят метров.
Столовидными навесами оборвался здесь правый берег. Разноцветно тускнеют в разрезах известняки, мергели[64]), зеленые глины и красноватые песчаники. А дальше, в глубь страны – зыбучее море песков и раскаленные просторы Кызыл-кумов.
На левом берегу, в излучине Амударьи, как в горсти, – многоверстный ворох зарослей и стекляшки озер. Мрачно, черно насупился Бурлю-тугай; среди лесных дебрей, как охра на темном фоне картины, желтеют острова и клинья камышей.
Но пустыня напирает и здесь. В некоторых местах тугай расступается, и барханы[65]) Кара-кумов подходят вплотную к Аму, а при малейшем ветерке дымятся и ссыпаются в реку песчаными каскадиками.
В тугаях, в камышах, на воде привольно всякой птице и всякому зверью. Озера в некоторых местах кишат живностью, они черны от разных утиных, куриных и Куликовых пород, а среди них огромными белыми лилиями плавают стаи лебедей, пеликанов, пасутся колпицы[66]) с лопатообразными клювами, белые цапли, изящные фламинго цвета утренней зари. Все это пернатое царство копошится, перекликается, чавкает, булькает, – над озерами стоит шум, который похож издали на праздничное ликование большого города. А сверху беркуты и орланы по-хозяйски оглядывают окрестности и кричат, словно дергают за металлическую пластинку.
К ночи из камышей, из зарослей крадется четвероногое зверье: шныряют волки, лисицы, шакалы, ластится кара-кулак, ломятся кабаны. Птичьи хоры сменяются звериными.
Кабанья здесь видимо-невидимо. Да и как ему не плодиться! Мокрого места много, хищник ему опасен лишь в ранней молодости, а на взрослого кабана не любит нападать даже и джул-барс[67]).
Крепко досаждает кабанье местному жителю. Нет с ним никакой управы! Как только поспеет джугара[68]), а на бахчах набухнут дыни и арбузы, кучами поналезут кабаны к кишлакам[69]). И нет никакого сладу с непрошенными гостями.
Кишлак Сады-вар зарылся в зелень. В полдневную солнечную плавь не слышно здесь жизни: она изнемогает под навесами, под деревьями, в крытых двориках. Но чуть небо отведет свой огненный зрачок к западу, из кишлака несутся меланхолические скрипы арбы, редкие выкрики, ленивые перебранки собак– звуки медлительной жизни. Стайки горлинок кружатся около жилья, и густыми струйками растекаются по окрестностям их мелодические упреки:
– У-гу-гу! У-гу-гу!
И откуда-нибудь, с танапа[70]), окруженного пирамидальными тополями, или из-под зеленой шапки сада – в вечерний краткий час вторят горлинкам человечья тоска и решимость.
«Милый! иду в твой дом, – говорят звуки. – Из-за тебя постигла меня печаль. Я открыла свою паранджу[71]), чтобы иметь человеческое лицо. И за это меня проклял мой отец. Я для тебя иду далеко, как за горы, но ты дашь мне счастье и прохладу сада. И, когда ты спросишь мое имя – скажу: я твоя ласточка, твоя Карлыгаш…» Звуки тают, и чуют кабаны, что теперь скоро, что это прозвучали предвестники ночи. Кабаны терпеливо дожидаются урочного часа. Они недалеко. На ближайшем холме, тускнеющем пожелтевшей колючкой и жухлыми кустами, они вырыли себе большую яму и головами к средине лежат в ней неподвижно.
Среди этой теплой компании находился и трехгодовалый Дун. Это был теперь крепкий молодой зверь. Серовато-бурая щетина на хребте у него начала уже грубеть. Из-за щек пробивались клыки. Коричневатые маленькие глазки смотрели внимательно и понимающе.
Но вот первый вздох обессиленной солнцем земли пронесся легкой прохладой. День стремительно сгорал в далеких песках. С неба замигали длинные и сначала нерешительные ресницы звезд. Кабаны облегченно ухнули своими гулкими утробами и вылезли из ямы.
Сначала стадо направилось к арыку[72]) и приняло освежительную ванну. Правда, вода была теплая, но все же она смыла большую часть дневной истомы. После этого кабаны вломились на бахчи.
Дыни и арбузы соблазнительно бледнели на земле матовыми пятнами. Дун, предвкушая лакомые куски, удовлетворенно хрюкнул и пошел крошить: эта дыня не дошла, эта мелка, у той бок подгнил. Он выбирал только крупные спелые плоды и не столько ел, сколько портил. Целые углы, целые полосы на бахчах мялись, обгладывались, смешивались с землей. Кругом слышалось смачное чавканье и треск разбиваемых плодов.
Собаки кишлака чуяли кабанов и заливались лаем, но подойти близко не смели. Дун и его сородичи не выносили собак. Это были их заклятые враги. И если какой-нибудь шалый пес забегал на бахчи, он оттуда уже не возвращался. Кабаны яростно налетали на него и рвали его в клочки.
С досадой и болью смотрел Гюн-дагды на свое поле. Каждая ночь оставляла в нем тропу из крошева: валялись разбитые дыни, корки, ослизлая мякоть. Гюн-дагды был в отчаянии. Но охотиться он не любил и не умел. Птиц и человека он отгонял от своих посевов тысячелетней пращой.
Тогда-то Гюн-дагды и вспомнил про дедовский мултук[73]). Это была целая пушка, основательно порыжевшая под спудом. Гюн-дагды забил ее глотку непомерным зарядом и, едва ночь задернула свои темные занавески, вышел на задворки кишлака.
Но напрасно Гюн-дагды ночью пошел на свое поле.
Он встал среди своих посевов на глинобитный постамент и ждал. И вот, когда он заслышал, как разбиваются труды его рук, обида закипела в его сердце. Гюн-дагды направил в темную тушу свою пушку. Самопал заскрипел, чиркнул и, наконец, ахнул своей огненной глоткой. Ночь раскололась надвое. Небо вспыхнуло молнией, и земля застонала.
Свинцовый комок, вылетевший из огненной пасти самопала, угодил в Дуна – он сорвал ему на спине кожу. Дун рассвирепел. Он ринулся на Гюн-дагды, сшиб его с ног и, прежде чем тот опомнился, стал наносить ему клыками страшные удары в бок и спину. Он яростно ломал ему ребра, рвал тело, топтал грудь и живот. Подбежало и еще несколько кабанов. Гюн-дагды потухавшим сознанием ловил над собой остервенелый кашель и хрип. А потом все кончилось…

Дун ринулся на Гюн-дагды и стал наносить ему клыками страшные удары..
На утро вместо Гюн-дагды на его поле нашли кучу развороченного мяса и костей.
Не раз население обращалось в свой областной центр с жалобами на кабанов и с просьбами прислать охотников, чтобы разогнать этих напористых ночных гостей. И вот однажды, уже в' ноябре, перед вечером на дороге из Дурт-куля показался конный красноармейский отряд. Кишлаки уже осведомились о цели его путешествия и провожали его благодарными взглядами.
Страна ищет защиты у своей армии не только в кровавую военную пору, но и в мирное время, она ждет от нее помощи даже в повседневных своих трудах и заботах жизни. И красноармейским отрядам в далеких уголках советской страны нередко приходится перелаживаться из воинских частей в охотничьи команды…
IV. Кабаний гон.
Во главе отряда стоял Разгонов, отважный вояка, но неумелый охотник; зато среди красноармейцев были такие звероловы и следопыты, как Ермаков, Удовенко, Письменный, – они знавали охоты и на Урале и на Куре. Были с ними и собаки.
Отряд подъехал к Бурлю-тугаю. Тугай был темен, но невысок и в этот предвечерний час затаенно молчал.
Ермаков повернулся вполоборота к Рущукову– помощнику командира, молодому малому, у которого шлем был залихватски сдвинут на затылок.
– Пошлали бы наш троих, – как всегда степенно и немного шепелявя предложил Ермаков, – мы бы пошукали[74]) чего что, еш ли кабаны в тугае.
Предложение было принято и разведка выслана. Остальные поехали по дороге, которая шла по опушке тугая, а справа в огненное море заката уходили песчаные горбы и перевалы.
Вскоре из тугая донеслись выстрелы.
Отряд, загибая постепенно влево, въехал на бархан, который свесился в Аму-дарью. Пески, тут вклинились в тугай и разрезали его массив на две части: северную – сухую и южную – мокрую.
Здесь отряд поджидал Ермакова с товарищами.
И только в сумерках показались из тугая всадники. У двоих из них за седлами болталось по кабану.
Пошли расспросы и рассказы.
А Разгонов-командир хвастливо пренебрегал.
– Что два – мы сорок семь убьем! Это разве охота? Это – чорт-те что! Мы завтра по всем правилам искусства.
И на ночлеге, на станции Джегербент, водя пальцем по столу, чертил план охоты и объяснял: тут будут кабаны, тут загон, а здесь стрелки.
На другой день еще до зари команда вырыла окоп на склоне бархана. Стрелки засели в него и замаскировались. Окоп был обращен к югу, к мелкой поросли и камышам, которые затянули широкую болотистую долину. Вся она с бархана была – как на ладони.
Разгонов заранее предвкушал свой триумф. Он уже видел в воображении, как кабаны по одному, по два выскакивают из зарослей и тут же падают под смертельным обстрелом из скрытого окопа – все сорок семь штук! А Ермаков, глядя на него, кривил губы.
Но вот загонщики загукали, засвистели издалека. Их голоса глухо тонули в предутреннем мареве. Но постепенно они яснели. Темные стаи потревоженной птицы, грязнившие алую застреху неба, указывали стрелкам местонахождение загонщиков. Все ближе и ближе… Сердца охотников забились упруго. Вот, поджав хвосты, стороной прошмыгнуло несколько шакалов. Голоса загонщиков наседали. Вот-вот вырвется лавина кабанов. Но прошло несколько напряженных минут– и с болота вышли люди. А кабанов – как не бывало!..
Смешливый Удовенко не вытерпел, ткнулся длинным своим носом в насыпь и залился:
– О-о-хо-ха-хо! Вот это так да! Окопались на басмачей[75])! Хо-хо-хо!
Разгонов рвал и метал. Он кричал, обвинял всех, кроме себя. И, наконец, снова послал загонщиков заходить по болоту. А Ермаков тем временем предложил Рущукову опять «пошукать». Разгонов, недоброжелательно глядя в сторону, отпустил восемь человек.
Они быстро вскочили на коней и направились в северный массив Бурлю-ту-гая, чтобы не мешать оставшимся. Взяли с собой и собак во главе с Нальчиком.
Команда постоянно держала при себе небольшую свору, собранную усилиями красноармейцев-охотников. Кольчик – помесь костромской гончей с лягашом– был признанным вожаком всей своры. Черный, с подпалинами, он имел на лбу белое пятно и на кончике хвоста белую кисточку – знаки предводительского достоинства. Кроме отменного чутья, Кольчик отличался умом и находчивостью. В своре он держался немножечко особняком, как бы подчеркивая свое превосходство. И только для Белка Кольчик делал исключение. Белок был из породы борзых. Но, обладая хорошими статьями и красивой внешностью, – снежно-белый, с черными агатами глаз, – Белок был дурашливого нрава.
Охотники спустились по другую сторону холма и, подъехав к тугаю, развернулись в цепь. Собаки были пущены, и всадники скрылись в зарослях.
Не прошло и пяти минут, как они наткнулись на кабанов. Начался гон. Послышались выстрелы, поднялся шум– и лошади ринулись.
Это были дьявольские скачки. Тугай стоял сплошной зеленовато-желтой стеной. Лошади, подхваченные общим возбуждением, вонзились в эти, казалось, непроницаемые заросли.
Рущуков едва успел передвинуть шлем с затылка на брови. Все слилось по бокам в мутные серые и зеленые полосы. В ушах свистел ветер. Колючки вместе с одеждой рвали и кожу. Каждым мускулом, каждой каплей крови Рущуков чувствовал, что это смертельный бег, что минута – и он повиснет где-нибудь на лиане или угодит головой о дерево или сядет в колючий куст. К сердцу подкатывал снизу щекочущий комок– тело становилось легким, летучим, а мозг охватывало безумие смертельной опасности. И Рущуков машинально давал шпоры коню.
Он уж видел впереди что-то темное, улепетывающее. Но вдруг – удар в левую ногу. Не рассчитал, видно, конь – слишком близко прошел мимо дерева. Рущукова выбило из седла, загнуло кверху, и он уже скорчился, ожидая спиной последнего удара. Но на этот раз он его миновал. Рущуков плавно на всем лету сполз с коня и упал в камышовую подушку. Повреждений не оказалось. Он быстро вскочил и в первое время не почувствовал даже никакой боли в ноге. От возбуждения он был почти невменяем. После он вспоминал, что откуда-то сбоку в этот момент увидел кирпично-красную рожу Письменного с кудрявым хохлом на лбу и услышал его слова:
– Що ж, паря, огузнився, мов гусь[76])? Живешь? Качай уперед!
И он повиновался. Он догнал приостановившуюся лошадь и снова ринулся вперед. Деревья, кусты, камышовая щетина – все слилось опять в две серые, быстро разматывавшиеся ленты.
По сторонам грохотали выстрелы. Собаки наседали на кабанов. Кольчик, как всегда, шел деловито и, оставляя убитого кабана, быстро нападал на новый след. Лучшая часть своры лежала у него на хвосте. И только Белок, по обыкновению, куролесил. Машистыми бросками он перепрыгивал через собак и быстро догонял кабанов. Но вместо работы он начинал играть с ними. Легкий, увертливый, он забегал то справа, то слева, щипал кабана и прядал в сторону, когда тот огрызался.
Рущуков летел, задыхаясь от напора воздуха. Вот впереди, за переплетом ветвей и тростников, замелькали собаки. Они гроздью висели на пятах у кабана, а тот удирал, сильно поддавая задом, отчего хвостик у него мотался высоко в воздухе. Кольчик начал заходить слева.
У Рущукова екнуло в сердце. Он летел чуть сбоку. Еще несколько мгновений– и он вскинул винтовку. В тот же момент Кольчик отчаянным прыжком перекинулся через шею кабана и ухватил его за правое ухо. Грянул выстрел. Кольчик сразу отвалился от кабана, а тот на всем ходу осел задом, так что свора, путаясь и сшибаясь, перелетела через него.
Раненый зверь тотчас же повернул обратно и ринулся на Рущукова. Он издавал отрывистые, харкающие звуки. Из ощеренной пасти свирепо торчали гигантские клыки. Не успел Рущуков опомниться, как кабан взметнулся под боком у лошади и вихрем пронесся мимо. Конь взвился на дыбы. Сбросив всадника, в смертельном ужасе он дернулся в сторону. Из его распоротого брюха вывалились внутренности, которые растягивались и разрывались на сучьях и колючках. Проскакав немного, конь грохнулся наземь. Его тело сводили мучительные судороги…

Кабан взметнулся под боком у лошади… Конь взвился на дыбы…
Рущуков при падении ударился о корягу и потерял сознание. И не сдобровать бы ему: кабан затоптал, искромсал бы его в клочки. Но подоспели собаки. Едва кабан повернулся еще раз, как две лохматые киргизские овчарки накрест повисли у него на ушах. После этого кабан был беспомощен.
В эту минуту подлетел Ермаков. Он быстро соскочил с коня и всунул кабану под лопатку длинный кинжал. Зверь повалился набок. Потом Ермаков подбежал к Рущукову и наклонился над ним, стараясь определить, жив ли тот. Тем временем подъехали и другие охотники.
Рущуков вскоре пришел в себя, но он был слаб. Кроме того, когда он попробовал двинуть левой ногой, то почувствовал резкую боль. Пришлось отправить его на станцию в сопровождении одного из красноармейцев. Провожатый, сев на лошадь, по-братски взял Рущукова на колена и на руку, как обычно кавалеристы возят раненых, и всю дорогу занимал его. Это был добродушный парень, закинутый сюда с тульских или орловских просторов.
Оставшиеся в тугае, проводив помощника командира, спохватились о Кольчике. И вскоре нашли его поблизости. Кольчик был мертв – шальная пуля Рущукова угодила ему в голову. Положив на друга передние лапы, скулил Весок, и на этот раз в его черных глазах не было дурашливого задора, в них влажнела почти человечья тоска. Кольчика закопали тут же. А немного дальше пристрелили лошадь Рущукова. И на другой же день от нее остался только обглоданный остов…
Дня три продолжался кабаний переполох. Зверья было перебито с полсотни. Не избежала этой участи и старая Ичке, тяжко рухнула она своей двенадцатипудовой тушей.
Многие из ее потомства полегли в эти злополучные дни. Едва не погиб и Дун. Его спасали только изощренные инстинкты и ум.
Когда начался гон, он вместе со своими сверстниками дневал в тугае и вместе с ними же пустился удирать. Первая погоня пришлась не за ним. Но потом в зарослях собаки нащупали и его след. К счастью для Дуна, Белок, мелькая впереди белым пятном, сбил свору и запутал ее в чаще. Дун тем временем улепетывал. Но когда он услышал, что погоня отстала, он остановился, прислушался, потом повернул обратно и пустился по своим следам. Не добежав немного до собак, он повернул в сторону под прямым углом. Вскоре собаки разобрались, и Кольчик повел их прямо по крепкому двойному следу Дуна.
А Дун уж был далеко в стороне. Он направился теперь к заросшему камышами озерку и здесь, забравшись по уши в воду, простоял, не шевелясь, до ночи. А ночью он с несколькими своими сверстниками, чуя беду, вышел из тугая и забился в камыши на одной из отмелей Аму-дарьи…
V. Борьба за власть.
Еще года два пробродяжил Дун в садыварской излучине. Он был теперь признанным, вожаком в стаде. Его трехгранные клыки внушительно торчали над верхней челюстью, в каждой паре они были пригнаны, как ножницы. Седовато-серая шерсть его превратилась в щетину, а под ней образовался бурый подшерсток, свалявшийся от времени и грязи в крепкую броню вокруг туловища. Дун достигал теперь полутора метров длины и представлял из себя грозную силу для своих противников.
Зимами он скитался со своим стадом в камышах, по тугаям, веснами выходил на зеленые пастбища, до самых песков, в июнях досаждал человеку. Но камыши оставались его основной стихией. Здесь он каждый раз выбирал особые заводи, особые лежки и тропы, которые становились любимыми у стада, и трудно было заставить кабанов против воли покинуть эти места.
Если в стаде находились ослушники и нарушители воли вожака, Дун приводил их в повиновение своими огромными клыками, а иногда и просто изгонял их из стада. Но не сразу и нелегко досталась Дуну такая власть. Немало боев ему пришлось выдержать с прежними вожаками, и недаром его черные пушистые уши торчали рваными клочьями, а на боках под шерстью лежали длинные глубокие шрамы.
Особенно в ноябрях круто приходилось Дуну. Горячей ярью наливалось кабанье тело. Звери опрометью носились за самками. В камышах стоял проломный треск. Зорко нужно было глядеть Дуну, чтобы его власть в стаде не была нарушена, чтобы слабейшие не покушались на то, что по праву принадлежало ему. И после каждой победы Дун щерил свои клыки и сразбегу всаживал их в деревья, чтобы наточить на нового соперника. Далеко по окрестности разносились эти грозные глухие удары…
И еще несколько лет Дун не уступил бы никому своей власти, если бы не одно неожиданное обстоятельство.
Как-то раз стадо пробиралось обычной своей тропой к воде. Дун шел впереди. Вдруг из зарослей грянул коварный выстрел. Пуля искала Дуна и пронизала ему мякоть около предплечья. Стадо шарахнулось врассыпную. Дун повернул обратно.
Человек знал, что кабаны не уйдут далеко от своего излюбленного места, и пошел по звериной тропе. А Дун забежал вперед, потом свернул в сторону, сделал в зарослях петлю и залег около самой тропы. Дождавшись человека и: дав ему пройти несколько шагов вперед, он яростно напал на него сзади. На коварство Дун ответил коварством. Он нанес человеку страшный удар в бедро и сшиб его на землю. Месть была свирепая, но короткая – для второго, удара Дун не вернулся.
Его рана вскоре зажила. Все, казалось, оставалось попрежнему. Но не ускользнула от зоркого глаза соперника, небольшая хромота Дуна на переднюю ногу. Это окрылило его надеждой. И когда Дун однажды приказал ему повиноваться, тот гневно сжал морду и ринулся на своего повелителя.
Завязался ожесточенный бой. Соперники вихрем разбегались в разные стороны и, повернувшись, стремительно: летели друг на друга. Их маленькие глазки налились кровавой ненавистью. Верхние челюсти стянулись судорогой; ярости, отчего морды казались горбоносыми. Делая на лету резкие рывки головой вбок, они наносили друг другу страшные удары. Только подшерсток с насохшей на нем грязью, очевидно, предохранял их от глубоких ран. Шерсть летела клочьями. Враги неистово визжали. Много раз уж они разбегались, уж бока их промокли от крови, а ни один не хотел уступать, каждый хотел вернуться победителем к мирно ожидавшему стаду.

Завязался бой… Соперники вихрем разбегались в разные стороны и, повернувшись, стремительно летели друг на друга…
Тогда противники сшиблись вплотную. Сразмаху они поднялись даже на задние ноги и старались изловчиться в ударе. Они рвали друг другу уши и глухо урчали. Клыки их лязгали один о другой, но не находили нужного места.
Вот соперники в крайней ярости встали рядом и бились последним, смертельным боем. Они загибали головы, стараясь изловчиться и ударить снизу вверх. Злобой хрипели и фыркали они друг в друга. Иногда они на минуту замирали, как бы набираясь сил и выслеживая движения противника, но потом снова били тупо, непрерывно и ожесточенно. Кровь опьяняла и возбуждала их.
Но вот Дун почуял свой конец. Передняя нога у него не выдержала страшного напряжения в бою. Ее сухожилья, поврежденные пулей человека, на какую-то долю стали слабее, чем у противника, и это дало тому преимущество. Дун уж раз споткнулся, и противник чуть не всадил ему под лопатку своего клыка. И тогда Дун отрекся от власти – он уступил сопернику поле сражения, а вместе с ним и стадо. Победитель некоторое время наседал на него, но потом бросил и вернулся, чтобы принять власть над стадом.








