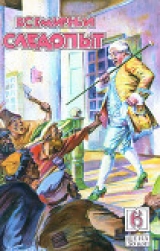
Текст книги "Всемирный следопыт, 1928 № 06"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Николай Ловцов
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
– Гриша, голубь, как же это ты, а? – нежно и грустно спросил он, как будто укоряя приятеля в какой – то ошибке.
Гришка открыл глаза, увидел Павла, и бледные губы его задрожали в слабой улыбке.
– Павлуша, – еле слышным, шелестящим шопотом протянул он. – Это… Пе-етька… Толоконников… предатель… Хотел тебя, а я… я…
Жженый поднял голову и увидел сутулую спину Толоконникова, уже огибавшего угол господского дома. Петька, убегая, размахивал большим, еще дымившимся пистолетом, по длине равным локтевой части руки.

Жженый поднял голову и увидел Толоконникова, убегавшего с длинным, еще дымившимся пистолетом…
Гришка задрожал мелкой, ознобливой дрожью и вдруг сразу стих, со стуком откинув отяжелевшую, мертвую руку.
Павел поднялся с колен и, словно убеждая сам себя, громко воскликнул:
– Вот оно дело-то какое!.. Петька, значит?.. А я-то…
Затем вдруг круто повернулся и не побежал, – нет, – пошел, тяжело отрывая от земли ноги. Когда скрылся за домной, второй залп гусарских карабинов звучно разорвал воздух. Но он был уже лишним. Двор опустел. Лишь валялись кое-где оброненные шапки и дубины, у магазей бились, порвав сбруи и опрокинув телеги, перепуганные выстрелами лошади углежогов, да у гудящей попрежнему домны, распластавшись навзничь, лежал мертвый Гришка…
VI.
В длинном зале стояла красноватая полумгла от топившейся в конце большой печи. Две оплывшие свечки в бронзовом канделябре освещали только стол, уставленный бутылками и тарелками со снедыо, не разгоняя тьму, притаившуюся в углах. Раскаленная пасть печки разбрасывала огненные трепетные зайчики по стенам зала, обитым цветным штофом[27]). Тускло блестела позолота массивных рам, и темнели полотна картин. А с полотен глядели суровые глаза воинов, нежно розовели лукавые женские лица, играли всеми цветами шелка кринолинов[28]), и переливался муар орденских лент.
Гусарский секунд-ротмистр, тучный и мешковатый, по-детски веснушчатый, с длинными гусарскими локонами, болтавшимися у висков, развалился в кресле против самого зева печки. Спиной к ней и лицом к секунд-ротмистру, на мягком бесспинном табурете поместился Шемберг. В тени, недалеко от управителя, опершись на кочергу, стоял Агапыч.
Секунд-ротмистр расстегнул венгерку: ему тяжело после сытного управительского ужина, сдобренного заморскими винами, редкими в уральской глуши. Он изредка поеживается, смакуя тепло печки, и водит по стенам зала осоловевшими глазами.
Неслышной тенью, по своему обычаю всегда красться тайком, скользнул к столу Агапыч и большими железными съемцами снял со свечей нагар. Ярче заблестела позолота портретных рам.
– А это чьи же портреты навешаны? – спросил вяло ротмистр.
– Их сиятельства, графа, благодетеля нашего, – предупредительно ответил Агапыч. – Предков и прапредков ихних.
– А часто здесь сам граф бывает? – полюбопытствовал ротмистр.
– Да как вам, ваше благородие, сказать? Вот мне пятьдесят с лишним годов, родился и вырос здесь я и никуда дале Косотурского завода[29]) не отлучался, а их сиятельство на моей памяти здесь всего один раз быть изволили. Да не теперешний, Иван Захарович, а еще родитель ихний покойный, егерей-мастер[30]) Захар Ляксандрыч – граф. Было это годов двенадцать назад, – Агапыч опасливо оглянулся по сторонам и понизил голос до шопота, – как раз об тот год, когда до нас весть дошла, что государь Петр Федорович волею божию скончался. Панихиду мы тогда всенародную по ему отслужили. Да-а! А теперь вот, через двенадцать годов, изверг рода человеческого дерзостью своей себя именем усопшего государя нарек. Что-то будет, господи! – перекрестился шихтмейстер.
– Не часто же ваш граф свои заводы посещает! – улыбнулся ротмистр.
– А нужа[31]) ему в том какая? – откликнулся опять из полумрака Агапыч. – На то управители поставлены, чтобы за графа доглядывать. Он и тогда-то не своей волей приехал. Покойный государь, вишь ты, на его опалился, ну, и сослал сюды на завод. А как граф узнал, что Петр-то Федорович помер, всего один день у нас погостевал, сейчас же опять тройку – и обратно в Питер. Человек в силе да в богатстве, чего ему здесь в глуши-то нашей горной?
– Вот поди ж ты! – оживился ротмистр. – За пятьдесят лет на один день заглянул, а портреты предков поразвесил. Ох, уж эти наши графы да князья! Спеси больно много!..
Управитель рассмеялся сдобно:
– Што я фижу? Господин секунд-ротмистр вольнодумный филозоф, фольтерьянец[32])!
– Где уж нам! – отмахнулся ротмистр. – Не до вольтерьянства, государь мой. Смотришь, как бы абшид[33]) не получить, до пенсии бы дослужиться. Дотяну вот как-нибудь до бригадира[34]), и сам уйду.
– Што так скоро? Пример? – удивился Шемберг.
– А ну их к лешему! Загонят в такую вот дыру, вроде нашей фортеции. Кроме солдат, людей не видишь. А тут еще, что ни год, бунты. Не на бранном поле, не в бою с честным врагом голову сложишь, а зарежут тебя, как барана, башкиры иль киргизы скуломордые. Опасная у нас на линии служба, покою совсем нет. Да ведь сами помнить изволите, ежели давно в здешних краях, Батыршу[35]) усмирили, Салаватка Юлаев[36]) забунтовал, а за ним, вот извольте, Пугачев Емелька объявился. Ну, этот-то наш, русский, а потому мысль имею – труднее с ним справиться будет.
Агапыч воинственно взмахнул кочергой:
– Я бы оных мятежников и воров, на страх другим, смерти нещадно предавал бы и даже жилища их разорял бы до основания!
– Ишь ты, сударь, какой кровожаждущий, прямо паша трехбунчужный[37]), да и только! – засмеялся ротмистр.
– А какофо мнение фаше, господин секунд-ротмистр, – начал осторожно Шемберг, – опасен ли мятеж сей и серьезного потрясения империи не вызовет ли он? Пример?
Шаря по столу трубку, ротмистр ответил:
– Думаю, что времена Разина не повторятся, но все же нашему краю опасность грозит немалая. Приготовиться ко всему надо.
– А зашем он к нам в горы полезет? Пример? – удивился Шемберг.
Агапыч, прикладывая для раскурки уголек к трубке ротмистра, ответил поспешно:
– Да што ты, батюшка? Емелька-то хоть и мужик-cep, да смекалку у него чорт не съел. Он знает, что здесь, на горных заводах, пушки льются, пороху а из работных наводчиков набрать можно. Прямой ему расчет за Сакмару броситься. А для чего ж он и Хлопушу-то сюда к нам направил, – все для этого!
Ротмистр захохотал, выпустив густой клуб дыма, словно из пушки выстрелил:
– А из тебя, сударь, неплохой бы стратег[38]) вышел. Клянусь честью! – и, обращаясь к Шембергу, сказал уже серьезно: – Ваш шихтмейстер прав. Крестьяне Пугача не поддержат, ничего он не добьется своими дурацкими манифестами, не поверят они его авантюрьерскому вранью и галиматье его глупей[39]). В его шайку пойдет лишь инородь: она будет как бы его легкой кавалерией, а за пушечным запасом он кинется сюда, в горы. Расчет господина шихтмейстера вполне верен.
По кислому лицу Шемберга можно было видеть, что он отнюдь не радуется верности расчета своего шихтмейстера. И чтобы переменить неприятную тему разговора, он спросил:
– А как дело с Оренбургом? Как поживает мой камрад, генераль-губернатор Рейнсдорп?
Ротмистр вдруг прыснул по-мальчишечьи, даже закашлялся от смеха:
– О, ваш кадрильный генерал молодец!
– Пошему кадрильный генераль? Пример? – поднял строго брови управитель. – Такие глюпие слофа подрывают решпект[40]) губернатора и…
– Те-те-те, батенька мой! Эво куда вы хватили – решпект! Я сам человек военный, и для меня субординация[41]) на первом месте. А просто это анекдот, рацея[42]) презабавная, от которой реномэ его превосходительства нисколь порухи не терпит. А почему кадрильный – извольте выслушать. Еще в начале прошлого месяца[43]) доносили ему о злодейских умыслах Емельки, но его превосходительство мер принять не соизволил, а двадцать второго, по случаю коронации монархини нашей, спокойненько пир задал на весь город, парад, бал, развальяж полный! Никто и не заметил в суматохе, как к дому губернаторскому казачок подскакал с рапортом от начальника Нижне-Яицкой дистанции[44]), полковника Елагина. Только его превосходительство хотели в кадрили пройтиться, а ему адъютант рапорток и сунь в руки. Прочел его ваш камрад и даже за голову схватился: «Боже мой, – говорит, – Илецкий городок самозванцем на слом взят, население, субверсии[45]) подверженное, его с хлебом-солью встретило, а теперь он сюда, на Оренбург, двигается». Дама его, жена ратмана[46]), натурально ждет, когда ее кавалер от дел освободится, чтобы в кадрили пройтись. А генерал вытаращил на нее свои буркалы, да как гаркнет: «Чего, матушка, ждешь? Домой поезжай, теперь кадриль другая пойдет, в той кадрили. ты мне не пара!..»
Ротмистр сам же первый захохотал. Шемберг изобразил на лице что-то, отдаленно напоминавшее улыбку. Агапыч осторожно хихикнул и тотчас смолк, потрафив таким образом и ротмистру и управителю.
– А теперь, – продолжал ротмистр, – его превосходительство сам Емельку танцовать заставляет. Да иначе и быть не должно, – Оренбург ведь не какая-нибудь степная иль рудокопная фортеция. Об его каменные реданы[47]) и бастионы[48]) обломает вор-Емелька свои зубы.
– Ох, господи, – полез в печку кочергой Агапыч, – хоть бы одним глазом на злодея взглянуть! Зверолик и страшен, полагаю.
– Отнюдь нет, сколь это ни странно, – ответил ротмистр. – Самовидцы гоьорят, – просто мужичишка плюгавый и пьяница.
– Мал коготок, да остер, значит! – подхватил Агапыч.
– Остер, это верно. Храбр, сказывают, как бес, под нашими пулями вертится да посмеивается. А войско его, по слухам, – сброд воров и голытьбы. Удирают в степь от первого залпа.
Агапыч угрюмо почесал поясницу:
– Пущай удирают, лишь бы не в нашу сторону.
Шемберг, заметно приунывший, вдруг оживился:
– А я имель мнение, што сюда надо командировать генераль Суфороф. О, это гений!
– Да што вы, сударь мой! – замахал руками ротмистр. – Это уже поистине на муху с обухом. С Емелькой и без Суворова ваши компатриоты[49]) справятся – Карр да Фреймам. Они со свежим войском на него идут.
– О, ja[50])! Карр молодес, он еще покажет Пугашеву!
– Найдется и у Емельки, что показать твоему Кару, – пробормотал под нос Агапыч.
Шемберг покосился на него, но ничего не сказал. Замолчали, уставившись в огонь. Прислушивались к тихому потрескиванию ссыхающегося паркета в дальнем темном углу зала. Агапычу казалось, что там ходит кто-то, крадучись, на-цыпочках. В печке вдруг громко выстрелило, и уголек вылетел к ногам ротмистра. Агапыч вздрогнул и перекрестился:
– Вот чортова пушка! Напужала!
Снова замолчали, думая, хотя каждый и по-своему, но в общем об одном и том же: «Что там, в степях держится ли еще Оренбург, не переправилась ли уже через Сакмару пугачевская голытьба?» Агапыч думал о Хлопуше: «Где же бродит этот каторжник со рваными ноздрями? Может быть, стоит он, душегуб, сейчас на соседнем шихане и смотрит сюда, на освещенные окна зала. И Петька Толоконников куда-то запропастился, неделю глаз не кажет. А без Петьки и о Хлопуше ничего не проведаешь». Шемберг тоже думал о Хлопуше, чувствовал, что не может быть покойным за завод до тех пор, пока в окрестностях бродит этот пугачевский посланец.
Любимец управителя, какаду, пестро и ярко раскрашенный, как фигляр, одетый в свою шутовскую ливрею, сладко вздремнул под разговор. А наступившее молчание разбудило его. Он сорвался с насеста и, покрутившись под потолком, опустился на плечо Агапыча. Блестящие бранаенбуры[51]) и галуны на венгерке ротмистра, видимо, раздражали заморского гостя, и он при виде их откровенно сердился. И сейчас, разъяренно вздыбив перья на шее, махая крыльями и вытянув голову в сторону ротмистра, он закричал деревянно:
– Дур-рак!.. Дур-рак!.. Дур-рак!..
– Экая противная птица! – поморщился ротмистр.
Какаду повернул боком к нему голову, словно прислушиваясь, и, затянув глаза матовыми веками, произнес с особенным смаком:
– Мер-рзавец!
От неожиданности ротмистр сконфузился, а затем буркнул злобно:
– Я б такую гадость… в лепешку!
Шемберг поднялся с табурета:
– Уфсе эти неприятии разговоры о бунтовщиках плоко действуют на сон. Может присниться какой-нибудь ужасный кошмар, вроде этот шертовский Пугашев. Поэтому надо еще выпить. Шего шелает господин секунд-ротмистр? Ром? Бишоф? Пример?
– Давайте уж вашего немецкого бишофу! – Отхлебнув глоток и смакуя запах пряностей и померанца, ротмистр сказал: —А и скучища у вас здесь! Хоть бы биллиард был, я бы вас новой игре в три шара научил. Иль охоту устроили б…
– О, мой пог, какой совпадение! – воскликнул Шемберг. – А я только имел намерение предложить фам ошень интересни облява.
– Облаву? – оживился ротмистр. – На кого, на лисицу?
– Нейн! На крупний зферь.
– На волков?
– Нейн! Ешо крупней!
– Ого! Значит, на самого «хозяина», на медведя?
– Опять не угадаль. На шеловека!
Ротмистр посмотрел внимательно на управителя:
– Облава на человека? Што ж, дело бывалое. Кто же сей двуногий зверь – беглый, заводской ваш или…
– Сей двуногий зферь есть проклятый каналья Клопуша…
– Хлопу-уша! – разочарованно протянул ротмистр. – Э, нет, на это согласия не даю. Ну его к бесу! Два раза ведь мы пытались ловить его, меж пальцев уходит, – скользкий, что налим… Опять даром горы облазишь да все ваши камни боками пересчитаешь. Пустая затея!..
– Нет, ваше благородие, – вмешался Агапыч, – теперь-то промашки не будет. Доподлинно нам известно, что Хлопуша на хуторах у наших углежогов скрывается. А с ним еще один злодей, зачинщик бунта, заводской наш – Павлуха Жженый. Заарканим мы их наверняка.
– Нет! Опять без пользы людей измучаешь да казенную аммуницию порвешь. И чего вы напрасно беспокойством сердце себе ворошите? Три недели прошло уж после усмирения бунта, три недели, как я у вас живу, а кругом тишь да гладь. И об лазутчиках Пугачева ни слуху, ни духу. Пустое вы затеваете! – отмахнулся ротмистр и потянулся к стакану.
– Королю! – к удивлению Агапыча, легко сдался управитель. – Пусть будет так, как решил господин секунд-ротмистр. Ему лючче снать, што надо делать. И дофольно об этом гофорить. Надоело! А сейчас я покажу фам, господин секунд-ротмистр, одну ошень интересни штючка.
– Посмотрим вашу интересную штучку, – откликнулся ротмистр, довольный, что, наконец, кончился неприятный для него разговор о Хлопуше.
Шемберг пошел к себе в спальню и вернулся, неся подмышкой деревянный ларец. Отперев его, он вынул и протянул ротмистру небольшой двухствольный пистолет, строгой отделки, без всяких украшений. Лучшими украшениями были клейма знаменитого Кухенрейтера на стволах пистолета.
В глубине зрачков ротмистра зажглись жадные огоньки:
– Ого, бесценный Кухенрейтер! Откуда он у вас? О, да здесь и другой. Два родных брата!
– Эти пистолеты подарил моему фатеру[52]) великий король Фридрих за, атаку под Гросс-Егерсдорфом, – гордо ответил управитель.
Ротмистр вдруг рассмеялся:
– За Егерсдорфскую баталию? Где мы отменно вздули вашего великого Фридриха, разбили его в пух и прах! – Вот достойный подарок! Хо-хо-хо!
– Я не фижу нишего смешного! – зло и надменно вскинул голову Шемберг. – Гросс-Егерсдорфское порашение не менее почетно для пруссаков, чем иная победа. Сапомните это, господин секунд-ротмистр!..
– Да вы, сударь мой, не сердитесь, – добродушно сказал ротмистр. – Прошу простить великодушно, ежели я вас чем обидел. А за сколь, к примеру, вы продали бы сии прелести?
– Я их не продам и за сотню щервонцев, – ответил управитель. – Я их дам даром тому, кто приведет ко мне Клопушу и Шщеного.
«Ой, хитер немец! – подумал Агапыч. – Ой, хитер пес!»
– По пистолету за голову? – сказал ротмистр. – Ну што ж, я согласен. Будь по-вашему, завтра же устроим облаву.
Управитель облегченно вздохнул, а шихтмейстер даже крякнул от радости.
– Э, да они заряжены! – воскликнул ротмистр, увидав порох на полках пистолетов, и, обращаясь к управителю, спросил: – Можно попробовать?
– Пожалюста, – ответил Шемберг.
Ротмистр взвел курок, оправил кремни, и повел по залу пистолетом. Дула, как два черных внимательных глаза, переползали с предмета на предмет, отыскивая цель. Агапыч съежился, словно ему сразу стало холодно. Управительский какаду, задремавший у него на плече, на свою беду проснулся и, увидав ненавистную венгерку ротмистра, крикнул хрипло:
– Дур-рак!
Ротмистр вскинул пистолет и, почти не целясь, спустил курок. Заглушенно, как всегда в комнатах, прогремел выстрел. Какаду, будто сбитый невидимой рукой, слетел с плеча Агапыча и комочком пестрых лоскутьев шлепнулся на пол. Пуля раздробила ему голову, превратив ее в окровавленные лохмотья. Агапыч, услышавший свист пули около самого уха, влип в стену, хлопая обезумевшими глазами и шепча под нос молитвы. Затем начал ощупывать голову, чтобы убедиться, цела ли она.

Ротмистр вскинул пистолет и спустил курок… Какаду слетел с плеча Агапыча и комочком пестрых лоскутьев шлепнулся на пол.
Опустив дымящийся пистолет и спокойно продувая ствол, ротмистр сказал:
– Хорош, бестия! Выверенный! – И фыстрел тоже корош, – ломающимся от ярости голосом сказал управитель. – Я бы за такой фыстрел!.. – и не докончил. Лицо его нервно задергалось…
– Ну-с, сударь, кончайте! – сказал ротмистр. – Что же вы замолчали?
– Варвар! – бросил злобно Шемберг.
– Кто варвар? – с нескрываемой угрозой спросил ротмистр. – Ну, ежели так, милостивый государь мой, то я готов немедленно дать сатисфакцию[53]), хоть сейчас, здесь. В пистолетах есть еще заряды.
Управитель сжал кулаки и, круто повернувшись, молча вышел из зала.
– Испугался, гороховая колбаса! – презрительно бросил ему вслед ротмистр. Отшвырнул брезгливо носком сапога трупик какаду и тоже пошел к дверям, раздраженно дзинькая шпорами.
Агапыч укоризненно покачал головой, вздохнул и, гремя вьюшками, полез закрывать трубу. Затем налил в стакан мальвазии и, сощурившись сладко, неспеша хлебнул заморское вино. Стакан вдруг дрогнул в его руке, и пролившееся вино кровавыми пятнами расплылось по скатерти. В раму окна постучал кто-то сильными и частыми ударами. Агапыч подбежал к окну, откинул занавеску и отшатнулся с воплем:
– Хлопуша!..
К стеклам прилипло безносое лицо. Ноги Агапыча словно примерзли к полу. Он порывался бежать, но не мог. А безносый человек за окном призывно махал рукой.
Агапыч всмотрелся внимательнее. И вдруг отплюнулся, сердясь сам на себя. Он узнал Петьку Толоконникова. А его приплюснутый оконным стеклом нос он принял за нос Хлопуши со рваными ноздрями.
– Вот нелегкая, везде этот дьявол мерещится!
Приложив ухо к стеклу, Агапыч услышал глухой голос Петьки:
– Отопри. Дело есть!
Агапыч торопливо побежал к выходу.
Войдя в зал, Толоконников быстро потянулся иззябшими руками к печке:
– Стужа! Зима близка.
– Чего по ночам шляндаешь? – спросил Агапыч.
– Дело самоважнейшее. Зови управителя и ахвицера тоже..
– Да зачем?
– Говорю, значит, нужно. Седни о полночь Хлопуша и Жженый у Карпухиной зимовки опять встречу назначили. С Хлопушей всего два конных киргиза. Теперь не уйдут, голыми руками возьмем., Слышь, вот еще што. Шел я сюда через Быштым-гору и зашел к тамошнему огневщику[54]) погреться. И рассказал он мне вот што: седни в сумерки, как только стемнело, слышал он на трахте скрип тележный, ржанье лошадиное и голоса великого множества людей. Как будто целая орда шла. А кто и куда – не знает, ему с Быштыма трахт не виден. Уговорился я с огневщиком, коли он неладное што заметит, штоб на Быштыме, на макушке костер зажег. Ты прикажи караульщикам, пущай они на Быштым поглядывают, это весть вам будет. Тогда ко всему готовьтесь, ворота закрывайте, а гарнизу на валы выводите. Ну, я пошел…
Проводив Толоконникова, Агапыч вернулся в зал, потушил свечи. Темнота, словно ждавшая этого, выпрыгнула из углов, спустилась с потолка. Потускнело золото портретных рам, смутно засинели квадраты окон. Суеверно крестясь, Агапыч осторожно, на цыпочках вышел из зала, стукнул в дверь камердинера-немца: «Ухожу-де, запри» – и, нахлобучив треух, выполз на заводский двор. Шагая к своему флигельку, оглянулся на Быштым. Остановился сразу. Протер глаза. Опять поглядел.
На макушке Быштыма горел костер. Мерцающий одиноко во тьме огонек имеет притягательную силу для человеческого взгляда. И Агапычу почудилось, что кто-то безжалостный и злой смотрит с вершины горы на обреченный завод.
Но вот острая макушка Быштыма начала вырисовываться яснее и яснее, словно кто-то поставил сзади горы огромную свечу, а в следующее мгновение яркое зарево трепетным пологом повисло на черном ночном небе.

Зарево повисло на черном ночном небе. Агапыч повернулся и побежал обратно.
Агапыч повернулся и, махая руками, побежал обратно к господскому дому…
VII.
Смерть любимца-какаду не на шутку взволновала Шемберга. Даже укрывшись уже одеялом, в кровати, не мог забыть он окровавленный трупик птицы. Подвинув ближе к изголовью столик со свечей, раскрыл сафьяновый томик «Мессиады» Клопштока. Патриотические и религиозные строфы поэта успокоили взволнованные чувства управителя и… навеяли дрему. Задул свечу и улегся поудобнее. На одну минуту, увидел розоватый отблеск, пробивавшийся через неплотно прикрытые занавески окна. Решил, что это всходит месяц, вздохнул глубоко и словно полетел в бездонную пропасть…
Проснулся сразу от странного звука, похожего на отдаленный, тихий звон колокольчиков. За время сна потерял всякое представление о времени, – не мог понять, свел ли он веки на одну секунду или проспал несколько часов. Тихий, едва уловимый звон повторился где-то совсем близко, чуть ли не в головах его кровати.
– Кто здесь? – крикнул сдавленным хриплым голосом. Страх перехватил горло.
– Это я, ваша милость, – ответил из-за дверей спальни камердинер.
Шемберг облегченно про-себя выругался. Спросил недовольно.
– Што надо?
– Извините, ваша милость, что тревожу столь неожиданно. Но вести получены, не терпящие отлагательств.
Нашарил в темноте туфли, надел шлафрок и отпер двери. Вместе с камердинером, внесшим зажженный канделябр, в управительскую спальню проскользнул Агапыч. В руках он держал громадную связку ключей, тихое позвякивание которых и разбудило управителя.
– Ну, затем беспокоиль среди ночь? Пример? – строго спросил Шемберг.
Агапыч, не отвечая, молча подошел к окну и отдернул занавеси.
– А вот зачем! Сами изволите видеть.
Шемберг взглянул и заколотился крупной редкой дрожью, словно ехал по ухабистой дороге. Небо пылало нежно-розовым заревом.
– Што это?
– Пугач! – сурово и лаконично ответил Агапыч. – И до нас добрался. Вишь, Петровский завод жгет. Баталия, видимо, там немалая идет. Набат слышен, из ружей палят.
Шемберг схватил канделябр и бросился вон из спальни. Видно было, как он несся по анфиладе[55]) комнат, – развевались полы шлафрока, пламя свечей коптящими языками стелилось по воздуху. Добежал до лестницы на вышку и скачками, через две три ступени, ринулся наверх… Агапыч всплеснул руками и шариком покатился за управителем.

Шемберг схватил канделябр и бросился вон из спальни…
Ветер, свистевший в перильцах вышки, загасил свечи. От этого еще чернее показалась ночь и еще ярче зарево, из бледно-розового превратившееся уже в багрово-красное и охватившее всю северную часть неба. Огонек на макушке Быштыма погас, растворился в пламенных разметах зарева. Оттуда, со стороны огненного моря, еле слышными вскриками долетали звуки набата, словно стая медных птиц неслась, моля о помощи.
Вот зарево вспыхнуло особенно ярко, осветив толпу у стены дома, нагие березы господского сада и черные пятна вороньих гнезд на них. Огненные блики легли даже на Белую, и она в их отсветах текла медленная и темная, как сапожный вар. И тотчас же, покрывая тревожные вопли набата, над горами гулко охнул пушечный выстрел и звонко раскатился по реке. Воронье сорвалось с гнезд и с оглушительным карканьем закружилось над домом. Словно догоняя первый, покатился гул второго выстрела. Задребезжали стекла. За спиною Шемберга шептал Агапыч:
– Его ли гонят, он ли по заводу бьет?
Управитель не ответил. Вцепившись в перила, не отрываясь смотрел на зарево…
По тракту бешеной дробью рассыпался стук копыт лошади, мчавшейся галопом. Шемберг прислушался. Сюда, к заводу. Всадник прогремел по гати заводской плотины, затем цоканье подков послышалось на дворе и замерло около дома.
– Уснать, кто это. Шиво! – бросил Шемберг через плечо Агапычу. Шихтмейстер поспешно спустился в дом.
Снова, один за другим, раскатились два пушечных выстрела. Люди внизу закричали все разом. Агапыч, вынырнув на площадку вышки, сказал запыхавшись:
– Оттеда, с Петровского завода, питейной продажи целовальник. Насилу от душегубов вырвался. Да вы спуститесь вниз, он вам в порядке все обскажет…
В зале, где в уголке еще лежал убитый какаду, Шемберг увидел молодого парня в длиннополом кафтане и сапогах выше колен.
– Батюшка барин, – бросился он к управителю, – бегите, душеньки свои спасайте! Разорили наш завод, душегубы, кабак мой сожгли, как же я теперь ответ-то буду держать?..
– Не мели без толку! – услышал Шемберг за своей спиной спокойный голос. Обернулся. Секунд-ротмистр, совершенно одетый, даже с пристегнутой саблей, стоял около печи.
– Когда напали на завод? – спросил ротмистр.
– Скоро после полуночи. Потаенно прокрались, а потом как загалдят!..
– Много их?
– Сила несусветимая! С дрекольем, с пиками, на слом бросились, избы предместья пожгли, в ворота ломиться начали…
– А гарниза ваша?
– Да што гарниза! У пушек клинья вытащили, ворота отбили и с хлебом-солью их встретили. Это уж бунтовщики счас палят. Заводской ахвицер да управитель в каменной конторе заперлись. Да где уж, доберутся и до их! И ваши мужики там, – обернулся парень к Шембергу, – Жженый Павлуха да еще некоторые…
– Ладно! Иди, – сказал ротмистр, – и, когда парень скрылся за дверями, задумчиво потер подбородок. – Та-ак. В мыслях не держал, что бунт столь яростен будет. – И, обращаясь к Агапычу, попросил: – Не откажи, сударь, вахмистра ко мне кликнуть.
– Што фы предположены делать? – забеспокоился Шемберг.
– Неужель, сударь, не догадываетесь? – улыбнулся нехорошо ротмистр. – Ретироваться надо. Здесь остаться – наверняка эскадрон погубить, а теперь, при временах столь тревожных, в нашей фортеции каждый солдат на счету будет.
– А я как? – растерялся Шемберг.
Ротмистр пожал плечами:
– Я вас не бросаю. Коль в седле сидеть умеете, поедете с моим эскадроном. Я не варвар, как думают некоторые, – съязвил он, многозначительно поглядывая в угол на трупик какаду. – Жизни вас лишать желания не имею.
– Мейн готт! – протянул к нему умоляюще руки управитель. – Прошу фас, господин секунд-ротмистр, забудьте эти мои глюпие слофа! Я сознаюсь, што быль дурак. Но как же я брошу здесь деньги, меха, солото? Господин граф накажет меня за это!
– Вас я беру, – холодно оборвал его ротмистр, – а до остального мне дела нет. Из-за вашей рухляди я голову терять не намерен…
– Рукляди! – в ужасе всплеснул руками управитель. – Графский солото – руклядь! Уф!..
«Не о графском ты золоте заботишься, а о своем. Насосался у нас здесь», – со злобой подумал Агапыч. И, подкравшись к управителю, шепнул ему на ухо:
– Подарочек ахвицеру посулите, он и перестанет ломаться…
Шемберг, хлопая туфлями, побежал в спальню и тотчас же вернулся, неся в охапке громадный сверток. Бросил его сразмаху на пол. По паркету рассыпались звериные шкурки: пламенем вспыхнул мех лисицы, бесстрастно-холодно забелели горностаи рядом с бессценным черным соболем и голубым песцом…
– Фот! – сказал Шемберг, – я давно хотел сделать фам презент[56]). Прошу, пожалюста!
Ротмистр отвернулся, показывая пренебрежение. Шемберг поколебался секунду, а затем решительно выдернул из-под полы шлафрока еще одну шкурку и бросил ее поверх других. Мех ее был ровного серого цвета, без всяких оттенков, но каждый его волосок имел серебристо-седой кончик. Ротмистр был ошеломлен красотой меха, но не показывал этого.
– Серебряная лисица! – прошептал благоговейно Агапыч. – Целую деревню за нее купить можно.
– Кунштюки ваши, сударь мой, – сказал уже не совсем твердо ротмистр, – все же ни к чему не приведут. Вас я беру, а добро свое здесь хороните. С собой тащить грузно, пропадешь…
Шемберг беспокойно оглянулся по сторонам. На глаза ему попался ларчик с кухенрейтерскими пистолетами. Схватил его и протянул ротмистру:
– Это тоже берите. Фы – зольдат, фам они нужнее. А я не о себе забочусь, интерес господина графа мне дороже…
Ротмистр сдался. Бережно принял от управителя ларчик и поставил около себя на стол.
– Ладно, – сказал он, в подтверждение своих слов, кладя руку на пистолетный ларец. – Берите с собой еще десяток лошадей, вьючьте их сумами переметными и торбами седельными. Хватит?
– О! – поднял глаза управитель. – Я всегда говориль, што фы благородии шеловек…
В этот момент за дверями послышалась возня, в зал ворвался человек и упал к ногам Шемберга, целуя полы его шлафрока. Это был Петька Толоконников.
– Барин, – завопил он, – меня с собой возьмите!.. Ежели останусь – здесь смертушка мне… Ведь для тебя служил, смилуйся, не бросай!..
– Пшел, пес! – брезгливо вырвал у Петьки полу шлафрока Шемберг. – Нишего я не знаю. Уходи! Шиво!

«Пшел, пес! – брезгливо вырвал Шемберг у Петьки полу шлафрока. – Уходи! Шиво!..»
– Погодите, – сказал ротмистр и подошел к Толоконникову. – Отвечай, Уршакбашеву тропу знаешь? К верхнему мосту возьмешься ею вывести?
– Еще бы! – обрадованно вскинул голову Петька, – сколь разов ходил. Сначала все по берегу Белой, так штоб Малиновые горы[56]) по носу все время были, а как до Маярдака дойдешь, круто на восток сворачивай и тогда уж на «Золотые Шишки» держи. А под заводом купца Твердышева[57]) и будет мост через Белую. На тот берег перейдем– вот тебе и Сибирь!
– Верно! – подтвердил ротмистр и, повернувшись к управителю, объяснил – Трактом ретироваться небезопасно, от летучих отрядов мятежников нападения Ожидать можно. А с вашим добром как ускачешь? И решил я таковую диверсию[58]) учинить. Скрытной Уршакбашевой тропой к верхнему Белорецкому мосту пробраться, а от Твердышевского завода до нашей фортеции рукой подать…
– Карашо, – согласился Шемберг. – Ты с нами пойдешь, проводником.
Петька, благодарно шмыгнув носом, выбежал из зала. Никто не заметил, каким торжеством загорелись глаза Агапыча при последних словах управителя. Но он поспешил под опущенными ресницами скрыть их радостный блеск: Шемберг шел прямо к нему.
– Господин шихтмейстер, софета прошу. С заводом как поступить? Сжечь, штоб мятежникам не достался? Пример?
Агапыч выдвинулся вперед. Вид у него был торжественный и серьезный. Склонив голову набок, заговорил проникновенно:
– Батюшка, Карл Карлыч, сам ты видел, што я на службе его сиятельства графа живота не жалел. И хочу я до последнего издыхания ему служить. Останусь я на заводе его добро доглядывать. Бог не выдаст, свинья не съест. Стар я, и смерть мне не страшна. А может, хоть малую толику сберегу. Как прикажешь?








