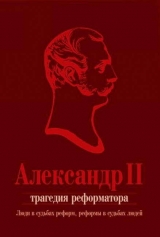
Текст книги "Александр II. Трагедия реформатора: люди в судьбах реформ, реформы в судьбах людей: сборник статей"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Заключение
Взаимосвязь между расширением финляндской автономии в 1850–1860-е гг., между участием Финляндии в Крымской войне и личностью Александра II изучали до нашего времени лишь очень ограниченно. В традиционной финской и советской историографии подъем финляндской автономии объяснялся прежде всего как следствие либеральных намерений Александра II. И все же изучение русско-финских связей во время Крымской войны (и, в частности, поездки Александра II в марте 1856 г. в Финляндию) дают основание для иной интерпретации, Александр II, а также как либеральные, так и консервативные круги империи находились под глубоким впечатлением от финского вклада в военные усилия России. Они знали и о том, что Финляндия сильно пострадала от войны в экономическом смысле. Две трети ее торгового флота, который играл огромную роль в ее экономике, было уничтожено или конфисковано англичанами. Русская элита рассматривала активность и жертвы, понесенные Финляндией, как доказательство ее лояльности России, включая и этнический шведский компонент населения.
Эту лояльность стремились и вознаградить и поддерживать в дальнейшем с помощью экономической помощи Финляндии и выполнения ее специфических политических пожеланий. Помимо того, эта помощь была направлена на символическую и реальную компенсацию ущерба, причиненного Финляндии во время войны. Этими процессами была обусловлена и особая симпатия Александра II к Финляндии. Не игнорируя значения либеральных намерений царя в целом, мы стремились показать, что исходную и толчковую роль в его деятельности по расширению финляндской автономии в 1850–1860-е гг. сыграли упомянутые в нашем сообщении обстоятельства.
Юлия Сафронова.
«ВЧЕРА УБИТ НА УЛИЦЕ ГОСУДАРЬ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ»
(восприятие монарха как «мишени» для террористов)

С тех пор как короли-чудотворцы перестали исцелять больных золотухой наложением рук, исследователи монархии и монархизма оказались в трудном положении. Не доверяя официальным заявлениям и коленопреклоненным молитвам подданных «рационального» XIX и тем более XX в., не имея возможности однозначно утверждать, что именно думали зрители о разыгрываемых перед ними «сценариях власти», они пытаются «поймать» человека на его низменных инстинктах. Подлинность «верноподданнических чувств» проверяется невоздержанностью, гневом и жадностью, когда священная особа оскорбляется подданным, пребывающим в «нетрезвом виде», или превращается в товарный знак, придающий дополнительную стоимость любому продукту{477}. Не отвергая ни один из предложенных путей, я хотела бы подвергнуть эти чувства испытанию па прочность иначе. В статье речь пойдет не о какой-то ситуации в жизни человека, когда он волей-неволей демонстрирует свое отношение к монарху, но о чрезвычайных обстоятельствах в жизни самодержца. Моя цель – понять, как мог верноподданный помыслить об императоре всероссийском в ситуации немыслимой, новой, не имеющей готовых моделей понимания, когда он превратился в «мишень» для террористов.
Российские самодержцы не раз становились жертвами убийц. Между убийством Александра II и его деда Павла I, чья насильственная смерть в 1801 г. еще не вошла в гимназические учебники истории, но уже была общеизвестным фактом, прошло всего 80 лет. Отличие покушений на Александра II от имевшегося исторического опыта было точно схвачено в одной фразе И.Д. Делянова, бывшего в 1881 г. директором Императорской публичной библиотеки: «Да, но это на улице», язвительно прокомментированной редактором «Нового времени» А.С. Сувориным в дневнике: «В комнатах можно душить, а на улице нельзя!»{478} Покушения на жизнь монарха, произведенные революционерами, не обладавшими «легитимностью» аристократии и военной элиты, не поддерживавшими более законного претендента на престол, были несопоставимы с событиями эпохи дворцовых переворотов. Потому последняя не могла служить ориентиром при размышлениях о возможном цареубийстве. В то же время их невозможно было в полной мере сопоставить с террористическими актами, направленными на должностных лиц. Опыт осмысления насильственной смерти шефа корпуса жандармов или харьковского прокурора не годился, когда речь шла о священной особе государя императора.
Несомненно, что на отношение представителей общества к царю оказывало влияние огромное количество самых разных обстоятельств: полученное воспитание, личные неудачи или, напротив, успехи, которые можно было связать с его царствованием, слухи о «недостойном» поведении императора и членов царской фамилии и, разумеется, отношение к внутриполитическому курсу и политические взгляды. Покушения на Александра II в полной мере проявили те основные модели восприятия императора, которые сложились задолго до событий 1866–1881 гг. Официальная пропаганда могла подправить их лишь отчасти.
«Венценосный мученик»: официальная пропаганда о покушениях на монарха
В 1866 – начале 1881 г. правительство в освещении покушений на императора шло по пути ограничения информации о деятельности террористов. В этот период появилось 7 циркуляров, запрещавших обсуждать в печати вопросы, прямо или косвенно связанные с террором (в том числе аресты по политическим делам), систему образования и возможное введение представительной формы правления{479}. Одновременно придворная цензуpa, охотно дававшая разрешение на публикацию стихотворений о верноподданнических чувствах, написанных по поводу того или иного покушения{480}, с сомнением относилась к сочинениям о террористических актах, написанных в любых других жанрах. Попытка в преддверии двадцатипятилетия правления Александра II включить в «Краткий очерк царствования» описание четырех покушений вызвала «недоумение» в Санкт-Петербургском цензурном комитете и требование «исключить» от Министерства императорского двора{481}. С такой же позиции Министерство двора подошло к сочинению коллежского советника Подчерткова, пожелавшего после 1 марта 1881 г. опубликовать брошюру с рассказом обо всех покушениях на императора. Сочинение, хотя и написанное «с самым верноподданнейшим чувством», было сочтено «неуместным»{482}. Очевидно, власти опасались, что изложение на нескольких страницах истории семи покушений на монарха может вызвать иную реакцию, нежели та, на которую рассчитывал сочинитель. Столь же последовательно канцелярия министра двора запрещала печатать изображения террористических актов. На несколько запросов издателя «Всемирной иллюстрации» о дозволении опубликовать рисунки взрыва в Зимнем дворце последовала резолюция А.В. Адлерберга: «О взрывах не разрешаю»{483}.
Сосредоточив усилия на установлении контроля над подцензурной прессой, власть предоставила выработку официальной интерпретации покушений на монарха Русской православной церкви. «Правительственный вестник», кроме кратких информационных сообщений, публиковал после каждого взрыва наиболее удачные проповеди, подтверждая тем самым, что правительство придерживается аналогичного объяснения происходящего. Подцензурная пресса, стремясь избежать вполне вероятных затруднений и санкций со стороны властей, вплоть до 1 марта обходила фигуру императора как «мишени» террористов молчанием.
Русская православная церковь через своих проповедников предложила объяснение терроризма, основанное на провиденциальном видении мира. Неудачи покушений 19 ноября 1879 г. и 5 февраля 1880 г. однозначно истолковывались церковью как чудеса, но в то же время и как нечто само собой разумеющееся. «Помазанника Божия» нельзя убить: «Ни пуля, ни огонь, ни другие измышления, адские орудия врагов, не похитят от нас царя, пока на то будет Святая Воля Божья», – убеждали священники паству{484}. При такой начальной посылке проповедникам необходимо было объяснять не причины покушений, а причину Божьего «попущения» злоумышлении на императора. Возможность наказания самого Александра II исключалась. Протоиерей Василий (Нечаев), напоминая прихожанам историю Иова Многострадального, специально оговаривал: Россия не должна впасть в заблуждение, в которое впали друзья Иова, посчитавшие, что его муки – кара за грехи. «Остережемся думать, что Господь покарал царя за его личные грехи, которые притом нам неизвестны», – наставлял он{485}. Оставалось единственно возможное объяснение: «попуская» совершаться покушениям, Бог «поучает событиями» «нерадивых чад»{486}.
В речах священников Александр II представал как идеальный христианский православный царь – милосердный, незлобивый, кротко несший бремя власти. Великие реформы, прежде всего отмена крепостного права{487}, «христианское служение» императора во время Русско-турецкой войны{488}, и ранее в официальной пропаганде представлявшиеся подчас как духовные, а не политические акты{489}, были наполнены новым смыслом. Все они оказывались деяниями христианина, заслужившего через праведную жизнь, положенную во имя других, мученическую смерть, а следовательно, и мученический венец. Совпадение цареубийства и последовавших за ним обрядов с Великим постом позволили проповедникам вплести событие 1 марта 1881 г. в канву евангельского мифа. Церковь настаивала даже не на сходстве отдельных моментов, но на внутреннем, мистическом родстве событий в Иудее и Петербурге: император, как Помазанник Божий, был принесен в жертву ради искупления грехов русского народа{490}. Священники в один голос наставляли паству: следует молиться, чтобы царь-освободитель по смерти удостоился высшей награды – был сопричислен «к лику святых страстотерпцев, мучеников, положивших живот свой за Веру, Царский Престол и Отечество»{491}, покрыт «славным венцом мученика»{492}.
Проповедникам удалось предложить интерпретацию 1 марта 1881 г., которая превращала его из события, безусловно подрывающего престиж монархии, свидетельствующего о глубоком кризисе империи, в событие, прославляющее самого монарха. Образ царя-мученика, многократно воспроизводившийся не только проповедниками и журналистами, но и самими подданными, свидетельствовавшими монарху в адресах свои «верноподданнические чувства», тем не менее едва ли мог удовлетворить потребность в осмыслении покушений на Александра II. В статьях журналистов и даже в некоторых проповедях представление об императоре как о мученике приписывалось «народу», «простому русскому мужичку, знающему цену страданиям»{493}. В таком приписывании, однако, всегда есть оттенок превосходства. Если обратиться к личным документам представителей общества, то окажется, что в них очень мало упоминаний об императоре-мученике в том религиозном смысле, который вкладывали в этот образ проповедники{494}. Напротив, в записках, адресованных представителям власти, они довольно часто «проговаривались», употребляя понятие «мечение» отнюдь не в том значении, на котором настаивала церковь. Убитого императора называли «мучеником за идею государства и общественного порядка, благоустройства»{495}или «мучеником всей этой государственной безурядицы»{496}, тем самым свидетельствуя о неудаче официального толкования покушений.
Размышляя о террористических актах, представители общества использовали три разных образа государя. Формирование мнения о возможном цареубийстве зависело от того, кого именно видел в Александре II подданный – монарха, политика или человека.
Покушения на монарха
Анонимный корреспондент М.Т. Лорис-Меликова, уверяя в феврале 1880 г. главного начальника Верховной распорядительной комиссии, что он «средний человек», «масса», а потому может говорить от лица всего общества, писал: «Социалистические покушения задевают меня, по-видимому, не прямо, а в лице моего царя, но я ведь без него обойтись не могу. Если не станет Александра II, Александра III, если бы, наконец, не стало бы всех, то я непременно создам царя, потому что не могу жить без него, как без Бога»{497}. Это письмо – квинтэссенция такой модели восприятия монарха, когда значение имеет не конкретный носитель власти (можно убить Александра II, Александра III и всех прочих), а его сакральный статус «Помазанника Божия»: верноподданный не может жить без государя.
Вероятно, уверения дворян Санкт-Петербургской губернии, что они «с давних пор привыкли и с детства привычны к безграничной преданности царствующему государю» именно потому, что «в течение стольких веков» видели в нем «точку опоры и своего главу»{498}, равно как любые подобные высказывания в верноподданнических адресах, можно рассматривать как риторическую традицию, а не выражение искренних чувств. Дневник гимназиста VII класса В.В. Половцова (будущего известного ботаника), не предназначенный для чужих глаз, может отчасти опровергнуть подозрения в неискренности всех подобных заявлений. 27 марта 1881 г. он анализировал свою реакцию на сообщение об убийстве императора: «Странно как-то это: я никогда не видел государя, лично мне или даже, пожалуй, вообще дворянам он не сделал особенных благоволений, но все-таки я чувствовал к государю особенную привязанность, так что с радостью умер бы за него, по крайней мере, мне это так кажется»{499}.
Корреспонденты сановников, стараясь оправдать свое обращение к высочайшим адресатам, порой ссылались не на право представителя общества, озабоченного политическими неурядицами, но на более священное право: «Каждый честный верноподданный должен стремиться, чтобы снасти своего обожаемого государя», – писал 5 марта 1880 г. капитан А. Андреев М.Т. Лорис-Меликову{500}. Тот же долг верноподданного побуждал свидетельствовать «чувство искреннейшей и глубочайшей верноподданнической преданности к возлюбленному монарху»{501}. Отставной коллежский асессор Ф.И. Закрицкий писал государю о «душевных страданиях», вызванных известиями о покушениях, которые не дают ему «покойно ни съесть куска хлеба, ни уснуть»{502}.
При таком взгляде на монарха верноподданнические чувства должны были быть сильнее любых других чувств, даже родительских. Примером последнего может служить письмо болховского уездного предводителя дворянства В. Филатова, который обещал министру внутренних дел отказаться от своего сына, если тот окажется замешан в каком-либо политическом деле, мотивируя это «беспредельной преданностью» государям и Отечеству{503}. Даже если не верить обещаниям отца, который таким образом, вероятно, пытался выгородить своего сына, арестованного 3 марта в Петербурге по подозрению в принадлежности к «противозаконному сообществу», это письмо нельзя сбрасывать со счетов. Оно демонстрирует если не то, что чувствует верноподданный, то, во всяком случае, что ему должно чувствовать. Случай семьи Филатовых был не единственным. И.С. Мережковский, чиновник дворцового ведомства, 1 марта 1881 г., услышав от старшего сына Константина речь в защиту «извергов», «закричал, затопал ногами, чуть не проклял сына и тут же выгнал его из дому»{504}.
Отдельные случаи семейных неурядиц легко было перенести на отношения общества к террористам: даже если они – «дети» русских «отцов», это обстоятельство не должно служить для смягчения их участи, потому что они смеют посягать на царя. Штабс-капитан И.И. Астапов, корреспондент московского генерал-губернатора, «старый кавказец», обещал сделать «военный суд и расправу» над своими сыновьями-студентами, если те «не будут меня почитать». Своим отношением к детям он хотел явить пример для подражания: так же надлежит поступать правительству с бунтующей молодежью{505}.
Безусловное осуждение любых покушений на монарха в силу того, что он является «Помазанником Божьим», влияло на рассмотрение других вопросов, которые поднимали события 1879–1881 гг. Возможно было осознавать несовершенство системы образования, видимый упадок религии, произвол администрации и т. д., но ни одно из этих обстоятельств не могло послужить для оправдания действий террористов в глазах тех представителей общества, которые считали, что государь должен быть «неприкосновенен»{506}.
Представление о русском монархе как о «Помазаннике Божьем» существовало во многом отдельно от личности правителя, находящегося в тот или иной момент у власти. И.Д. Делянов, проговорившийся, что цареубийство в принципе возможно, лишь бы оно совершалось с соблюдением «приличий», т. е., устраняя конкретную личность, не наносило бы удар по идее неприкосновенности священной особы государя императора, в своих взглядах не был одинок. С.Ю. Витте в воспоминаниях утверждал, что некоторые из «самых близких к покойному государю» людей в ответ на его расспросы о гипотетическом продлении царствования Александра II еще на десять лет высказывали мнение, что в этом случае «главное влияние утвердилось бы в совершенно невозможных руках». При этом они добавляли: «Об этом не надо говорить, чтобы не ослабить силу сокрушающего впечатления, которое может в будущем укрепить и нравственно объединить Россию»{507}.
Покушения на человека
Размышлявшие о цареубийстве представители русского общества редко поднимались до такого уровня абстракции, чтобы не замечать, что террористы покушаются именно на Александра II. Отношение к личности монарха явно или неявно присутствует в большинстве рассуждений о террористических актах «Народной воли».
Р. Уортман пишет о том, что все правление Александра II было основано на «сценарии любви». Официальная пропаганда подчеркивала такие черты личности императора, как любовь к подданным, доброту, жертвенность{508}. Обращаясь к власти, подданные апеллировали к образам царя-освободителя, предлагавшимся официальной пропагандой и поддерживавшимся церковью и легальной печатью. В письмах и стихотворениях, адресованных Александру II и Александру III, упоминались «великие и достославные благодеяния светлого и радостного для России царствования»{509}. Императору приписывалось желание «освобождать людей, чтобы все назывались людьми без различия и чтобы никто не сделал зла ближнему»{510}. Речь шла не только об отмене крепостного права («Который среди всех невзгод / Из рабства вывел свой народ»{511}), но и об освобождении братьев-славян («И за скалистыми горами / Мильонам Ты свободу дал»{512}). При этом, казалось, подданным куда важнее были черты христианина («во всем мире не было и нет из царей подобных на земле ангельской души Твоей от начала мира, чтобы из царствующих особ кто бы так сердобольно ходил по баракам на войне за больными»{513}), чем политика. Упоминания о даровании «нового суда»{514} терялись среди рассказов о спасении «убогих» от «нужд и лишений», любви к детям и т. п.{515}
Особенный интерес представляет мотив милосердия «царя-ангела» к покушающимся на него «злодеям». Сюда относится не только помилование части преступников, осужденных на казнь по делу 16-ти{516}, но и приписанные Александру II Я. Постоевым в записке министру народного просвещения А.А. Сабурову слова резолюции на делах преступников-гимназистов: «Это не преступники, а дети. Оставьте их без третьего блюда»{517}. Наиболее полно отношение монарха к террористам было описано в стихотворении Б. Гроссмана:
Ты снисходил порой, как Бог,
Ты много зла прощал,
Ты всем врагам отмстить бы мог,
А ты о них страдал…{518}
Уверенность, что Александр II – «человек дивного сердца», по отношению к которому «просятся на уста слова: “твое бо есть еже милостивны”»{519}, находим не только в записках, предназначавшихся высочайшим корреспондентам, но и в дневниках современников{520}. Важно подчеркнуть, что на рассуждения о личных качествах императора их авторов провоцировали сообщения об очередном покушении. Образ «царя-ангела» приходил в непреодолимое противоречие с попытками цареубийства. Гласный Санкт-Петербургской городской думы Н.В. Латкин, размышляя о покушениях, писал: «Все отдают Ему (Александру II. – Ю.С.) должную справедливость, сожалеют Его, говорят, что истинно Он добрый человек, любит Россию и свой народ… А смотрите, в Его Императорское Величество стреляют, Его хотят взорвать на воздух, как нелюбимого человека, а между тем все и вся Россия искренне Его любит и, вероятно, те же самые социалисты не могут не сознавать истины, что он добрый монарх и любит свой народ (курсив мой. – Ю.С.)»{521}.[39]39
Журналист Г.К. Градовский выразил в воспоминаниях похожее недоумение: «Ведь это был царь-освободитель, а не какой-нибудь Аракчеев (Градовский Г.К. Историко-политические очерки и статьи. Киев, 1908. С. 54).
[Закрыть]
Решения вопроса о том, как возможны покушения на «доброго государя», предлагались разные. Известный хирург Н.И. Пирогов приписывал террористам отношение к монарху именно как к символической фигуре, утверждая, что ими движет ненависть не к государю, но к государственности{522}. После цареубийства он писал в дневнике: «Высоко гуманная личность Александра II не могла быть прямой целью цареубийства»{523}. Другой возможный ответ на этот вопрос был тесно связан с мнением о внутреннем положении страны. Не государем, но правительством «недовольны многие, почти все на Руси»: Александр II оказался заложником этого недовольства{524}. Наконец, существовал ответ, вытекавший из идеи верноподданнической любви: «Нелюбим ими (цареубийцами. – Ю.С.) был Благодетель»{525}.
Признание высоких личных качеств Александра II не гарантировало одобрения его внутренней политики или частной жизни. Примером может послужить Б.Н. Чичерин, который, считая императора за «благодушного монарха, совершившего величайшие дела, заслужившего беспредельную благодарность всех русских людей», писал в воспоминаниях, что «провидение», послав императору мученическую смерть, избавило его от «позора» коронации Е.М. Юрьевской (Долгорукой){526}. Скандальный роман Александра II, завершившийся заключением брака 6 июля 1880 г., немало способствовал подрыву личного авторитета монарха. 2 января 1881 г. К.П. Победоносцев в письме к Е.Ф. Тютчевой писал: «Прости, Боже, этому человеку (Александру II. – Ю.С.) – он не ведает, что творит, и теперь еще менее ведает. Теперь ничего не отличишь в нем, кроме Сарданапала. <…> Даже все здравые инстинкты самосохранения иссякли в нем: остались инстинкты тупого властолюбия и чувственности»{527}. Если обер-прокурор Синода искренне негодовал из-за нарушения нравственности, то недовольство бюрократии по большому счету вызывалось отнюдь не «аморальностью» ситуации, а влиянием Е.М. Долгорукой и ее окружения на императора, приводившего к перераспределению власти{528}. Соединение возмущения попранием нравственных принципов с опасениями чрезмерного влияния любовницы на государя рождало порой гневные тирады. Предводитель петербургского дворянства А.А. Бобринский в ноябре 1880 г. посвятил «madam Екатерине Третьей» несколько страниц своего дневника, приводя в качестве экспертного мнения «народа» и «третьего сословия»: «Как они себя позорят! <…> Мы все кутили, я сам был студентом, такие дела скрываются, а не выставляются напоказ»{529}. В этих наблюдениях А.А. Бобринского видно прежде всего его собственное негодование, справедливость которого он подчеркивал, ссылаясь на мнение «города». Слухи о Е.М. Юрьевской проникали далеко за пределы столицы, мешаясь с другими известиями об императоре. В Полтавской губернии дворянин К.А. Чайковский, возмущенный требованием Статистического комитета сообщить о количестве земли в его имении, заявил в волостном правлении 10 февраля 1881 г.: «Наш государь женился на подданной и уехал за границу, а от нас требуют сведений, сколько у нас десятин»{530}. Землевладелец выступал против непопулярной меры, которую не следует проводить без того непозволительно ведущему себя монарху.
Петербургские сплетники попытались связать покушения на императора и его роман. Так, после взрыва в Зимнем дворце началось активное обсуждение, каким образом злоумышленникам удалось проникнуть в императорскую резиденцию. Хотя дворец находился вне сферы действия полиции, подчиняясь министру двора, ответственность за взрыв была возложена на петербургского временного генерал-губернатора И.В. Гурко. Е.М. Феоктистов, близкий друг последнего, в воспоминаниях утверждал, что А.В. Адлерберг препятствовал генерал-губернатору в подчинении дворца полиции, потому что там проживала Е.М. Долгорукая, ходить к которой с конвоем государю было бы «неудобно»{531}.
Предпринимались попытки обнаружить какую-то мистическую связь между «безнравственным» поведением императора и покушениями на него. Например, ходил слух о том, что преждевременная смерть ждет того из Романовых, кто женится на Долгорукой. При этом намекали на судьбу Петра II{532}. В то время как проповедники убеждали паству, что Бог наказывает русский народ за грехи, «попуская» совершаться покушениям, некоторые представители общества могли воспринимать их как «Божью кару» самому Александру II за «попрание божеских и людских законов»{533}.
Впрочем, династический скандал, активно использовавшийся революционной пропагандой для дискредитации Александра II, едва ли следует рассматривать как главный фактор, определявший отношение к императору как «мишени» террористов. Любовные похождения императора легко становились дополнительным поводом для негативной его оценки, но они же могли служить доказательством «дееспособности» шестидесятитрехлетнего монарха[40]40
Известная запись в дневнике А.С. Суворина со слов С.П. Боткина: «Александр II, отправляясь на смотр 1 марта, с которого он вернулся мертвым, повалил Юрьевскую на стол и…» (Суворин А.С. Дневник. С. 376).
[Закрыть]. При формировании мнения об Александре II, таким образом, на первое место выходило отношение к его внутриполитическому курсу.








