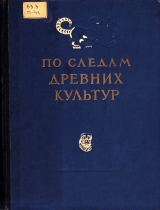
Текст книги "По следам древних культур"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Согдийцы в борьбе за независимость
Арабское нашествие началось в 30-х годах VII века. В начале VII века Аравийский полуостров переживал огромный кризис. Рабовладельческая система повсюду изжила себя, рабство переставало быть господствующим способом производства. Нарождались новые производственные отношения – феодальные. Однако арабы в массе были кочевниками-скотоводами, и лишь меньшинство жило в городах, занимаясь земледелием, ремёслами и торговлей. Кочевники в общественно-политической жизни играли огромную роль. В кочевой обстановке кризис рабовладельческой системы приобретал специфический характер. Феодальные отношения здесь нарождались чрезвычайно медленно, так как примитивные первобытные формы патриархальных отношений здесь очень задерживались и мешали нормальному росту феодализма. В начале VII века в Аравии происходил процесс сложения арабской народности из разрозненных племен северной и южной Аравии.
Государственной формой объединения последних и было арабское государство, основанное в 20-х годах VII века Мухаммедом. Идеологическим орудием этого последнего был ислам – новая религия, которую насаждал Мухаммед и его последователи. После смерти Мухаммеда (632) государство арабов получило наименование халифата. Господствующим классом в халифате были представители арабской военно-кочевой знати, которые еще оставались рабовладельцами, поскольку новые формы феодальной эксплуатации только нарождались и развивались к тому же медленно. Ясно, что при таких условиях большая часть кочевников (бедуинов) оставалась свободной.
На завоевания арабов толкало главным образом стремление к богатой добыче. Не случайно одна из сур Корана[23]23
Сура корана, т. е. глава корана.
[Закрыть] – «сура о добыче» – узаконила грабёж покорённого населения, буде оно не принадлежало к мусульманам, а такими тогда были все страны за пределами собственно Аравин.
Военно-кочевая знать арабов широко пропагандировала среди бедуинов походы против неверных, обещая им в этом мире богатую добычу, а в загробном – райскую жизнь. Известно, что арабы завоевали в 30–50-х годах Сирию, Палестину, Египет, Иран. Победы арабов объясняются не столько их силой, сколько слабостью Византии и Ирана, тем кризисом, который они переживали в связи с обострённой классовой борьбой, происходившей на почве развития в этих странах феодальных форм эксплуатации. Иран, как известно, окончательно перешёл в руки арабов только после 651 года, когда взят был Мерв – главный город на востоке сасанидского иранского государства. Только после захвата Мерва и укрепления власти в Иране арабы получили возможность дальнейшего наступления на восток, на культурные оазисы Средней Азии. Арабы свои походы в области среднеазиатского Междуречья начали ещё в 70-х годах VIII века, в период, когда уже сложился Омеядский халифат с центром в Дамаске. Походы эти первоначально носили чисто грабительский характер. Таковы были походы Убейдуллаха-ибн-Зияда в 674 году и Саида-ибн-Османа в 676 году. Арабы своей штаб-квартирой имели Мерв; отсюда они выходили ранней весной в поход, переходили через Аму-Дарью, нападали на Пейкенд, Бухару и Самарканд, захватывали большую добычу и уходили к зиме обратно на южный берег Аму-Дарьи. Добыча в Средней Азии была всегда богатой – в неё входили скот, пленники, пленницы, обращаемые в рабов, ткани, оружие, золотые и серебряные сосуды, зерно, хлопок, шёлк-сырец и т. д. Согдийцы и другие народности оседлой Средней Азии первоначально не придавали особенно большого значения арабским набегам, считали их временным бедствием и поэтому не прилагали больших стараний к объединению своих сил для борьбы с ними. Правда, арабоязычный историк начала X века ат-Табари привадит указание, что среднеазиатские владетели иногда пытались найти общие для всех мероприятия против врагов на съездах, имевших место зимой вблизи Хорезма, однако действенной роли эти попытки не играли.
В начале VIII века, когда в самом Омейядском халифате в среде господствующего класса арабов закончились смуты, а также подавлены были народные движения и арабская кочевая знать в Сирии вновь укрепилась у власти, арабские военачальники по приказу Хаджаджа – наместника Ирака, которому подчинены были все области на Востоке, начали систематическое завоевание областей Средней Азии, лежащих на север от Аму-Дарьи, по-арабски – Мавераннахра, т. е. того, что лежит за рекой (Аму-Дарьей). Военные операции были поручены Кутейбе-ибн-Мус-лиму, одному из военачальников, вышедших из школы Хаджаджа.
Походы Кутейбы-ибн-Муслима начались в 704 году и закончились его смертью в 715 году. За эти 11–12 лет Кугейба захватил почти все главные города, лежавшие в долинах Аму-Дарьи, Катка-Дарьи, Зеравшана, Ангрена и Чирчика. Кутейба был жестоким полководцем и хитрым политиком. Он стремился раздуть разногласия между отдельными среднеазиатскими владетелями, привлечь обещаниями на свою сторону одних и использовать их против других владетелей. Однако победы Кутейбы-иба-Муслима, занятие им главных городов среднеазиатского Междуречья, выражение покорности со стороны отдельных среднеазиатских владетелей не обозначали еще фактического подчинения страны арабам. Свободолюбивое земледельческое население – жители Согда, Усрушаны, Бухарского оазиса, владений в долине Кашка-Дарьи (Кеш, Нахшеб) – не мирилось с арабской властью и использовало любой подходящий случай, чтобы выгнать непрошенных завоевателей.
Вместе с завоеваниями арабы всеми способами распространяли ислам. Последнему они придавали исключительное значение, так как тот, кто его принимал, тем самым признавал себя сторонником арабской власти и обязывался её активно поддерживать. Естественно, что в то время все, кто любил свою родную землю, родной дом, кому дороги были с детства родной язык, родные обычаи, праздники, старые песни и т. д. не могли мириться с завоевателями и крепко цеплялись за все свое родное, вплоть до старой привычной религии. Известно, что народные массы во все эпохи классового общества в годы потрясений и бедствий более, чем господствующие классы, являются патриотами своей страны. Такими и были в VII–VIII веках согдийские земледельцы. Было бы неверным утверждать, что все согдийские дехкане и купцы быстро перешли на сторону завоевателей под влиянием три или иной с их стороны подачки. И среди них находились люди, которые проявляли себя как любящие свою страну и непримиримые борцы за ее независимость. Однако таких людей в наиболее ответственные моменты было в господствующем классе меньшинство. В целом же в среде титулованных владетелей, крупных землевладельцев и купцов были большие колебания. Когда согдийская знать была уверена в своей победе, она оказывала сопротивление арабским войскам; напротив, когда считала, что проигрывает, то стремилась договориться с врагами и выговорить себе не только свои земли и имущество, но и некоторую долю власти, хотя бы в качестве покорных слуг арабов в своих владениях. Были и такие представители среднеазиатской землевладельческой знати, которые прямо переходили на службу к арабам, принимали ислам, становились под покровительство того или иного арабского племени и делались иногда послушным орудием в руках арабских военачальников.
После смерти халифа Сулеймана в 717 году в молодом арабском халифате наступили трудные дни: недовольство арабскими насилиями в покоренных странах было настолько велико, что народные восстания могли смести арабскую власть, в силу чего новый халиф Омар II (717–720) сделал было попытку облегчить положение в завоеванных странах, в том числе и в Средней Азия, однако его наместник ал-Джаррах-ибн-Абдаллах этого намерения не выполнил и продолжал насильственную политику Кутейбы-ибн-Муслима. Из миролюбивой попытки Омара II ничего не вышло, да и сам он скоро скончался.
Назначенный вскоре наместником Хорасана и Мавераннахра Сайд ал-Хараши целиком вернулся в политике насилия, считая, что только суровыми наказаниями можно будет держать согдийцев в покорности арабской власти. Согдийцы по всей долине Зеравшана были возмущены первыми мероприятиями нового арабского наместника. Однако соотношение сил тогда было неблагоприятно для согдийцев, в силу чего они не могли выступить открыто с оружием в руках. Вот почему, не желая подчиняться арабам и не имея сил к сопротивлению, жители Самарканда в 721 году решили покинуть родной город а уйти в Фергану, в Ходжент, царь которого обещал предоставить им временное убежище.
Самаркандским афшином и согдийским нхшидом тогда был Гурек (710–737). Это был человек, который всё время метался в своей политике. Чтобы сохранить власть в своих руках, он всячески подчеркивал свою верность арабам, однако, когда видел, что почва у арабских военачальников колеблется и народ может в своей борьбе за независимость победить, он (Гурек) с опаской переходил на сторону народа.
Гурек не сочувствовал намерению самаркандцев покинуть город и всячески их отговаривал от этого, однако последние не послушали своего афшина и покинули Самарканд. К жителям Самарканда присоединились и жители соседних согдийских владений, расположенных ниже Самарканда, в долине Зеравшана. Среди этих мелких владетелей был Карзандж, ставший во главе «самаркандского выхода», а также Сабас с людьми Иштихана, Джаландж с людьми Фая (канал Нарпай), дехкане Бузмаджана и др. Все эти отряды, численность которых трудно было определить, направились к Ходженту. Ходжентский царь, которого звали ат-Тар, обещал предоставить ущелье Исама в рустаке (волости) Асфары. На самом деле ходжентский царь оказался предателем и послал своего сына к арабскому наместнику ал-Хараши с предложением захватать самаркандцев и других согдийцев и Ходжента. Даже осторожный Карзандж не подозревал о подлом предательстве ходжентского царя. Ал-Хараши между тем действовал быстро и решительно. Он прошёл Усрушану, договорился с её владетельными фамилиями о покорности и вассалитете и начал энергичную осаду Ходжента, где укрылась большая часть согдийцев. Конечно, ат-Тар не оказал им никакой помощи. Только теперь они поняли, что были преданы. Борьба для них была безнадежна, и они решились запросить мира. Ал-Хараши предложил, казалось, приемлемые условия. Однако и это был обман. Вскоре после того как они сдали оружие, их подвергли почти полному избиению. Остались в живых только 400 согдийских купцов, незадолго перед этим вернувшихся с товарами из Китая.
Арабоязычный историк ат-Табари, приведший этот рассказ, указывает, что одновременно с выходом согдийцев в Ходжент имел место также уход в горы жителей Пянджикента во главе с владетелем Дивашгичем вверх по Зеравщану, Диваштич вместе с жителями Пянджикента вышел к селению Урмитан, а оттуда к замку Абгар, точнее Абаргар, развалины которого и по сей день находятся высоко в горах, в том месте, где горная речка Кум впадает в Зеравшан.
Трудно сказать, каковы были намерения у Диваштича и пянджикентцев. Намеревались ли они также пройти к Ходженту через Шахристанский перевал, каковая дорога была для них короче, чем через Самарканд, или они собирались выждать временно в горах? Фактом остаётся, что арабы их преследовали и заставили укрыться под защиту указанного выше замка Абаргар, известного ныне под названием «Замка на горе Муг».
Уход Диваштича и его людей имел для них такие же печальные последствия, как и для самаркандцев, Ал-Хараши отправил против Диваштича отряд во главе с Сулейманом-ибн-Абу-с-Сари, человеком местного, повидимому мервского, происхождения, принявшим ислам и целиком перешедшим на службу к арабам. При халифе Омаре II (717–720) он служил крупным чиновником в должности начальника почтовой службы. Верность его халифату и жестокость к согдийцам были достаточно испытаны, почему Сайд ал-Хараши к доверил ему дело ликвидации Диваштича и его отряда. Характерно, что в составе арабского войска, отправленного в горы против последнего, были также отряды хорезмшаха Шаукара-ибн-Хамука, одного из членов дома бухар-худатов, и, наконец, Гурама – царя Ахаруна и Шумана. Фактические операции против Диваштича вел арабский военачальник ал-Мусейяб.
Пянджикентды сделали вылазку из замка на горе Муг (Абаргара). Встреча с отрядом ал-Мусейяба произошла в 5 километрах от замка, в теснине у селения Кум, Здесь Диваштич и его отряд были разбиты, остатки пянджикентцев вернулись в замок, который и осадили арабы. Положение пянджикентцев оказалось очень трудным. Диваштич, увидев бесполезность борьбы, решил лично сдаться при условии, если его отправят в руки самого ал-Хараши. Последний принял Диваштича с почётом, обещал сохранить ему жизнь, а через некоторое время коварно убил его, распяв на наружной стене науса, и согласно зверскому обычаю голову отослал в Ирак, а левую руку Сулейману-ибн-Абу-с-Сари в Тохаристан, на юг Таджикистана.
После сдачи Диваштича в плен, пянджккентцам ничего не оставалось, как открыть ворота замка, прося лишь сохранить жизнь ста семьям. В замке Абаргар было много всякого добра, которое при уходе из Пянджнкента его жители захватили с собой. Узнав об этом, ал-Хараши отправил специально уполномоченных людей для приёма и раздела добычи. Характерна одна деталь рассказа ат-Табари. По его словам, была устроена распродажа захваченной добычи. Одну пятую часть добычи Сулейман-ибн-Абу-с-Сари, согласно обычаю, взял как долю халифа, а остальное разделил между воинами.
Развалины древнего Пянджикента
В 68 километрах от Самарканда, вверх по Зеравшану, у входа в горные ущелья Магиан-Дарьи и Кштута, лежит районный центр Пянджикент.
Расположенный на левом берегу Зеравшана, он, если окинуть его взглядом с высоты любого холма, которых много вокруг Пянджикента, радует глаз густой зеленью своих полей и садов.
В настоящее время он славится своими рисовыми полями, орехами, урюковыми рощами и виноградниками. Трудолюбивые таджикские колхозники возделывают здесь каждый клочок земли. Колхозы Пянджикента с каждым годом становятся богаче и культурнее. Колхозники строят школы, клубы, кино, колхозная молодежь кончает школу, учится в техникумах, а некоторые поступают в вузы.
Как и многие другие селения и города Таджикистана, Пянджикент – древнее поселение, возникшее, по всей вероятности, ещё до нашей эры. Археологическое обследование Пянджикента и его ближайших окрестностей, а также изучение древних письменных памятников показало, что долгая историческая жизнь его протекала в трех местах, отделенных друг от друга значительным расстоянием.
Древний Пянджикент, прекративший свое существование после разгрома, учиненного ему арабами еще в первой половике VIII века, находился в полутора километрах от современного Пянджикента, на юго-восток от него, по дороге в селение Кош-Тепе. От древнего Пянджикента в настоящее время осталось прекрасное городище. Оно является одним из самых важных объектов изучения Согдийско-таджикской археологической экспедиции, которая проводится силами Института истории материальной культуры Академии наук СССР, Института истории, языка и литературы Таджикского филиала Академии наук СССР и Государственного Эрмитажа.
Средневековый Пяндждкент, описанный вкратце арабоязычными географами X века, был расположен в 4 километрах выше от современного Пянджикента на том же левом берегу реки Зеравшан. Это городище также представляет собой большой интерес в археологическом отношении, хотя и не является таким цельным памятником, как городище древнего Пянджикента. Пока, при современном уровне наших знаний, трудно сказать, когда прекратилась в нем жизнь и, следовательно, когда перешла она на территорию современного города, точнее, районного центра, каким является современный Пянджикент.
У подножья северного склона городища протекает арык, берущий воду в Магиан-Дарье и носящий тюркское название «сТоксан-Кариз:», что значит «девяносто каризов».
Сухое русло сая, который знает только дождевые воды, и тянущаяся параллельно руслу современная дорога делят большое городище на две неравные части. Направо, т. е. на запад, находится холм, на котором расположены остатки древнего замка-крепости (кала, диз, кухендиз, арк-цитадель), налево, т. е. на восток, раскинут сам город, или, как говорят письменные источники на таджикском и персидском языках о подобных поселениях, шахристан.
Вблизи подножья северного склока цитадели, через дорогу от неё, бьёт замечательный источник Кайнар-су, далеко за пределами Пянджикента известный своей вкусной водой и красивым тенистым местом.
Шахристан лежит на естественной возвышенности. До настоящего времени сохранились остатки его стен и башен, сильно оплывших за долгие века, прошедшие с того времени, когда они служили защитой городу. В окружности шахристан древнего Пянджикента имеет 1750 метров. Площадь его равна 19 гектарам. В плане шахристан не представляет прямоугольника. Только северная его сторона даёт почти прямую линию. Приближается к прямой линии и восточная сторона; здесь прямолинейность нарушается поставленной стеной, которая в чисто фортификационных целях выведена кривой линией с острыми углами для помещения на них оборонительных фланкирующих башен. Что касается южной и западной стороны, то здесь линия стен повторяет изгиб естественной возвышенности, на которой был расположен небольшой древний город.

Здание III. Помещение № 13. Вид внутри. Часть рухнувшего священного очага

Шахристан древнего Пянджикента. Водопровод из обожжённых глиняных труб. Первая половина VIII века
Указанные развалины и представляют собою то, что осталось от древнего города Пянджикента, прекратившего жизнь ещё в половине VIII века. Письменные источники очень скупо рассказывают нам о древнем Пянджикенте и ни слова не говорят о том, когда же прекратилась в нем жизнь. На этот вопрос нам отвечают только материалы, добытые археологическим путем. Городище шахристана все покрыто буграми, особенностью которых является их необычайная однотипность. Бугры лежат близко один к другому. Опытный глаз археолога сразу определит, что все они искусственного происхождения, Согдийско-таджикская археологическая экспедиция, проработавшая на городище уже четыре летних раскоп очных сезона, имела возможности убедиться, что каждый из этих бугров представляет большое одноэтажное или двухэтажное здание, выложенное из сырцового кирпича. Значительно реже встречаются стены или нижние части стен, выложенные из пахсы[24]24
Пахсы – лёссовая глина, специально приготовленная для кладки стен.
[Закрыть], надрезанной под блоки. Зданий, выложенных только из пахсы, мы пока не встречали.
Однородность и однотипность бугров сама по себе уже ставит вопрос об одновременности гибели поселения, которое располагалось на городище. Характерно, что ни находки подземного керамического материала, ни заложенные нами шурфы с целью выяснения культурных слоев, ни раскопки бугров, когда открывались большие многокомнатные здания, ни другие виды раскопок на городище не дали нам археологического материала, который позволил бы сказать, что на городище древнего шахристана Пянджикента была жизнь после VIII века, т. е. в IX, X и более поздних веках.
Монеты на городище встречаются в подавляющем количестве согдийские, всех известных нам видов, включая и новые, прежде не известные типы, с квадратными отверстиями и без них, относящиеся преимущественно ко второй половине VII и началу VIII века. Имеются экземпляры и более ранние. Встречаются на городище и арабские монеты, но все они омейядские или раннеаббасидские, не старше 60-х годов VIII века. В шахристане до настоящего времени не встречено поливной посуды хотя бы в самых незначительных фрагментах, которые можно было бы отнести к IX–X векам, т, е. ко времени господства таджикских династий Тахиридов и Саманидов. Характерно, что ни в самом шахристане, ни за пределами его, в ближайших его окрестностях не находится мусульманского кладбища или по крайней мере мусульманских могил. Все находимое нами, напротив того, указывало и указывает, что полнокровная жизнь здесь была в VI, VII, VIII веках, причем в VIII веке только в первой его половине.
Характерной особенностью городища древнего Пянджикента нужно признать также, что подавляющее большинство его построек было монументальными зданиями, чего никак нельзя сказать про города феодальные. В настоящее время феодальный город Средней Азии с точки зрения всего внешнего историко-топографического облика выявлен достаточно четко и ясно. Феодальные города в Средней Азии в основном сложились уже к концу X века и закончили процесс своего оформления в XI веке. Как правило, в центре такого города находится базар, состоящий из совокупности ремесленных кварталов (махалла), в каждом из которых помещаются ремесленники одного какого-нибудь производства (медники, ножовщики, керамисты, деревообделочники, золотых и серебряных дел мастера, портные и т. д.), а также кварталы торговцев. В центре такого базара, который является не только местом производства, но и торговли, находится, как правило, крытый рынок (чорсу)[25]25
Иногда таких чорсу бывает несколько.
[Закрыть].
Главные улицы на базаре покрыты крышами, которые летом предохраняют от палящих лучей солнца, а осенью и зимой от дождя и снега. В центральных местах феодального города помещались также мечети, медрессе, дворцы правителей, здания диванов и т. д. Большинство построек феодального города принадлежит к постройкам легкого типа, чаще всего к каркасным строениям. Монументальных зданий в феодальных городах немного, к ним относятся дворцы правителей, мечети, медрессе, здания диванов к т. д. Древний Пянджикент таким феодальным городом не был никогда, он до победы феодализма и не дожил. Его расцвет приходится главным образом на дофеодальный период истории Средней Азии, что, естественно, и отразилось на топографии города и характере его построек. На основании письменных источников (сочинения на арабском и таджикском языках, составленные преимущественно в IX–X веках) мы знаем, что в городах Средней Азии до арабского завоевания, т. е, до VII – начала VIII века, подавляющее число зданий было крупными строениями. Дома в дофеодальном городе (шахристане) принадлежали местным дехканам. Семьи были тогда патриархальными, т. е. включали не только отца, мать, детей, деда, но и дядей, племянников и т. д. В некоторых шахристанах, как, например, в домусульманской Бухаре, около таких крупных дехканских домов имелись небольшие усадьбы с садом, цветником, В шахристанах, кроме таких дехканских жилищ, находились культовые постройки, т. е. храмы огня, храмы в честь местных божеств, маиихейские храмы, несторианские церкви, буддийские и др. Храмы были крупными зданиями. В дофеодальных городах Средней Азии, кроме дехкан и членов их семей, а также служителей домусульмайских культов, жили ещё купцы, среди которых имелись и иноземцы. Свободных ремесленников в городах того времени было мало, и их мастерские-лавки стаяли на окраинах городов у городских стен или сейчас же за их пределами, на территории городского предместья, которое в арабо– и персоязычных источниках IX–X веков именуется термином «рабад».
Однако небольшое число свободных ремесленников не исчерпывает всего ремесленного производства в дофеодальном городе, так как в каждой дехканской семье имелись ремесленники-рабы, которые своими изделиями и удовлетворяли многие нужды своих господ-рабовладельцев.
Вернёмся, однако, к развалинам древнего Пянджикента. Итак, самой характерной чертой его шахристана является отмеченная выше монументальность его построек.
Согдийско-таджикская археологическая экспедиция за четыре года полевых раскопочных работ имела возможность убедиться в том, что каждый из раскопанных и раскапываемых ее сотрудниками бугров представляет собой крупное здание не меньше чем в десять комнатных помещений.
У шахристана древнего Пянджикента имеется ещё одна особенность, которую также необходимо отметить. Бугры – остатки зданий – стоят близко один к другому. Между ними небольшие полосы свободной земли, что исключает возможность видеть в зданиях строения усадебного типа. О садах и цветниках в шахристане древнего Пянджикента не может быть и речи. Повидимому, подобные усадьбы лежали за пределами городища древнего Пянджикента непосредственно на восток, где и сейчас видны бугры от зданий, лежащие друг от друга на расстоянии 200–300 метров.
Выше указывалось, что арык Токсан-Кариз проходит у подножья северного склона городища, значительно ниже его поверхности, и, следовательно, не мог в условиях техники VI–VIII веков орошать древний Пянджикент и его предместья. Однако город не мог жить без воды, которая питала бы его дома. Откуда же поступала вода? Ответ на этот вопрос дать нетрудно. В настоящее время узбекский кишлак Кош-Тепе, лежащий в 2 километрах на юго-восток от городища древнего Пянджикента, получает воду для своих полей и садов из горного сая[26]26
Сай – небольшая горная речка.
[Закрыть].
Кош-Тепе не является единственным кишлаком, который питается за счет воды из горных саев; на юг от городища имеется еще несколько мелких поселений подобного рода. В древности, когда в районе города еще не было мощной оросительной сети в виде арыков, выведенных из крупных рек, вода из горных саев играла большую роль. В связи с саями и сами поселения прижимались к горам.
Древний Пянджикент получал воду, несомненно, из тех саев, которые питают в настоящее время упомянутые выше селения и Кош-Тепе в первую очередь. Как же поступала вода на территорию городища, в шахристан Пянджикента? Следов арыков внутри стен в шахристаке нет. Перед экспедицией уже с самого начала раскопок встал вопрос о возможности нахождения водопроводных труб на глубине 1,5–2 метров внутри городских стен. Специальных поисков мы не вели, почему к открыли их с некоторым опозданием, поводя, раскапывая одно из зданий только на четвертый год раскопочных работ.
Водопроводные трубы, или кубуры, известны в городах Средней Азии не только при феодализме, но и в древности, в рабовладельческую эпоху. Делались они из обожженной глины. Водопровод вскрыт нами почти в самом центре города во время раскопок здания I (домусульманский храм) на участке, примыкающем к углу северной ограды двора.
На вскрытом участке оказались две линии водопроводных труб из обожженной глины. Одна – главная – линия в направлении с востока на запад, другая – ее ответвление – в направлении с юго-востока на северо-запад. Линии оказались сложенными из отдельных труб, у которых один конец широкий, другой узкий. Узкий конец каждой предыдущей трубы вставлен в широкий – последующей. Диаметр труб главной линии в широком конце 24 сантиметра, а боковой 14 сантиметров. Уже само направление главной линии кубуров с востока на запад указывает, что вода из арыков, берущих начало в горных саях, поступала на территорию города Пянджикента с востока. Войдя в генеральную линию кубуров, она затем расходилась по боковым ответвлениям. Надо думать, что главных линий, по которым вода входила в древний Пянджикент, было несколько. Пока нами открыт небольшой пучок кубуров; конечно, это только начало; по мере расширения раскопочных работ откроются и новые участки водопроводной сети.
Были ли в древнем Пянджикенте хаузы – бассейны, где хранилась вода? Ответить на этот вопрос пока невозможно.
Существовал ли, однако, Токсан-Кариз, протекающий ныне у подножья северного склона городища, в период существования древнего Пянджикента? Нам приходилось уже указывать, что название Токсан-Кариз по первой часта – узбекское, повидимому, оно сменило древнее его согдийское наименование, что часто происходило в местностях, где вместе с появлением тюркрязычного земледельческого населения сменялись древние восточнонранские наименования на новые тюркские.
Мы уже говорили, что «Токсан-Кариз» значит «девяносто каризов». Слово «кариз» указывает, что мы здесь имеем дело с подземным каналом. Под каризами обыкновенно подразумевают каналы, вырытые под землей с таким расчётом, чтобы они выводили подпочвенные воды на поверхность земли. Однако имеется ещё один тип каризов, который встречается в горных или предгорных местностях.
Задача этих каризов – передать воду из реки, преодолевая какую-нибудь возвышенность, которую нельзя по каким-либо причинам обойти. В Пянджикентском районе подобные каризы в древности и средние века, как в районе предгорном, были обычным явлением. Токсан-Кариз и относится к этому горному или предгорному типу. Воду Токсан-Кариз берёт в Магиан-Дарье, впадающей в Зеравшан приблизительно в 10 километрах от Пянджикента, на восток от него.
Теперь Токсан-Кариз на всем своем протяжении обычный большой арык, текущий по поверхности земли, но еще недавно, в 20-х годах, подземная, т. е, каризная, его часть действовала. Кдризов, как и следует из самого названия «Токсан-Кариз», было 90. Собственно говоря, не каризов, а каризных колодцев, которые их соединяли. Несколько слов о последних. Колодцы являются неотъемлемой частью кариза. Их роль чисто подсобная: они вырыты для того, чтобы через них выбрасывать землю при проведении подземного канала или при его очистке. Итак, кариз – подземный канал – пересекает возвышенность протяжением приблизительно в 2 километра; на этом участке и расположены 90 колодцев. Экспедиции удалось обмерить 20 первых колодцев. Здесь нет надобности приводить таблицу проделанных измерений. Приведём только несколько обобщающих данных. Кариз начинается вблизи выхода канала из Магиан-Дарьи. Расстояние между колодцами от 22 до 46 метров при средней цифре 31–32 метра. Глубина колодцев достигает иногда 30 метров, хотя имеются колодцы и в 5 метров. Диаметр входного отверстия колодца от 1 до 1,8 метра.
Нечего и говорить, сколь трудоемка была работа по проведению таких каризов. В древности и раннем средневековье проведение каналов осуществлялось всегда при помощи рабского труда. Трудоёмкой была, конечно, и работа по очистке Токсан-Кариза. Куда же шла вода по Токсан-Каризу? Она тогда, как и сейчас, орошала земли, лежащие ниже города древнего Пянджикента и тянущиеся непосредственно на север и северо-запад от него. Здесь находились ближайшие дехи – селения, входившие в Пянджикентское владение.








![Книга Земли Южной Руси в IX–XIV вв. (История и археология) [Сборник научных трудов] автора Петр Толочко](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zemli-yuzhnoy-rusi-v-ixxiv-vv.-istoriya-i-arheologiya-sbornik-nauchnyh-trudov-251305.jpg)