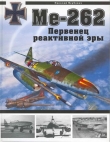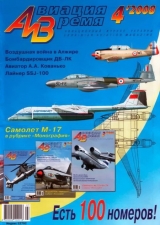
Текст книги "Авиация и время 2008 04"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
18 июня состоялся боевой дебют легких штурмовиков MS 733 из EALA 6/70, прямо скажем – неудачный. Совместно с «Тандер– болтами» они наносили удары по позициям АНО в Неменче. В первом же вылете подбили комэска к-на Гурэ. Затем настала очередь сержантов Деларю и Ляфрансэз, раненных в ноги. Под прикрытием истребителей им удалось добраться до ближайшего аэродрома. К концу дня были повреждены еще 3 самолета. На следующий день наведение истребителей осуществлял экипаж в составе сержанта Ривьера и аспиранта Фаццио. Огнем с земли пилотировавший самолет Ривьера был смертельно ранен, и машина рухнула на территории, контролируемой муджахидами. Фаццио получил серьезное ранение и, казалось бы, попал в смертельную ловушку, но боевые товарищи спасли его.
15 июля в районе гор Филлусен в Западном Алжире экипаж «Пайпера» обнаружил крупный отряд АНО, против которого бросили легионеров 5-го пехотного полка на четырех Н-19 в сопровождении легкого Н-13. Арабы оказали серьезное сопротивление. У французов 15 человек погибли, а 26 получили ранения, в т.ч. один из вертолетчиков – л-т Делорм. Тем не менее, он сумел до конца выполнить задание и привести свою «вертушку» с ранеными на борту в Тлемсен. Повстанцы были разгромлены, потеряв 70 человек, знамя и 45 единиц оружия.
Всего за первые восемь месяцев 1956 г. ВВС Франции выполнили в небе Северной Африки 31 954 боевых вылета, из них подавляющее большинство – в Алжире. При этом важно отметить, что интенсивность боевой работы постоянно наростала. Если в январе было совершено 122 вылета на непосредственную поддержку войск, то к середине года их месячное количество превысило 1100. Число разведвылетов увеличилось с 645 в январе до 1699 в июле…
Новая ситуация
В августе становление АНО в качестве серьезной боевой силы завершилось. В сентябре Армия захватила стратегическую инициативу и удерживала ее по май 1958 г. В этот период были предприняты 2 крупные наступательные операции, известные как битва за город Алжир и битва за оружие. Муджахиды добились наибольших успехов в боевой деятельности, что связано с рядом факторов, в том числе отвлечением лучшей части французских войск для участия в боевых действиях против Египта в рамках операции «Мушкетер». В августе 1957 г. Освободительная армия разделилась на «внутреннюю АНО», действовавшую на территории Алжира, и «внешнюю АНО», располагавшуюся на базах в Тунисе и Марокко. Главной задачей последней стала доставка оружия формированиям «внутренней АНО».
Говоря о повышении боеспособности АНО, следует отметить некоторое усиление ее ПВО благодаря увеличению количества пулеметов. Наиболее грозным средством против низколетящих самолетов французы считали германские MG 42 со скорострельностью 1200 выстрелов в минуту Их источники упоминали о некоем немце, который, сражаясь в рядах повстанцев, сбил из такого пулемета два Т-6…
В этот период руководство АНО стало применять и собственную авиацию для доставки оружия и боеприпасов отрядам, действовавшим на территории Алжира. Использовались, главным образом, легкие одно– и двухмоторные самолеты, а иногда и вертолеты. Летали они с тайных аэродромов и площадок, находившихся в Тунисе, Ливии и Марокко. Пакистан согласился передать в распоряжение АНО четыре DC-3, а в Египте началась подготовка алжирских летчиков. «Дакоты» привлекались для сброса грузов с парашютами. Иногда партизанам удавалось задействовать даже гражданские лайнеры, перевозившие военные грузы под видом мирного багажа.
Наращивали силы и французы. До марта 1957 г. авиагруппировку пополнили более 50 закупленных в США «Инвейдеров», включая бомбардировщики В-26В/С и разведчики RB-26. Они поступили на вооружение бомбардировочных авиагрупп GB 1/91 Gascogne и GB 2/91 Guyenne, а также разведэскадрильи ERP 1/32 Armagnac, которую в мае 1957 г. расформировали, а самолеты передали в обе вышеназванные GB. В ЕС 20 уцелевшие Р-47 (24 машины) собрали в эскадрилье ЕС 2/20, а ЕС 1/20 получила «Мистрали». В двух патрульных эскадрильях заменили отжившие свое «Ланкастеры» на современные «Нептуны». В ALAT обновлялся парк легких самолетов: помимо «Сессн» и «Пайперов», сюда поступала техника отечественного производства: МН 1. 521 Broussard, NC 856 и Nord 8400. С середины 1957 г. в Алжире началось применение противотанковых управляемых ракет SS-11, носителями которых поначалу были двухмоторные MD 311/315.

Вертолетчики в Алжире много работали, высаживая десанты и эвакуируя раненых


Подбитый Н-34 удачно приземлился в горах
Ощутимо выросли вертолетные силы. ВВС к 1 ноября 1956 г. создали 2 эскадры: ЕН 2 в Оране и ЕН 3 в Буфарике. Каждая из них имела в своем составе 3 эскадрильи: по одной на легких Н-13, средних Н-19 и тяжелых Н-34. В ALAT также начала поступать новая матчасть: американские вертолеты Sikorsky S-58 (Н-34) и французские Djinn и Alouette II. Национальная жандармерия прикомандировала к GH 2 отряд из шести Н-13, которые до конца войны налетали аж 206877 ч на решение связных, разведывательных и эвакуационных задач, перевезли более 20000 раненых и больных. У моряков в 1957 г. появилась флотилия 33F, оснащенная вертолетами H-19D, а на следующий год – 32F, летавшая на HSS-1. На их основе, а также 31F, 1 ноября 1957 г. в Лартиге была создана 1-я флотская вертолетная авиагруппа GHAN 1. Она действовала в Оранской зоне вплоть до границы с Марокко. В целом к весне 1958 г. количество вертолетов в Северной Африке превысило 250, из них 99 использовались в ВВС, 132 – в ALAT и 26 – в ВМС.
Для борьбы с воздушной контрабандой стали привлекать «Мистрали» 7-й эскадры и несколько ночных всепогодных истребителей Gloster Meteor NF11H3 эскадры ЕС 30. Отметим, что «Метеорам» удалось перехватить и принудить к посадке всего 2 самолета. да и то своих. В апреле 1957 г. для перехвата самолетов, выполнявших тайные полеты в интересах АНО, была сформирована флотская авиагруппа GAN 2, вооруженная пятью ночными истребителями F6F-5N Hellcat. 28 апреля она прибыла на базу Габес в Тунисе и работала оттуда до конца мая, а затем ее перебросили непосредственно в Алжир, на аэродром Бон. Однако и моряки не могли похвастать успехами. В мае удалось перехватить и принудить к посадке в дневное время лишь один легкий самолет, оказавшийся американским и не имевшим никакого отношения к снабжению АНО.
В феврале – марте 1958 г. единственный раз за время войны к участию в боевых действиях привлекалась палубная авиация – «Корсары» из флотилий 14F и 15F, работавших с авианосца «Буа-Белло».
Потери и победы
20 сентября Ju 52 из ESRA 78 совершал патрульный полет над районом Дженьен у границы с Марокко. Особое внимание экипаж уделил железной дороге Оран – Колом-Бешар. Около полудня у забытой Богом станции Оглат он увидел стоявший пассажирский поезд, атакованный примерно сотней муджахидов. Оборонявшие состав легионеры несли серьезные потери, взывая по радио о помощи. «Юнкере» не был вооружен, но экипаж связался с расположенным неподалеку постом Дженьен-Бу-Резг, где стояла штрафная рота Иностранного легиона. Здесь он совершил посадку и взял на борт одного лейтенанта и двух штрафников с ручными пулеметами и ящиком гранат. В 12.50 машина взлетела и вскоре оказалась над полем боя. Легионеры открыли огонь и забросали противника гранатами. Повстанцы, в свою очередь, обстреляли «Юнкере», который с 32 пробоинами совершил вынужденную посадку. Тут как раз подоспела подмога, и с ее помощью партизан удалось отбросить. На следующий день прибыл другой Ju 52, доставивший запчасти, материалы и специалистов, за час отремонтировавших поврежденный самолет. Затем обе машины улетели, забрав девять тяжелораненых легионеров.
У тунисской границы эффективно работала EALA 2/72. Так, 23 сентября при ее активном участии наземные части провели успешный бой, в ходе которого погиб один из ведущих командиров АНО Зигут Юсеф. 27 числа пара «Тексанов» поддерживала легионеров в Орисе и наткнулась на сильное сопротивление. Машины получили много попаданий, в т.ч. в топливные баки, но Т-6 продолжали атаки до полного израсходования боекомплекта. Отряд АНО был разгромлен, потеряв 108 человек.
Надо сказать, что французы в полной мере прочувствовали усиление ПВО противника. Командование в Константине докладывало, что в сентябре от огня противника потеряны 4 самолета и один летчик, по неустановленным причинам – еще 3 машины и 4 авиатора. 8 самолетов получили повреждения.
Октябрь был отмечен крупным успехом французов. Как и всякая война, алжирская характеризовалась напряженной работой «бойцов невидимого фронта». Для французских спецслужб важнейшей задачей стала борьба с нелегальными поставками вооружения для АНО. Через агентуру в Египте им удалось выявить загрузку на небольшой пароход «Атос II» 72 т военных грузов, которые собирались доставить на территорию Марокко, а оттуда перебросить через границу. Усиленные таким образом повстанцы планировали создать освобожденный район вокруг г. Тлемсен, затем захватить сам город и разместить в нем временное революционное правительство.
5 октября «Атос» покинул Александрию, о чем из Каира в штаб АНО ушло радиосообщение, перехваченное и расшифрованное французами. Все силы в Западном Средиземноморье были приведены в состояние повышенной готовности. 12 октября экипаж «Прайветира» (борт 28F4), патрулируя в районе Каруба-Лартига, с помощью РЛС обнаружил восточнее мыса Палое судно. Выйдя на визуальный контакт, быстро определили, что это и есть «Атос». Летчики доложили о своем открытии и с малой высоты сфотографировали судно.

Для наблюдения, связи и разведки французы использовали различные легкие аппараты, в т.ч. вертолеты «Джинн» и самолеты «Пайпер» L-21


Вертолет Н-21 доставил груз на горное плато
Затем эстафету приняли «Нептуны» из 22F и 21F. 15 октября, перед заходом солнца, экипаж капитан-лейтенанта Руэ (борт 21F9) обнаружил «Атос» уже у берегов Испанского Марокко, удерживал контакт с ним на протяжении почти 5 ч, наводя сторожевой корабль «Командан де Пимодан», который рано утром 16 октября и захватил судно. Французам достались богатые трофеи: 2726 единиц вооружения, в т.ч. 72 миномета и 114 пулеметов. Для сравнения: части АНО во всем Алжире на 1 сентября 1956 г. располагали 20 минометами и 170 пулеметами. Один из руководителей освободительного движения Алжира Ахмед Бен Белла записал тогда в своем дневнике: «Атос» захвачен, для нас это катастрофа».
Вскоре в руки французов попал и сам Бен Белла. 23 октября 1956 г. президент Туниса организовывал в своей столице саммит руководителей североафриканских государств, на который пригласили и делегацию АНО во главе с Беллой. Поскольку штаб последнего находился в Марокко, король этой страны Мохаммед V любезно предложил алжирцам место в своем «Супер Констеллейшне». Но Бен Белла отказался от монаршего предложения, считая, что французам обязательно станет о нем известно. Он решил воспользоваться обычным пассажирским DC-3 местной авиакомпании Air Atlas. Около полудня самолет короля отправился в полет, и на его перехват из Орана тут же взлетели два звена «Мистралей». В 12.15 их ведущие установили радиоконтакт с экипажем «Супер Констеллейшна» и узнали от его капитана, что алжирцев на борту нет. Перехватчики вернулись на базу.
В 12.30 ушла в рейс и «Дакота». Этот самолет нес французскую регистрацию, а его экипаж возглавлял француз, уволившийся из авиации ВМС капитан 3 ранга Жильер, работавший у марокканцев по контракту. Он и рассказал по радио о присутствии на борту Беллы. Поначалу французы собирались перехватить «Дуглас». Представитель правительства даже предложил его сбить, но генерал Франдон, которому подчинялась вся авиация в Алжире, категорически отказался: самолет находился в международном воздушном пространстве над морем, управлялся французским экипажем и, по сути, являлся французской собственностью. Тогда экипажу предложили симулировать возникновение неисправности и приземлиться якобы вынужденно в Оране, но тот не пошел на риск. Время шло, «Дакота» неумолимо приближалась к Тунису. В 18.15 Франдон принял окончательное решение: посадить лайнер на столичную авиабазу Мэсон-Бланш. Но капитан Жильер, получив соответствующий приказ, не стал спешить с его выполнением. Сперва он проконсультировался с руководством авиакомпании, состоявшим, надо полагать, из французов, затем потребовал гарантий безопасности для себя, своего экипажа и членов их семей, а лишь затем в 19.50 повернул на Алжир.
Между тем, судьба самолета и находившихся на борту людей висела буквально на волоске: при непредвиденном повороте событий французы были готовы сбить «Дакоту». В Блиде к взлету на перехват был подготовлен «Метеор», а в Оране – пара «Мистралей» и один В-26. В 20.43 с Блиды наперехват взлетел вооруженный MD 315R сержант-шефа Ж. Сурнака из GOM 86. Вскоре он получил радиолокационный контакт с «Дакотой», а затем вышел на дистанцию открытия огня. Держа под прицелом один из двигателей «Дугласа», Сурнак несколько раз запрашивал разрешение на стрельбу, однако «добро» не поступало. В 21.15 подошел «Метеор» с Блиды, но уже через 5 минут DC-3 приземлился в Мэсон-Бланш. Бен Белла и еще четверо руководителей АНО даже не подозревали, что угодили в лапы противника: после посадки Жильер сказал пассажирам: «Добро пожаловать в Тунис!». Горькую правду они узнали, только выйдя из самолета и увидев окруживших их французских солдат…
Окончание следует

T-6G из АЭ легкой поддержки EALA 13/72. Алжир, 1958 г.

Vautour IIN из истребительной эскадрильи GC 2/6 «Нормандия-Неман». Алжир, 1960 г.

В-26В из бомбардировочной авиагруппы GB 2/91 «Гиень». Алжир, 1961 г.

Meteor NF.11 из эскадрильи ночных перехватчиков ECN 1/30 «Луар». Алжир, авиабаза Тебесса, апрель 1958 г

Михаил Маслов/ Москва
Фото предоставлены автором
Механические птицы профессора Беляева
Бомбардировщик ДБ-ЛК
В 1930-е гг., когда полеты самолетов уже не являлись экзотикой, авиационные инженеры особенно активно продолжали изыскивать новые варианты компоновок и аэродинамических схем летательных аппаратов. За малым исключением созданные в этот период оригинальные конструкции вовсе не призывались удивить мир – они функционально должны были являться более совершенными, чем самолеты, выполненные по классической схеме. Среди великого разнообразия необычных схем и компоновок наибольший интерес проявлялся к аппаратам, выполненным по схеме «летающее крыло». Сам термин наглядно определил стремление разработчиков устранить по возможности лишнее сопротивление и вес фюзеляжа и тем самым приблизиться к идеальным аэродинамическим показателям. Устойчивый интерес к схеме «летающее крыло» наблюдался и в Советском Союзе. Он выразился в появлении целого ряда самолетов и планеров, выполненных по такой схеме или, по крайней мере, по схеме, близкой к «летающему крылу». Заслуживающими внимания среди них можно назвать разработки конструкторов Калинина, Москалева и Черановского. Однако едва ли не наиболее необычными представляются планеры и самолеты, созданные ученым и конструктором Виктором Николаевичем Беляевым. Большинство из его разработок характеризовалось специфическим, резко суженным крылом с характерной обратной стреловидностью и расположенным непосредственно за крылом горизонтальным оперением. Полет таких летательных аппаратов создавал у стороннего наблюдателя впечатление парения гигантской фантастической птицы…
Профессиональную деятельность в авиации В.Н. Беляев начал в 1925 г. инженером по прочности в КБ Д.П. Григоровича. В следующем году в возрасте 30 лет он перевелся в ЦАГИ, где участвовал в проведении расчетов на прочность самолетов АНТ-6, АНТ-7, АНТ-9, АНТ-14, АНТ-20. Благодаря этой специализации, позднее он наибольшее внимание уделял разработке оригинальных, высокопрочных и одновременно легких конструкций.
В начале 1930-х гг. Беляев создал планер БП-2. являвшийся прообразом задуманного им необычного самолета. Тогда в СССР планеризм стал повальным увлечением, которое затронуло не только пылких юных энтузиастов, но и маститых авиационных специалистов, ведь постройка относительно недорогого планера позволяла едва ли не наилучшим способом проверить на практике новые идеи. Крыло БП-2 площадью 18,5 м2 имело значительный размах, обратную стреловидность, заметное сужение, положительную геометрическую и аэродинамическую крутки. Весь комплекс мер должен был обеспечить минимальный вес конструкции крыла и наилучшую аэродинамику. На задней кромке центральной части крыла размещался трехсекционный закрылок, предназначенный для балансировки аппарата и управления. Кабину пилота для обеспечения необходимой центровки конструктор вынес вперед. Это решение обеспечивало хороший обзор, однако в сочетании с крылом обратной стреловидности несколько ухудшило путевую устойчивость. Для ее повышения служили два широких киля с рулями направления, соединенные в верхней части дополнительным стабилизатором.
У выбранной конструктором схемы поначалу появилось много противников, поэтому для доказательства ее жизнеспособности провели продувки модели планера в аэродинамической трубе. Кроме этого, достаточно остроумно использовали 200-метровый гидроканал ЦАГИ, вдоль которого для буксировки моделей двигалась специальная электрическая тележка. На этот раз ее использовали для экспериментов с моделью планера Беляева, что позволило в короткий срок доказать обоснованность аппарата и рассеять сомнения скептиков.
В августе 1934 г. полноразмерный БП-2 отправили на планерный слет в Коктебель, где его облетал летчик Д.А. Кошиц. Несмотря на некоторое перетяжеление конструкции, планер показал отличные устойчивость и управляемость, аэродинамическое качество достигало 18-20 единиц. После окончания слета БП-2 стал единственным планером бесхвостой схемы, который долетел до Москвы на буксире за самолетом.
Свой очевидный успех Беляев решил закрепить и взялся за проектирование рекордного планера. В 1935 г. новый двухместный аппарат БП-3 с размахом крыла 20 м и массой конструкции 400 кг был построен. В нем использовали крыло с центральной частью в виде «чайки», что позволило уменьшить рулевые поверхности и разместить их более компактно. БП-3 впервые поднялся в воздух 18 июля 1935 г. Его аэродинамическое качество оказалось очень высоким – 33 единицы. По неподтвержденным данным, несколько БП-3 впоследствии построили в мастерских школы морских летчиков в г. Ейске.
Совершенствуя выбранную схему, конструктор принял участие в конкурсе на скоростной транспортный самолет, организованном в 1935 г. Авиационным всесоюзным научным инженерно-техническим обществом (АвиаВНИТО) и газетой «За рулем». Конкурс собрал множество участников, представивших более 60 проектов. Группа В.Н. Беляева, в которую входили П.Н. Обрубов, Д.А. Затван, Э.И. Корженевский, Л.Л. Селяков, Н.Е. Леонтьев, В.А. Лихачев, Б.С. Бекин и И.Е. Борисенко, представила проект двухмоторного пассажирского самолета. Два фюзеляжа, в каждом из которых размещались по 7 пассажиров, являлись продолжением гондол двигателей М-25. Двухкилевое оперение в верхней части соединялось мощной горизонтальной рулевой поверхностью. Получалась легкая и прочная конструкция с отличными аэродинамическими качествами и весовой отдачей около 50%. Взлетная масса самолета, названного АвиаВНИТО-3, должна была составлять 6000 кг, а максимальная скорость – 410 км/ч. Проект вызвал большой интерес, заслуженно вошел в число победителей конкурса и рекомендовался к постройке. К сожалению, полезное начинание не получило дальнейшего развития, и ни один из конкурсных самолетов не был построен. Однако история АвиаВНИТО-3 продолжилась. На его основе был создан экспериментальный бомбардировщик ДБ-ЛК.


В.Н. Беляев. 1940-е гг.

Планер БП-2 (ЦАГИ-2) в полете

Авария экспериментального бомбардировщика ДБ-ЛК во время скоростной пробежки на аэродроме НИИ ВВС. 14 ноября 1939 г.
Разработка этой машины началась в инициативном порядке в 1937 г. Эскизное проектирование и увязку компоновки вел Л.Л. Се– ляков, отработку конструктивно-силовой схемы – П.Н. Обрубов и Д.А. Затван. В начале 1938 г. проект представили на рассмотрение руководству авиапромышленности и получили «добро» на его дальнейшую разработку. Следующим этапом стало изготовление деревянного полноразмерного макета. Весной 1938 г. после многочисленных обсуждений и внесения изменений его утвердила специальная комиссия ВВС, после чего последовало окончательное решение о постройке самолета. В работе комиссии принимал участие Нарком обороны СССР маршал К.Е. Ворошилов, который рискнул и взял личное шефство над машиной. Благодаря столь высокому попечительству вся программа получила неофициальное название «Ворошиловское задание».
Для дальнейшей разработки самолета на московском заводе № 156 организовали КБ-4 во главе с Беляевым, а Селяков, Обрубов и Затван стали его заместителями. Нужно отметить, что реализация столь необычного проекта стала возможной не только благодаря авторитету Беляева и удачным полетам его планеров. Преобразования и аресты в промышленности привели к тому, что в начале 1938 г. на заводе № 156 появился определенный недостаток внедрения новых разработок. Поэтому почти любое обоснованное предложение могло найти поддержку у руководства и дальнейшее практическое воплощение.
На заводе №156 самолет Беляева получил внутреннее обозначение – заказ «350». Позднее он стал называться ДБ-ЛК (дальний бомбардировщик – летающее крыло). В альбоме новых самолетов ВВС Красной Армии, подписанном 28 ноября 1938 г., он значился как «экспериментальный ближний (!) бомбардировщик, заводской заказ 350», строящийся в единственном экземпляре. А постановление Комитета Обороны при Совете Народных Комиссаров СССР № 248 о строительстве ДБ-ЛК было подписано только 29 июля 1939 г.
ДБ-ЛК по определению можно назвать двухфюзеляжным самолетом. Он имел полностью цельнометаллическую конструкцию(*), отличался специфическим крылом «беляевской» схемы с заметно выраженной обратной стреловидностью (5°42' по передней кромке). Каждая консоль крыла резко сужалась и заканчивалась отогнутой назад небольшой законцовкой с дополнительным малым элероном. Основные элероны занимали более половины размаха отъемных частей крыла. Напротив них находились автоматические предкрылки. Элероны автоматически зависали при отклонении посадочных щитков и работали как закрылки. Центроплан с более чем 5-метровой хордой имел регулируемый на земле закрылок (он выставлялся, т.е. поворачивался на 1-2°, так, как регулировались на земле поворотные стабилизаторы), призванный главным образом уменьшать нагрузки на штурвал летчика при взлете. Горизонтальное оперение, состоявшее из небольшого стабилизатора площадью 0,86 м2 и руля высоты площадью 4,27 м2 , крепилось на мощном киле. Первоначально стабилизатор имел небольшие вертикальные гребни, а на руле высоты были установлены вынесенные вперед весовые балансиры – впоследствии эти элементы демонтировали.
ДБ-ЛК проектировали под перспективные двигатели воздушного охлаждения М-88 взлетной мощностью по 1100 л.с. – с ними предполагалось достигнуть скорости 550-600 км/ч. Однако недоведенность М-88 вынудила установить менее мощные М-87Б, развивавшие по 950 л.с. на высоте 4700 м. Топливная система общей емкостью 3444 л включала в себя 7 центропланных и 6 (по три в каждой) консольных крыльевых баков.
* По тогдашней терминологии. На фото видно, что обшивка крыла из дерева и полотна (ред.)

Здесь и внизу ДБ-ЛК в ходе проведения Госиспытаний. Лето 1940 г.

Два фюзеляжа ДБ-ЛК являлись продолжением мотогондол. В левом размещались пилот и воздушный стрелок, в правом – штурман и второй стрелок. Управление самолетом двойное – основное у летчика и дублирующее у штурмана. Основное шасси состояло из двух одностоечных опор с колесами 900x300 мм. Каждая стойка убиралась в «свой» отсек фюзеляжа, ближе к продольной оси самолета. Заднее колесо не убиралось. Оно находилось в подвижном обтекателе, являвшемся частью вертикального оперения.
Максимальная бомбовая нагрузка ДБ-ЛК составляла 2000 кг и могла вся размещаться в бомбоотсеках, смещенных к внешним бортам фюзеляжей (соответственно, кабины пилота и штурмана были смещены к внутренним бортам фюзеляжей). Кроме этого, под центропланом разместили дополнительные держатели, позволявшие подвесить на внешней подвеске 2 бомбы по 1000 кг. Стрелковое вооружение включало 5 установок с шестью 7,62-мм пулеметами ШКАС. Передняя установка представляла собой спарку ШКАСов, смонтированную на поворотном лафете в носке центроплана (углы обстрела: 20° вверх, 12° вниз и до 20° в стороны). Управлял ею штурман при помощи дистанционного привода. Установка имела специальный следящий копир, позволявший при стрельбе огибать диски вращавшихся воздушных винтов.
Совершенно оригинальной была защита задней полусферы, которую обеспечивали почти полностью застекленные средние и кормовые установки. Две средние установки были смонтированы на вертикальных турельных кольцах. Каждая из них могла поворачиваться в свою сторону на 180° вокруг продольной оси фюзеляжа. Перемещались они вручную с помощью рычагов управления, а облегчить эту работу были призваны небольшие крылышки, названные «аэродинамическими двигателями». Вдоль продольной оси каждый пулемет перемещался по направляющей. Вырез в остеклении под его ствол закрывался прозрачной шторкой, которая наматывалась или сматывалась с барабана по мере движения пулемета. Сразу за средними установками находились кормовые стрелковые точки, в которых размещалось еще по одному ШКАСу. Отстрелянные гильзы и звенья пулеметных лент собирались под полом кабин кормовых стрелков.
Постройку ДБ-ЛК, в основном, завершили к 1 сентября 1939 г. Для проведения испытаний самолет перевезли на аэродром НИИ ВВС в Чкаловскую, где его собрали, провели отработку управления и оборудования. В ноябре начались пробные руления и пробежки. Следует отметить, что еще в 1934-36 гг. схема «летающее крыло» вызывала у летчиков искренний интерес и даже любопытство. Однако проведенные испытания таких аппаратов, прежде всего самолетов К-12 Калинина и БИЧ-14 Черановского, удовлетворения не принесли, и интерес к «крылу» заметно снизился. ДБ-ЛК появился именно в период разочарований, поэтому не вызвал ни восторгов, ни удивления. Согласно воспоминаниям летчика-испытателя П.М. Стефановского, персонал испытательного института весьма скептически отнесся к появлению на летном поле самолета Беляева и окрестил его «курицей».
Назначенный ведущим летчиком по испытаниям ДБ-ЛК М.А. Нюхтиков довольно осторожно проводил первые рулежки. 14 ноября 1939 г. ДБ-ЛК опробовал начальник НИИ ВВС бригадный инженер А.И. Филин. Во время скоростной пробежки самолет выскочил на окраину полосы и на скорости 240 км/ч налетел на припорошенный снегом пенек. Дело было в том, что аэродром НИИ ВВС, спешно допущенный к эксплуатации в 1932 г., вскоре потребовалось расширять, и в 1939 г. заровняли окраинные ямы, спилили часть деревьев. Вот на один такой не убранный по осени пенек и налетел А.И. Филин. В результате происшествия левая стойка шасси и хвостовое колесо вместе с обтекателем оторвались, были смяты воздушные винты. Аварийная комиссия, расследовавшая инцидент, признала прочность шасси ДБ-ЛК недостаточной и обязала конструктора доработать самолет.
Досадная авария усилила позиции противников оригинального аппарата, однако работы по нему не свернули. Самолет отправили на завод, где его отремонтировали и кое-что улучшили в соответствии с рекомендациями летчиков. В начале 1940 г. ДБ-ЛК вновь вывезли на аэродром. Летчик Нюхтиков уже не только рулил, но и совершал подлеты. Во время одного из них регулируемый закрылок центроплана оказался неправильно установленным, и машина резко взмыла в небо почти вертикально. На земле все застыли в ужасе, ожидая сваливания на крыло. Однако в момент достижения критического угла атаки сработали автоматические предкрылки, самолет опустил нос и плавно коснулся земли.
Затягивание сроков первого вылета и нерешительность испытательной команды привели к тому, что в наркомате авиапромышленности встал вопрос о прекращении опытов с ДБ-ЛК. Долгое ожидание полноценных полетов нервировало Беляева, и 4 февраля 1940 г. он обратился к заместителю наркома А.С. Яковлеву с просьбой заменить Нюхтикова другим летчиком. Через неделю заместитель начальника 11 -го главного управления Леонтьев с тем же предложением обратился к начальнику НИИ ВВС Филину. Однако желающих облетать необычный самолет не находилось.
И тут ДБ-ЛК неожиданно полетел. 8 марта на аэродроме в Чкаповской шли плановые руления и подлеты. Управлял самолетом М.А. Нюхтиков, в правой кабине находился военный инженер Т.Т. Самарин. На третьем подлете ДБ-ЛК внезапно набрал высоту, сделал 2 круга и благополучно приземлился. «Виновник» события Михаил Александрович Нюхтиков так объяснил происшествие (текст приведен по стенограмме):«Отрулив в конец аэродрома, я произвел разбег, установил рули, как и прежде, по направлению и оторвался для подлета... Оторвался, стал сбавлять газ, чувствую, машина летучая... идет совершенно спокойно, садиться нужды нет. Когда я пошевелил рулями, машина на мои движения отвечала совершенно точно. Прикинул, посмотрел, на доворот не решился, так как не знаю, как машина ведет себя на довороте, поэтому решил на небольшом газу уйти. Прибавил газ и стал набирать высоту, следя все время за машиной, имея в виду, что если что-то неблагополучно, прямо сажать машину. Вижу, машина идет нормально, тогда развернулся назад, вывел, сбавил газ и стал подходить на газу, чтобы не разболтать машину. Заметил, что при медленном снижении машина начала вести себя лучше, спокойнее. При выравнивании машина опять стала более чуткой. С небольшим газом я подвел машину и сел. Вот и все, что случилось».
Инженер Самарин, поясняя несанкционированный полет, добавил:«...стоял штиль, на первых двух подлетах была поднята снежная пыль, поэтому пилот третий подлет произвел на коротком участке аэродрома. Неожиданно подлет получился более высоким, думалось, что врежемся в лес. Поэтому пришлось дать газ и произвести дальнейший набор высоты».
О происшествии, как о чрезвычайном событии, немедленно сообщили наркому авиапромышленности Шахурину, который приказал разобраться и наложил взыскание на Нюхтикова. Однако победителей не судят, проблема первого полета оказалась разрешенной, и ДБ-ЛК начал активно летать. Испытатели отмечали, что самолет«показал вполне удовлетворительную устойчивость и управляемость», поэтому уже в марте в КБ Беляева началась разработка чертежей для изготовления эталонного серийного экземпляра ДБ-ЛК.