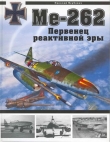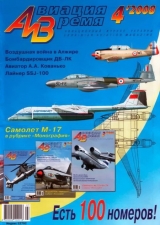
Текст книги "Авиация и время 2008 04"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Достаточно убедительным подтверждением всем хорошим словам, сказанным здесь в адрес SSJ-100, являются заказы на этот самолет, число которых неуклонно растет. По состоянию на середину июля в портфеле ГСС лежали твердые контракты на 73 машины и опционы еще на 31. В ходе авиасалона в Фарнборо были заключены пред– контрактные соглашения еще на 40 «Суперджетов». Так что мы являемся свидетелями поистине знаменательного явления: впервые в практике постсоветского авиапрома покупается, да еще с таким темпом, лайнер, только начавший свой путь в небо.
…Ну вот, кажется, мы достаточно похвалили «Суперджет». Теперь поговорим об обратной стороне медали, ибо – увы! – в жизни плюсы невозможны без минусов, а иногда они так близки друг к другу, что превращаются в собственные противоположности. Начнем с констатации вполне очевидного факта, что надежда России SSJ-100 создается структурой, которая до этого не построила ни одного (!) самолета. Ни гражданского, ни военного. А материнская структура ГСС – холдинг «Сухой» – создавала лишь военные машины. (Ну, если не считать странный, иначе не скажешь, пассажирско-грузовой самолет С-80, так и недоделанный «суховцами»). Конечно, в ГСС собрались не дети, там есть специалисты, не один десяток лет проработавшие в авиапроме. Но согласитесь: несколько десятков (или даже сотен) специалистов и слаженный коллектив, способный на требуемом уровне создать столь сложную машину, как самолет, – это две большие разницы. Работоспособный коллектив характеризуется прежде всего наличием четкой, годами отработанной системы распределения обязанностей, полномочий, ответственности и взаимного контроля. По словам одного из участников проектирования SSJ-100, ничего этого в конструкторских подразделениях ГСС не было, как не было в классическом понимании самих подразделений. Они находились в перманентном состоянии перемен, в ходе которых в лучшем случае сохранялся лишь менеджерский костяк, а основную массу специалистов набирали или увольняли в зависимости от объема текущей работы. По данным самой ГСС, количество задействованных в программе инженеров варьировалось от 100 до 1000, при этом даже в лучшие периоды число частично занятых составляло 40%!
Отсутствие у ГСС опыта работы в сфере гражданского авиастроения обсуждалось не только в профессиональной среде, но и в СМИ, а также на различных форумах в Интернете. При этом практически каждый, кто пытался непредвзято взглянуть на развитие программы, признавал эту проблему главным риском. В рамках одной из таких дискуссий в феврале 2007 г. на aviaport.ru некто под псевдонимом svin писал: «Как человек, всю жизнь занимавшийся гражданскими самолетами, я понимаю, как мне было бы трудно разрабатывать истребитель. Я бы постоянно оглядывался на прототипы, многое бы, наверно, просто копировал. И не потому, что мозгов нет. Просто, чтобы сделать шаг вперед, надо от чего-то оттолкнуться. Боюсь, что в случае с RRJ – то же самое. Даже если тебе кто-то что-то предложит, разработает, у тебя нет базы, чтобы оценить, как это конструкторское решение или элемент системы поведет себя в эксплуатации. А нюансов – миллион. Так что, боюсь, это первый блин ГСС. Возможно, многое можно и вылечить, но если на этапе проектирования что-то было заложено неверно, то лучше тогда самолет переделать заново. Иначе – второй С-80».
Понимало опасность кадровой проблемы и руководство ГСС, поэтому стремилось привлекать в программу опытных специалистов из других постсоветских ОКБ, ранее работавших над пассажирскими самолетами. Но, собравшись вместе, эти люди попали в очень сложное положение. Ведь в СССР не существовало единой школы создания самолетов, каждая фирма пользовалась своими, десятилетиями наработанными методиками расчетов, принципами объемно– весовой компоновки, проверенными временем «индивидуальными» конструктивными решениями. Когда все это попытались свалить в одну кучу, да еще пользуясь «методической поддержкой со стороны «Боинга», то оказалось, что в конечном результате буквально никто не уверен. Кстати, одна из причин задержки первого вылета «Суперджета»(4*
[Закрыть]) заключается именно в этом: ведь на документы, разрешающие самолету впервые подняться в воздух, необходимо ставить свою личную подпись… Слава Богу, в России еще остались ЦАГИ и СибНИИА, практически полностью взявшие на себя проектирование крыла и отработку аэродинамики самолета в целом. В лабораториях этих прославленных институтов было выполнено более 4000 продувок моделей SSJ-100, что дает основания с должным вниманием отнестись к заявленным характеристикам лайнера и надеяться на приемлемую степень его безопасности.
К числу серьезнейших рисков программы SSJ-100 относится и столь масштабное участие в ней иностранных компаний. Начнем с наиболее именитых – «Боинга» и «Алении». Так, американская фирма вообще стояла у истоков всей этой истории: именно с соглашения о долгосрочном сотрудничестве между ней и «Росавиакосмосом», подписанного 13 апреля 2001 г., и начала развиваться идея «прорывного» регионального лайнера. Все эти годы «Боинг» выступал в роли консультанта, то есть давал советы, как надо организовать работу над «Суперджетом», при этом не вкладывая в программу ни копейки собственных средств. То есть в случае бешеного успеха самолета «Боинг» не может претендовать на многое, но зато в случае краха программы не потеряет совсем ничего. Туг есть над чем задуматься. Весь практический интерес «Боинга» может сводиться лишь к желанию иметь собственные «глаза и уши» в наиболее финансируемом проекте российской авиапромышленности с тем, чтобы не пропустить момент, когда он сможет превратиться в реального конкурента. Ну, а советы, которые давал «Боинг»… они, безусловно, правильные. Например, в ноябре 2003 г. по его рекомендации был сформирован Консультативный совет авиакомпаний – потенциальных эксплуатантов SSJ-100. Этот орган действительно сыграл важную роль в приближении облика самолета к реальным потребностям авиаперевозчиков. Впрочем, как и Совет эксплуатантов Ан-148, созданный на полтора года раньше без всяких рекомендаций со стороны…
Ситуация с «Аленией» принципиально иная. Она вложила в программу свои деньги (по данным российских СМИ, около 300 млн. USD), но приобрела за них 25% плюс одну акцию в уставном капитале ГСС. Но ведь это блокирующий пакет акций! Таким образом, ключ от успешного развития (да и от просто развития как такового) базового для российской промышленности проекта с августа 2007 г. находится в Италии. То есть в стране из блока НАТО, которому Россия, согласно своей официальной государственной доктрине, оппонирует в глобальном масштабе. Это ли не риск?
В октябре 2005 г. резкая критика засилья иностранцев в проекте раздалась со стороны Контрольного управления администрации Президента России. Начальник этой структуры Александр Беглов направил Премьер-министру страны Михаилу Фрадкову письмо, в котором утверждал, что «использование в самолете практически всех комплектующих изделий зарубежного производства противоречит основным целям и задачам обеспечения развития отечественной авиационной промышленности». И то правда: доля стоимости SSJ-100, которая при таком раскладе создается в России, не превышает 40%. Соответственно, 60% средств от продаж самолета будет уходить за границу. К слову, в Ан-148 российская доля составляет 69%. Да и не это даже главное. Принципиальным моментом является то, что почти все агрегаты внутренней начинки самолета поставляются из-за границы в виде полностью готовых изделий, а россиянам остается лишь этап отверточной сборки. Это – путь к полной потере российскими фирмами технологий создания и серийного производства важнейших элементов бортового оборудования.
Администрация Президента России подвергла критике и общую компоновку SSJ-100, в частности, слишком низкое расположение его двигателей. Как сказано в упомянутом письме, компоновка самолета «по заключению Минтранса России и результатам исследования ЦАГИ, требует принятия дополнительных мер обеспечения безопасности его эксплуатации в региональных аэропортах России». Проще говоря, эксплуатировать новый российский региональный самолет в региональных аэропортах России опасно! Причина – плохое качество поверхности ВПП и угроза попадания в двигатели во время руления и взлета посторонних предметов. Казалось бы – серьезнейшая проблема, но как реагирует на нее руководство ГСС? Запоминающийся ответ на этот вопрос дал в одном из своих интервью Генеральный директор ГСС Виктор Субботин: «Меня удивляет, почему такие вопросы задают нам… Не наше дело все-таки – заниматься авиапокрытиями, мы разрабатываем самолет».
Однако, если создателей SSJ-100 мало заботят проблемы обеспечения его безопасной эксплуатации в условиях российской глубинки, то уж авиакомпании никак не могут их обойти. В их арсенале остается единственный метод решения проблемы – просто– напросто не летать в такие аэропорты, пока их не отремонтируют. По мнению главы «Аэрофлота» Валерия Окулова, все технические условия для эксплуатации лайнера должны быть созданы за счет госбюджета. В частности, из бюджета должна быть профинансирована «повсеместная реконструкция ВПП региональных аэропортов, без которой новый отечественный региональный самолет не сможет ни сесть, ни взлететь».
Необходимо отметить, что повышенный технический риск программы SSJ-100 связан также с однозначной ориентацией на абсолютно новый двигатель SaM-146, который вполне может и не оправдать возлагаемых на него надежд. В этой связи поучительно вспомнить историю с созданием специально для А318 двигателя PW6000. Тогда Pratt amp;Whitney потеряла 4 года и сотни миллионов долларов, но так и не смогла довести его газогенератор до требуемого уровня. Чтобы меньше зависеть от проблем с силовой установкой, самолетостроители обычно ориентируются либо на проверенный временем двигатель, либо рассматривают несколько альтернативных вариантов. В случае с «Суперджетом» нет ни того, ни другого. А между тем, дела с SaM-146 далеко не блестящи: его испытания на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ идут с отставанием от графика, а после второго испытательного полета SSJ-100 на одном из двигателей случился помпаж, и самолет почти месяц простоял на земле. Хочу, чтобы меня правильно поняли: от неприятностей никто не застрахован, проблемы на испытаниях – обычное дело, и двигатель со временем обязательно «вылечат». Но сегодня вряд ли кто-то может твердо гарантировать, что SaM-146 продемонстрирует заявленный уровень характеристик, в частности, обещанный низкий расход топлива. А ведь на этом строится маркетинговая политика, подписываются контракты на поставку SSJ-100, которые содержат гарантии часовых расходов топлива и размеры компенсации в случае их превышения!
Все это говорит о том, что программа SSJ-100 по своим основным организационным и техническим составляющим характеризуется значительным риском. И даже самый оптимистичный настрой не позволяет говорить о «Суперджете» как о «суперлайнере», «самолете будущего» и т.п. В лучшем случае это будет довольно обычный региональный самолет с характеристиками, мало отличающимися от других машин своего поколения. Впрочем, и это не новость. Еще в 2005 г. руководитель рабочей группы Госсовета России по вопросам развития авиапрома воронежский губернатор Владимир Кулаков выразил такое же мнение. По его словам, рабочая группа президиума Госсовета заказала в ГосНИИ ГА РФ разностороннее исследование региональных самолетов вместимостью от 70 до 120 мест. «Согласно заявленным параметрам, RRJ не превосходит ныне существующие модели, а, учитывая значительную долю импортных комплектующих, его стоимость не может быть сопоставима с другими отечественными машинами, в том числе Ан-148», – говорил тогда г-н Кулаков. В следующем году эту точку зрения поддержал министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко: «По своим техническим характеристикам оба лайнера (SSJ-100 и Ан-148, – А.С.) практически идентичны».

Кабина пилотов SSJ-100 впервые в отечественной практике оснащена боковыми ручками управления

Низкое расположение двигателей может помешать эксплуатации SSJ-100 в региональных аэропортах России

Так в чем же секрет «Суперджета»? Где истоки той колоссальной господдержки, о которой мы говорили в первой части статьи? Почему его с таким упорством восхваляют и продвигают высшие российские чиновники? Уж конечно, не в обманчивом прилагательном «российский» в прежнем названии самолета – ведь в структуре его цены доля зарубежных компаний достигает 60%. Между прочим, это означает, что две трети российских бюджетных денег идет на поддержку зарубежного производителя. Вот один из возможных ответов на этот вопрос, который дает заместитель Гендиректора лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» Андрей Деркач в статье, опубликованной в «Российской газете» еще 6 апреля 2005 г.: «Может быть, в этом есть какая-то корысть? Действительно, с проекта Ан-148, на который не надо госбюджетных средств и в котором каждая копейка находится под контролем частного бизнеса, какой может быть чиновнику интерес? Зато RRJ с его в миллиард долларов НИОКР и многомиллиардными госсубсидиями гораздо интереснее. Тем более, что проект долгий. Где еще будут те, кто сегодня продвигают проект, через 5-7 лет, когда ситуация с RRJ окончательно прояснится? С другой стороны, прежние крупные проекты в сфере пассажирского самолетостроения, такие, как Ту-334 и Ту-204, «кормившие» различные ОКБ и чиновников, закончились. Чиновникам нужен новый и желательно многобюджетный проект. RRJ как нельзя лучше подходит на эту роль». Еще более откровенно по этому вопросу высказался российский сайт www.vslux.ru
[Закрыть] (сообщение от 22/03/06): «Это же просто настоящий Клондайк для наших чиновников, хорошо научившихся конвертировать финансовые потоки из бюджета в недвижимость на Лазурном берегу Франции!».
Конечно, мы далеки от того, чтобы утверждать, что личная корысть группы высокопоставленных лиц– главный мотив, который движет программу. Но, согласитесь, если принять его во внимание, то многое в ходе ее реализации становится более понятным. Например, легкость, с которой бумажный проект RRJ в марте 2003 г. победил в конкурсе «Росавиакосмоса» весьма реальный на тот момент региональный лайнер Ту-334. Кстати, авторы проекта тогда заявляли, что укладываются в требования ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России до 2015 г.» по размеру необходимой государственной поддержки (менее 50 млн. USD) и что на весь проект им требуется не более 415-440 млн. USD. На сегодня, как мы помним, стоимость создания самолета достигла 1,4 млрд. USD, при этом прямые расходы бюджета составили 400-450 млн. USD. О столь вопиющей разнице сегодня предпочитают не вспоминать. Более того, никто не вспоминает, что по кредитам надо отдавать не только собственно взятые суммы, но проценты, которые даже при самых льготных условиях (8-10% годовых) за 7-10 лет окупаемости программы легко добавят к ее стоимости еще миллиард. И уж совсем никто не вспоминает, что стартовым заказчикам самолеты будут поставлены по фактически демпинговым ценам, а на покрытие временных убытков придется брать новые кредиты и платить по ним новые проценты.
Продолжая рассуждать в этом направлении, легко прийти к выводу, что в развитии программы «Суперджета» заинтересованы не одни российские чиновники. Большую пользу проект принес и западным производителям авиатехники, причем не только от продаж комплектующих на SSJ-100. Вспомним, что побежденный в упомянутом конкурсе Ту-334 к тому моменту, хотя и не был до конца испытан, но подготовка его производства уже завершилась. В результате действий «Росавиакосмоса» на нем был поставлен крест, а поступление в российские авиакомпании отечественных региональных самолетов было задержано минимум на 6 лет! Сколько за это время в Россию пришло машин зарубежного производства, в том числе «Боингов»? Так был смысл американской компании оказывать «бескорыстную консультативную поддержку» ГСС?
Имея в виду пресловутый «чиновничий фактор», легко объяснить и многие другие связанные с «Суперджетом» факты. Например, лояльное отношение к задержке реализации программы уже на 2,5 года (соответствующее сообщение пришло от пресс-службы ГСС агентству «Интерфакс» 7 июля). И парадоксальную реакцию на эту новость Комитета по транспорту Госдумы России – предложение увеличить госфинансирование «на ускорение» проекта еще на 13,6 млрд. рублей до 2012 г. Смею заметить: если эти 550 млн. USD «лягут» на и без того уже огромную цену лайнера, то она станет совершенно неконкурентоспособной. Что же касается собственно задержки сроков, то здесь «Суперджет» не оригинален – все проекты подобного масштаба в мире переживают ее в большей или меньшей степени.
Также объясним взгляд сквозь пальцы на явно нереальные обещания руководства ГСС завершить сертификацию самолета к весне 2009 г. (для этого «Эмбраеру-170» с момента первого взлета потребовалось 24 месяца, Ан-148 – 26 месяцев, Ту-334 – 58 месяцев). Понятно и спокойное отношение «Аэрофлота» как стартового заказчика к переносу сроков поставки самолетов. С одной стороны, 25 июня Валерий Окулов признал, что фактически ищет замену SSJ-100, «рассматривая возможность прибегнуть к краткосрочному лизингу других самолетов сходного класса». С другой стороны, он «не собирается поднимать вопрос о штрафных санкциях по отношению к ГСС». Хотя, как пишет российский «КоммерсантЪ», заключенный контракт предусматривает выплату «Аэрофлоту» штрафа 12 тыс. USD за каждый день просрочки. При задержке 5 самолетов более чем на полгода «Аэрофлот» получает право разорвать контракт и потребовать возврата авансовых платежей (15 млн. USD), а также процентов по депозиту с момента их перечисления. Спрашивается, как может руководитель авиакомпании отказываться от законной компенсации понесенных убытков? Оказывается, может, если государство (то есть те же чиновники) является основным акционером и «Аэрофлота», и ГСС.
…Этот материал подготовлен к печати в середине июля и, конечно, не включает в себя события самого последнего времени. Но и без того хорошо видно, как светлые и темные пятна огромного полотна под названием «Программа «Суперджет» тесно переплелись между собой. Наверно, потому, что это первая в России программа, полностью реализуемая по рыночным принципам со всеми их положительными и отрицательными моментами. А за ней уже просматриваются другие, например, создание среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Поэтому так важно сегодня осознать истинную картину реализации проекта SSJ-100 и в дальнейшем ставить перед собой цель развивать только ее светлые стороны.
4* В октябре 2006 г. руководители ГСС утверждали. что первый полет SSJ-100 состоится в течение месяца после выкатки. В реальности прошло почти 8 месяцев.

Андрей Богданов/ Великий Новгород, Александр Котлобовский/ Киев
Фото предоставил А.Котлобовский
Адью, Алжир!
Продолжение. Начало в «АиВ», № 3'2008
АНО усиливает атаки
Усвоив первые уроки разгоравшейся войны, АНО Алжира наращивала свои силы. Борьба алжирцев получила широкую поддержку в арабских столицах, в первую очередь в Рабате и Тунисе, а также в Каире, где «правил бал» кумир всех арабских националистов того времени президент Насер. Оттуда пошла помощь деньгами, оружием и т.д. На территориях Туниса и Марокко АНО приступила к организации учебных лагерей. Через сухопутные границы и по морю в страну пошло оружие, боеприпасы, медикаменты и прочие предметы снабжения, а также добровольцы. Первые партии вооружения начали поступать в марте, что вскоре позволило алжирцам активизировать боевые действия практически во всех шести вилайетах (округах), на которые командование АНО разбило территорию Алжира.
20 августа состоялась первая по-настоящему крупная наступательная операция партизан. В тот день отряды 2-го округа общей численностью до 1400 бойцов внезапно атаковали 26 городов и поселков, и французы понесли потери. Так, в г. Филиппвиль националисты устроили резню, перебив 123 колониста и лояльных к ним арабов. Французское командование оперативно организовало контрмеры, и к концу дня наступление захлебнулось. Муджахиды ушли в горы, потеряв более 520 человек. Там их преследовали наземные войска и авиация. Действуя по вызову наземных частей, «Тандерболты» совершили 11 вылетов общей продолжительностью 23 ч 35 мин. Как правило, самолеты летали по одному или парами, зачастую взаимодействуя с легкими разведчиками. Например, тот же Олео со своим коллегой Флери по наведению с «Пайпера» атаковали группу партизан, напавших на гражданскую автоколонну, благодаря чему нападение удалось отбить.
Несмотря на летние поражения, к осени отрядам АНО удалось закрепиться в некоторых районах, в т.ч. в Северной Константине, и в октябре возобновить свою боевую активность. В ответ французы провели там, в Орисе и Кабилии, несколько операций, в которых приняли активное участие «Мораны» из EALA 71 и 74, а также «Фламаны» из GOM 86. Одна из них началась 28 октября. В ходе ее MD-315 совершали ежедневно от шести до восьми вылетов на контроль дорожной сети. 29 октября один из таких рейдов закончился трагически. С аэродрома Бискра в разведку над Орисом вылетел «Моран» с-та Жирара и наблюдателя л-та Готье. Вскоре самолет был подбит огнем муджахидов и совершил вынужденную посадку. Экипаж снял рацию, привел в негодность пулемет и решил пешком добираться к своим. Однако французам не повезло: они нарвались на партизан и погибли в перестрелке. Их тела были найдены поисковой командой на следующий день. Поврежденный «Моран» вскоре был уничтожен по приказу командования GATAC 1.
К ноябрю 1955 г. АНО развернула боевые действия в новых районах страны, а число «инцидентов» за последний месяц осени достигло 998. Численность бойцов АНО в июле 1956 г. приблизилась к 13500, а других антифранцузских формирований – к 36500. В результате Париж был вынужден провести ряд мероприятий по усилению своей группировки в Алжире. Авиация дополнительно получила машины, приспособленные для антипартизанской войны. Так, в США были приобретены 150 учебно-тренировочных самолетов T-6G Texan по цене 2000 USD каждый. Французов подкупали прочная и выносливая конструкция машины, а также продолжительность ее полета, составлявшая 5 ч. «Тексаны» доставили во Францию на борту авианосца «Диксмюд» и модернизировали на заводе компании SNCASO в г Бордо. Самолеты оснастили бронезащитой двигателя и экипажа, коллиматорными прицелами, радиостанциями. Под крылом установили по 2 держателя для легких бомб, по 6 направляющих для НАР Т-10, 2 контейнера со спаренными 7,5-мм пулеметами MAC. Для эксплуатации эрзац-штурмовиков в апреле 1956 г. началось формирование легких эскадрилий поддержки (EALA).

На месте катастрофы «Мистраля»

Французы значительные надежды возлагали на бомбардировщики В-26 «Инвейдер»

Использование MD-311 в качестве бомбардировщиков не оправдало себя
Но время не ждало, и в качестве срочной меры французы решили сформировать несколько подобных эскадрилий на базе имеющейся отечественной матчасти. Две из них, EALA 5/70 и 6/70, получили легкие MS 733 Alcyone, которые несли по два 7,5-мм пулемета в крыле, два бомбодержателя и четыре ПУ для НАР. Они предназначались для действий в Восточном Алжире. Еще три эскадрильи, 1/71, 2/71 и 3/71, летали на SIPA IIIA, выпускаемых со времен оккупации Arado 296. По вооружению они были почти идентичны «Моранам», но несли четыре бомбодержателя. Эскадрильи стали базироваться на аэродромах Гальфа (Тунис), Уджда (Марокко) и Джельфа (Южный Алжир). По эффективности применения эта техника уступала «Тексанам», но на безрыбье и рак рыба, даже в Африке. Также французский авиапром выпустил несколько типов специализированных антипартизанских самолетов: Potez 75, MS 1500 Epervier, SE.117 Voltigeur и др. Некоторые из них были вполне удачными образцами, неплохо себя показали в ходе боевых испытаний, однако командованию ВВС пришлось от них отказаться, т.к. промышленности на освоение их производства требовалось слишком много времени.
В качестве эксперимента в мае 1956 г. в Оране была сформирована 77-я бомбардировочная эскадрилья ЕВ 77 на шести MD-311. Поскольку эти машины можно было назвать бомбардировщиками лишь условно, результаты боевой работы части оказались скромными, в сентябре ее расформировали. Командование ВВС настаивало на создании в Алжире бомбардировочных частей, вооруженных Douglas В-26 Invader, которые хорошо зарекомендовали себя в Индокитае. В конце концов такое решение было принято.
В октябре 1955 г. в составе GOM 86 появилась 3-я АЭ, с февраля 1956 г. выросшая в отдельную группу GSRA 76. Она располагала 20 Ju 52, выпускаемых во Франции под наименованием ААС-1 Toucan. «Юнкерсы» выполняли патрульные и разведывательные полеты, наносили бомбовые удары. Правда, после того, как в октябре 1956 г. одна бомба взорвалась на борту и погубила самолет с экипажем, от выполнения ударных задач на ААС-1 французы отказались. В июле появилась еще одна эскадрилья с 10 «Юнкерсами», вскоре выросшая в группу ESRA 78. Получила развитие и транспортная авиация: в распоряжение командования в Алжире в январе 1956 г. были переданы десять Nord 2501 Noratlas, а также сформирована новая авиагруппа GT 3/62 Sahara на С-47. Учебный эскадрон ЕЕОС 1/17 полностью переключился на ведение боевой работы, и 1 апреля 1956 г. его переформировали в полноценную боевую авиачасть – 20-ю истребительную эскадру ЕС 20 с двумя эскадрильями по 18 самолетов.
Авиация ВМС также расширяла участие в боях. В первую очередь, это относится к переведенной в апреле из Индокитая флотилии 28F с шестью четырехмоторными патрульными бомбардировщиками PBY-4 Privateer и к «Корсарам» 14-й флотилии (14F). С 10-го апреля «Прайветиры» приступили к патрульным полетам над морем, налетав к концу месяца 350 ч. Однако изношенность самолетов существенно сократила их боевой потенциал. Боевая нагрузка иногда ограничивалась всего четырьмя 125-кг ОФАБ, с которыми бомбардировщики могли подниматься лишь на 3000 м. Для облегчения машин приходилось демонтировать верхние турели с двумя 12,7-мм пулеметами. На основе опыта, полученного вместе с вертолетчиками п-ка Креспэна, флот сформировал 31-ю флотилию (31F), вооруженную недавно закупленными «Летающими бананами» Н-21С. В середине года вертолеты этого типа получили и армейцы.
Все прибывавшие силы без промедления включались в боевую работу. Так, по данным разведки, 14 января в 30 км к югу от г. Бари– ка должна была состояться встреча командиров повстанческих отрядов. На операцию ушли 2 вертолета: один флотский, другой из 57-й группы. Они высадили отряд коммандос, который неожиданно напал на партизан и разгромил их, пленив шестерых человек.
В тот же день в районе тунисской границы совершал патрульный полет «Юнкере». На обратном пути у одного из оазисов он был обстрелян с земли и получил несколько пробоин. Следующим утром он вновь был над оазисом. Около 12.30 там же появилось звено Р-47 л-та Кастеллано, которому требовалось точное целеуказание, ибо к оазису весьма близко подошла своя пехота. За это взялся экипаж Ju 52. По его команде «Тандерболты» спикировали на место сосредоточения муджахидов и сбросили 48 10-кг бомб. Затем они с полчаса ходили над оазисом, поливая его пулеметным огнем. Примерно 20 человек пытались уйти, но Кастеллано их настиг и перестрелял. По окончании этой бойни пехотинцы насчитали 48 убитых и подобрали 35 винтовок. Когда летчик совершал посадку, оказалось, что тормоза истребителя не работают, и Р-47 выкатился за полосу. Покинув кабину, лейтенант насчитал в своем самолете более 200 пробоин!
22 января прошла удачная операция с участием вертолетов. Используя данные разведки о размещении двух рот бойцов АНО, командир 3-го колониального парашютного полка п/п-к Бижар решил атаковать их при помощи вертолетов. Для этого были выделены четыре Н-19 из ЕНМ 2/57. Рано утром «вертушки» начали переброску десантников. На ничего не подозревавших муджахидов с неба внезапно обрушились солдаты и моментально открыли огонь. Они уничтожили 43 партизана, пленили 96 и захватили 112 единиц оружия. Сами потерь не понесли.
Еще одна примечательная операция была проведена 8 марта. Накануне восстали солдаты одной из рот 3-го батальона алжирских стрелков. Перебив европейских офицеров и сержантов, взяв все вооружение, они двинулись в сторону гор. На перехват дезертиров был поднят полк Бижара, которому выделили шесть Н-19 из GH 2. Сам Бижар для координации действий подчиненных вылетел на легком Н-13. Вертолеты догнали восставших уже на подходе к их цели, зашли с разных сторон и высадили десантников, которые в коротком бою разгромили мятежную роту. Она потеряла 126 человек убитыми и 15 пленными. После этой акции вертолетные десанты окончательно «узаконили» в планах боевых операций.

Поврежденный огнем с земли Р-47 совершил вынужденную посадку

Учебно-тренировочные самолеты MS 733 и SIPA 1 НА французы использовали как легкие штурмовики

19 марта пара Н-19 из GMH 057 была направлена на выручку группы легионеров, попавшей в засаду у границы с Марокко и потерявшей командира. Вечером вертолеты высадили под огнем отделение коммандос, которые помогли своим эвакуироваться. Уже на отходе был ранен один из вертолетчиков – л-т Гарнье. Его место занял сержант Ренодэн, сумевший в темноте привести «вертушку» на аэродром. Это был первый случай ранения вертолетчика в Алжире.
Однако далеко не всегда авиация становилась волшебной «палочкой-выручалочкой» для наземных войск. Так, 13 апреля восьмерке «Мистралей» из Бизерты дали задание разбомбить мост через одно из горных ущелий, которым постоянно пользовались муджахиды. Для выполнения задачи подготовили 500-фунтовые бомбы, залежавшиеся еще со времен боев с Роммелем. Условия бомбометания в ущелье были очень сложными. И хотя летчики проявили чудеса профессионализма, совершая по 3 вылета в день и неоднократно попадая в мост, толку от этого не было никакого: бомбы рикошетировали и взрывались не ближе ста метров от цели. Запас их закончился, а мост продолжал стоять. В конечном итоге, с ним покончили саперы-подрывники, переброшенные на вертолетах.
К лету интенсивность боевой работы французской авиации еще более возросла. Например, когда с 1 по 3 июня в Западной Константине силами двух пехотных дивизий проводилось прочесывание районов сосредоточения боевиков, операцию поддерживали с воздуха все три «реактивные» эскадры, а также «Корсары» из 12F и эскадрилья Р-47. Интересно, что действиями всей этой армады руководил полковник Кюффо – ветеран «Нормандии-Неман». 13 июня в ходе обстрела муджахидов на бреющем полете был подбит «Мистраль» из 1/8 АЭ. Катапультное кресло сработало не сразу, и у наблюдавших падение машины партизан сложилось впечатление, что летчик погиб. Однако сержант Мальвезен в последний момент сумел катапультироваться. Арабы попытались подойти к месту падения самолета, но не смогли: над ним постоянно находилось звено «Тексанов». Уже в сумерках там приземлился на «Пайпере» ветеран Индокитая сержант-шеф Гранжана, который вывез сбитого летчика.