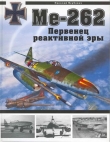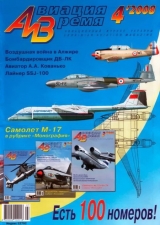
Текст книги "Авиация и время 2008 04"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
После обеда удалось сделать первую пробежку. При этом наблюдавшие за ней специалисты заметили, что самолет оторвался от земли и пролетел с десяток метров. Когда он остановился, руководитель полетов А.И. Никонов сообщил об этом летчику. К.И. Чернобровкин возразил, сказав, что заданную скорость рулежки 170 км/ч он строго выдержал и подлета быть не могло. Для снятия противоречий он попросил разрешить ему повторить пробежку. А.И. Никонов задумался, летчик посчитал молчание знаком согласия, закрыл фонарь и быстро порулил на старт, благо двигатель был запущен. Он не дождался даже инженера-испытателя, который по инструкции обязан был осмотреть самолет после первой пробежки. Все произошло так быстро, что никто ничего не успел предпринять.
Короткий зимний день угасал, было сумрачно, валил крупный пушистый снег, еще больше ухудшив видимость. Самолет разбежался, опять подлетел, слегка накренился и задел законцовкой крыла УАЗик, стоявший на краю полосы. Крен перешел в скольжение, и самолет полетел на людей, стоявших на снежных отвалах вдоль ВПП. Летчик резко взял ручку на себя, увеличил газ, и М-17 скрылся в снежном тумане.
Все обмерли: радиолокационная приводная станция не работает, освещение ВПП отсутствует, естественных ориентиров нет, да еще метет пурга! В наступившей мертвой тишине послышался глухой шум двигателя: самолет возвращался и шел на посадку. Но летчик превысил необходимую высоту и ушел на второй круг. При вторичном заходе он снизился слишком рано и задел крылом сопку, расположенную у начала полосы. Самолет упал, вращаясь в горизонтальной плоскости. Летчик, не зафиксированный привязными ремнями, ударился виском о переплет фонаря и погиб. Так трагически и нелепо завершились, казалось бы, безобидные пробежки первого М-17.
Новый этап
Официальное основание для продолжения работ по «теме 17» появилось только через два с половиной года, когда вышло очередное Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 5 июля 1981 г. «О создании трех опытных самолетов М-17 в 1981-84 гг.». Однако на ЭМЗ работы над машиной не прерывались. В ее конструкцию были внесены некоторые изменения. Например, еще в 1979 г. решили отказаться от крыла изменяемой формы из-за возможного заклинивания сложного тросового механизма. Вместо него применили крыло обычной конструкции, оснащенное лишь интерцепторами и зависающими элеронами.

Полет завершен. Справа – воздухозаборник оснащен устройством для защиты от попадания посторонних предметов

Носовая опора шасси

Левая основная опора шасси
Новый главный конструктор ЭМЗ В.А. Федотов имел твердое намерение – испытания второго образца М-17 проводить только в ЛИИ в г. Жуковском, так как печальный опыт говорил о полной неприспособленности заводского аэродрома в г. Кумертау для этой цели. Руководство КумВЗ резко возражало против этого и активно готовило мероприятия по расширению существующей ВПП и ее обустройству. Для обоснования своего мнения В.А. Федотов поручил ведущему конструктору Б.М. Морковкину подготовить и обеспечить маршрут доставки самолета с завода-изготовителя в Жуковский, используя систему рек: Белая-Кама-Волга-Ока-Москва-река.
«Самым сложным был первый этап маршрута – доставка М-17 с завода на р. Белую в объезд крупных населенных пунктов с недостаточно широкими дорогами и погрузка секретного груза на баржу, – рассказывает Б.М. Морковкин. -Для этого необходимо было найти удобный и укрепленный подъезд к р. Белая.
Первая разведка не дала результатов – надежного подъезда не оказалось от г. Кумертау вплоть до г. Уфы. Обследуя берег реки, я наткнулся на строящийся мост. Поднявшись на него, поделился своей проблемой с главным инженером стройки. Он сказал, что готового подъезда в округе нет и необходимы большие строительные работы для его организации, поэтому он предлагает свою помощь: «Привозите ваш груз на мой мост, мы берем его мостовым краном и грузим на баржу». Решение было простым и красивым. Я посмотрел вниз на зеркало воды -до нее было метров сто – и мне вдруг стало не по себе. Но иного решения не было, и я предложил эту идею главному конструктору.
Валентин Александрович задумался, а потом сказал: «Мне стало все ясно – первый самолет мы разбили, а второй утопим». Я молча повернулся и опять поехал в г. Уфу – трудно было смириться с тем, что около столицы Башкирии нет хотя бы одного подходящего подъезда к реке. Самое удивительное, что опасения главного конструктора вскоре подтвердились: введенный в эксплуатацию мост пришлось закрыть на ремонт из-за осадки одной из опор.
Настойчивые поиски наконец-то привели к успеху. Местный старожил вспомнил, что лет 10 назад по реке привозили крупногабаритное оборудование, и для его разгрузки был сделан причал. С большим трудом мы разыскали его. После расчистки обнажились мощные бетонные плиты, которые хорошо сохранились. Подъезд был найден! После этого оставалось обеспечить необходимую ширину дороги около 15 м для доставки самолета автомобильным транспортом.
Интересно отметить, что в процессе подготовки трассы пришлось спилить несколько огромных древних эвкалиптов, посаженных в царствование Екатерины II. Для этого понадобилось специальное постановление правительства Башкирской АССР.
Сейчас уже трудно в это поверить, но все работы по обустройству дороги – ее расширение, укрепление двух мостов, бетонирование повреждений и т. д. – привлеченные рабочие выполняли бескорыстно. Лишь иногда я угощал их после напряженного трудового дня национальным русским напитком, запасы которого хранились в будке у знакомого сторожевого пса на причале.
При производстве работ на шум прибыло местное начальство в лице председателя Уфимского горисполкома, видимо, с целью оказать всяческое содействие. Когда же мэр увидел взявшийся как из-под земли добротный причал, широкую подъездную дорогу, он был приятно поражен, сказав: «Вас как будто Бог послал». Наболевшая проблема обслуживания прибывающего в г. Уфу речного транспорта оказалась внезапно близкой к решению.

Крыло большой площади позволило обойтись на М-17 без использования взлетно-посадочной механизации


Хвостовая часть фюзеляжа и воздухозаборник турбостартера
Плавание прошло без особых неожиданностей, за исключением случая, когда наша баржа наскочила ночью на лодку браконьера на р. Каме. Тот предусмотрительно упал на дно своей «Казанки», плоскодонная баржа проскрежетала по ее бортам, и горе– рыбак остался цел и невредим, чего нельзя сказать о его рыболовных сетях».
Самолет был благополучно доставлен и собран на ЭМЗ в г. Жуковском. В ноябре 1981 г. его передали на летно-испытатель– ный комплекс (ЛИК) для проведения наземной отработки систем. 11 мая 1982 г. метод– совет МАП рассмотрел мнения головных институтов о готовности самолета к летным испытаниям. Было выдано заключение на проведение первого полета.
26 мая второй летный образец М-17 поднялся в воздух. Его пилотировал заслуженный летчик-испытатель СССР З.Н. Чельцов. К большой радости собравшихся на аэродроме ЛИИ, все прошло нормально. Начались напряженные дни испытаний и доводок.
Трудностей в процессе летных испытаний было предостаточно – высотные самолеты очень капризны и своенравны. В июне– июле удалось выполнить 4 полета, в которых определялись летно-технические, взлетно-посадочные и прочностные характеристики, устойчивость и управляемость машины, прошла проверку работоспособность силовой установки. По результатам этих полетов провели доработки самолета: усилили основные стойки шасси, перекомпоновали некоторые агрегаты топливной системы для удобства обслуживания, заменили некоторые пилотажно-навигационные приборы и т.д.
В августе 1983 г. самолет передали в ГК НИИ ВВС для проведения этапа «А» совместных Государственных испытаний. В течение 1983-86 гг. по их программе было выполнено 133 полета. Удалось достигнуть высоты 21500 м и максимальной приборной скорости 285 км/ч. В числе прочих испытаний были проведены запуски двигателя на высотах 4000-8000 м и посадка с выключенным двигателем. В этот период коллектив ЭМЗ оперативно проводил работы по устранению конструктивных и производственных дефектов, которые были обнаружены во время испытаний.
Очень важное значение приобрели работы, проведенные на 17ЛЛ-2. Эту летающую лабораторию передали ЛИКу в августе 1984 г. и использовали для наземных, а затем летных испытаний. На этой машине провели практическую отработку боевого комплекса самолета М-17, включавшую стрельбы фугасно-зажигательными снарядами по реальным аэростатам-мишеням.
Завершить испытания боевого комплекса собирались на третьем летном экземпляре М-17, который оснастили пушечной установкой. Его собрали на ЭМЗ из агрегатов, изготовленных в Кумертау. 20 марта 1985 г. В.В. Архипенко совершил первый полет на этом самолете. Во время заводских испытаний не все проходило гладко. В пятом полете произошел отказ демпфера курса, и садиться пришлось на запасном аэродроме.
После выполнения ряда доработок самолет подготовили к смотру авиационной техники, который прошел на аэродроме Мачулищи в Белоруссии. В общей сложности в 1985-87 гг. эта машина совершила 51 испытательный полет, в том числе в ГК НИИ ВВС по программе Госиспытаний. 22 полета, выполненные В.В. Архипенко, были посвящены отработке системы вооружения. Вначале проводились «примерочные» попытки с прицеливанием по Луне, которая играла роль АДА. Затем прошли боевые стрельбы. Поисково-прицельная станция и пушка работали великолепно – было сбито 9 аэростатов, следовавших на высотах 17-21 км. Кроме того, на третьем летном экземпляре М-17 проводили полеты для испытаний пилотажного комплекса ПК-17, изучения прочностных характеристик планера и вибронагрузок, определения загазованности, доводки САУ.

Второй летный экземпляр М-17 на стоянке летно-испытательного комплекса ЭМЗ им. Мясищева в Жуковском

Третий летный экземпляр М-17 – экспонат музея ВВС в Монино

Второй летный экземпляр самолета М-17 в начале 1990-х гг. использовался в программе «Глобальный резерв озона». В этот период самолет имел различные надписи на борту

Третий летный экземпляр М-17 в настоящее время является экспонатом авиамузея в Монино

Оставшийся не у дел
В ноябре 1983 г. советская ПВО зафиксировала пролет очередного АДА, запущенного со стороны Норвегии. На этом воздухоплавательную кампанию против СССР американцы прекратили. Однако у нас об этом пока не подозревали и ожидали дальнейших вторжений, поэтому работы над совершенствованием М-17 продолжались. В 1984 г. была открыта «тема 61» – «Техническое предложение по созданию самолета-истребителя АДА М-17ПВ», который предполагали оснастить новой ППУ с пушкой большего калибра. Расчеты показали, что отдача такой системы будет чрезмерной, и от перевооружения М-17 отказались. В 1986 г. открыли «тему 65», направленную на создание эскизного проекта самолета– истребителя АДА М-17П с модифицированным крылом увеличенного размаха. Но вскоре появилось межгосударственное соглашение о запрещении запуска АДА в чужое воздушное пространство. Фактически к тому времени их использование в разведывательных целях утратило свою значимость в связи с развитием космических средств. В результате программу перехвата аэростатов закрыли, и Госиспытания М-17 так и остались не завершенными.
Но история самолета М-17 на этом не закончилась. Гриф секретности с него сняли, машина получила имя «Стратосфера», и началась ее подготовка к выполнению рекордных полетов. Она закончилась успешно, и весной 1990 г. летчики-испытатели фирмы В.В. Архипенко, Н.Н. Генералов и О.Г. Смирнов установили 25 мировых рекордов высоты, скорости и скороподъемности в подклассе С-11 (однодвигательные реактивные самолеты массой 16-20 т). В том числе: 28 марта В.В. Архипенко поднялся на 21880 м и совершил там горизонтальный полет, 6 апреля он же одолел (без груза) высоту 20000 м за 21 мин 58 с, 19 апреля О.Г. Смирнов поднял 2 т на 12000 м за 8 мин 44,8 с, 3 мая Н.Н. Генералов с таким же грузом забрался на 15000 м за 12 мин 54 с, 18 апреля В.В. Архипенко пролетел по замкнутому 500-км маршруту со средней скоростью 734 км/ч.
Кроме того, М-17 использовали в программе «Глобальный резерв озона» для изучения состояния озонового слоя над Москвой. Организаторами этой работы стали объединение «Ноосфера», Московская патриархия и ЭМЗ, а спонсором – Экспериментальный машиностроительный завод
«Серп и молот». Известно, что запуски космических кораблей, особенно американских «Шаттлов», а также полеты сверхзвуковых самолетов на высотах более 20 км приводят к истощению озонового слоя. Защита Земли тает, и прямые космические лучи способны уничтожить все живое на планете. Отсюда понятно, сколь важной была работа, проводимая с помощью М-17. Появились у «Стратосферы» и другие мирные задачи. Например, экологический мониторинг. Однако ресурс двигателей самолетов М-17 был исчерпан, а заменить их оказалось невозможно, т.к. выпуск РД-36-51В прекратили. Второй летный экземпляр М-17 долго стоял на аэродроме в Чкапов– ской, затем разобранным был передан в Монинский авиационный музей, где находится и сейчас в очень неприглядном виде. Там же обрел свое постоянное «место жительства» и третий летный экземпляр.
Таким образом, можно констатировать, что задача создания эффективного высотного самолета-истребителя АДА была решена, но произошло это слишком поздно, когда надобность в нем отпала. Накопленный за годы работы над М-17 опыт специалисты ЭМЗ использовали при создании следующего высотного самолета М-55, который заслуживает отдельного рассказа.
Автор выражает признательность за помощь сотрудникам ЭМЗ: А.А. Бруку, В.Н. Гончарову, С. Г. Смирнову, В.Ф. Балберовой, В.И. Погодину.

Анатолий Демин/ Москва
Фото предоставлены автором
Воздушные драконы Поднебесной. Часть 2. Помощь идет!
Продолжение. Начало в «АиВ», №№4-6'2007, 32008.
Отбор летчиков-истребителей и экипажей бомбардировщиков для выполнения «специального правительственного задания» прошел с середины сентября до конца первой декады октября в обстановке строжайшей секретности. Несмотря на это, сведения о появлении нового места для выполнения интернационального долга (наряду с Испанией) постепенно, но достаточно быстро распространились среди летчиков. Командованию всех рангов стали поступать многочисленные рапорты с просьбами, а иногда и категорическими требованиями послать на войну.
В то же время, те строевые летчики, на кого первым пал выбор, сначала были в полной уверенности, что попадут «на испанскую корриду». Тем более, что на Дальний Восток для инспекции авиачастей прибыла специальная «наркомовская» комиссия – знаменитые «испанцы» комбриги П.И. Пум– пур и Я.В. Смушкевич. В 9-й отдельной ИАЭ им. К.Е. Ворошилова шла скрупулезная проверка индивидуальной подготовки, в первую очередь, техники пилотирования. По воспоминаниям летчика Д.А. Кудымова, выбрали, в основном, «старичков», служивших в эскадрилье еще в Смоленске, где в начале 1930-х гг. сам Я.В. Смушкевич служил комиссаром авиабригады. В 32-й отдельной ИАЭ ВВС Тихоокеанского флота отобрали еще шестерых. По дороге в Москву в этой группе «припоминали слышанные испанские слова и заучивали их, повторяя как молитву. На станциях поочередно бегали по газетным киоскам и лавкам – не попадется ли русско-испанский словарь, лучше – разговорник». Но попали они не на «корриду», а на «китайско-японскую чайную церемонию» и, как писал Д.А. Кудымов, «. . .кто мог предполагать, что понадобится-то нам русско-китайский?»
Судя по документам РГВА, в качестве волонтеров первоначально рассчитывали использовать, главным образом, летчиков– истребителей Брянской истребительной авиабригады, а большинство морских летчиков (особенно из авиации Балтийского флота) изначально планировалось не для участия в боях, а исключительно как перегонщики. Вероятно, командование учитывало, что в авиации ВМФ значительно больше внимания уделялось полетам по маршруту. Впоследствии в Синьцзяньском среднегорье навыки полетов над безориентирной местностью многим из них очень пригодились, а некоторым спасли жизнь.
Летчиков с Дальнего Востока отправили в Москву, где в летной бригаде Академии им. Н.Е. Жуковского собрали добровольцев со всей страны. Я.И. Апкснис, побеседовав лично с каждым кандидатом, в заключение сказал, что «для Китая мы подобрали… сливки авиации». Одновременно с представлением руководству ВВС летчиков наспех ознакомили с основными характеристиками японского истребителя «тип 95» (Ki.10). Некоторые из пилотов вообще пробыли в Москве чуть более суток. К 21 октября для отправки в Китай подготовили 447 человек, включая наземный технический персонал, специалистов по аэродромному обслуживанию, инженеров и рабочих по сборке самолетов. Переодетых в «гражданку» военнослужащих поездом отправили в Алма-Ату. На вокзале их провожал сам Я.В. Смушкевич, невольно демаскируя всю эту затею. Тем не менее, в поезде летчики выступали как «спортивная команда», а «испанец» Г.Н. Захаров, будущий Герой Советского Союза, представлялся железнодорожным властям и всем любопытным как старший из легендарных тогда легкоатлетов братьев Знаменских, исправно раздавая автографы.
Для обеспечения перелета самой первой партии самолетов в штабе ВВС срочно составили «План переброски людей по перелету в «Z». Основная сложность заключалась в том, что технический персонал промежуточных баз, хотя бы и в минимальном количестве, требовалось доставить на места до прилета первых перегоняемых самолетов. В качестве скоростных пассажирских лайнеров решили использовать суперновинку советской бомбардировочной авиации – самолет ДБ-3 конструкции С.В. Ильюшина. Китайцам в тот период их передавать не собирались и использовали как быстроходные транспортники для оперативного обслуживания трассы.
Четыре ДБ-3 взяли из авиачастей и на авиазаводе № 39 в Москве, сняли с них бомбовое вооружение, бомболюки плотно закрыли толстой фанерой и установили дополнительные бензобаки. Внутри фюзеляжа по обоим бортам поставили диваны, в результате каждый ДБ-3 перевозил в фюзеляже 11 пассажиров или соответствующий груз на дальность более 2000 км, т.е. мог пройти всю трассу с одной промежуточной посадкой. Иногда приходилось перевозить и больше, особенно летчиков-перегонщиков, летевших, к тому же, с парашютами.
Постепенно на трассу прибывали все новые самолеты. Вместе с ДБ-3 и ТБ-3 здесь начали летать знаменитые «Дугласы» DC-3, старенький пассажирский ПС-9 (АНТ-9) и переделанный из бомбардировщика ТБ-1 «грузовик» Г-1, Р-5 и его пассажирский вариант ПР-5, китайская «Савойя» и другие машины. Общий налет по трассе в 1937 г. составил: ТБ-3 – 318 часов, ДБ-3 – 190, DC-3 – 32, ПР-5 и Р-5 – 282, ПС-9 и ТБ-1 – 117. Всего – 939 часов. Судя по налету, в 1937 г. основной «транспортной лошадкой» оказался ТБ-3, и на трассу затребовали дополнительные «тяжеловозы», поскольку ДБ-3 все время преследовали аварии и катастрофы.
В начале октября китайский представитель генерал Ян Чи сообщил, что на промежуточные базы завезли достаточно авиа– и автобензина. На аэродромах в Ганьчжоу и Ляньчжоу еще шли работы по расширению площади (обещали закончить к 10 октября), а все остальные с размерами 1000 х 1000 м были готовы. При этом генерал настоятельно просил немедленно перебросить первую партию самолетов.
Впоследствии стрелок-радист с ДБ-3 А.А. Анисифоров вспоминал, что в Центральном Китае «заправка самолета бензином требовала не только больших хлопот, но особенно – внимания. В Ланьчжоу баки заправляли американским горючим, которое доставлялось на аэродром на верблюдах. С каждой стороны животного, в плетеных сетках висело по 8-10 запаянных банок по 15 килограммов. У самолета верблюды покорно ложились, поджимая под себя ноги. Китайские солдаты брали из сеток банки и передавали их по цепочке к лестнице, стоявшей у крыла. Дальше ее поднимали вверх на площадку, где китаец ловким ударом штыря пробивал по диагонали отверстия, одно большое для слива горючего, второе малое для воздуха – и подавал ее на крыло технику… [Тот], приняв, выливал горючее в баки самолета через воронку с замшей. Пустую банку бросал на крыло. В это время была готова следующая. К концу заправки самолета горючим за крыльями лежали горы банок». Что касается китайского бензина, то он был низкокачественным и, ко всему, грязным, что создавало немалые проблемы – на нем моторы не могли развить полную мощность. Однажды в Шихо из-за того, что моторы «захлебнулись» грязным бензином, один из ДБ-3 потерпел аварию, ремонт затянулся до марта 1938 г. А один раз в Урумчи китайцы по ошибке вообще начали заливать в бензобаки воду!

Для перелетов из СССР в Китай И-16 оснащали подвесными баками

Советские и китайские техники работают на УТИ-4
Начиная с 13 октября, Я.И. Алкснис, державший под личным контролем каждую мелочь, вплоть до назначения ответственных за изготовление дополнительных бензобаков к И-16 и УТИ-4, ежедневно из Москвы «бомбил» командование трассы в Алма-Ате шифротелеграммами с инструкциями и требованиями немедленно начать перелет: «Перелет экипажей организовать звеньями на дистанциях и интервалах в пределах обязательной видимости. Маршрут в основном вдоль тракта, чтобы в случае вынужденной посадки садиться вблизи него. При вынужденной посадке соседний самолет по заранее установленному порядку наблюдает до места посадки, точно фиксирует место вынужденной посадки и только после этого продолжает полет по назначению. О времени вылета [из] Алма– Аты предупредить Урумчи… Впереди эшелона вылетает ДБ-3 в качестве разведчика погоды [с] расчетом обеспечить эшелон данными о погоде по радио и посадку на аэродроме назначения. При распределении самолетов первого эшелона по звеньям в каждом звене иметь один самолет с радиостанцией… Перегон самолетов первого эшелона произвести нашими экипажами. Летчики друзей (т.е. китайцы. – А.Д.), если захотят, могут лететь пассажирами…».
Однако, несмотря на все усилия руководства ВВС и отчаянные просьбы китайцев ускорить перегон, первую группу СБ удалось «вытолкнуть» в Китай лишь 20 октября, и то не дожидаясь завершения оборудования трассы и прибытия всего наземного персонала. 10 СБ взлетели в Алма-Ате, но до границы добрались только семь (одно звено, не пролетев и 120 км, вернулось из-за выброса воды из радиатора у ведущего). Остальные благополучно сели в Урумчи, лишь у одного на посадке лопнула покрышка. Его пришлось оставить. На взлете в Урумчи потерпел аварию самолет № 2/38, потребовавший заводского ремонта. Экипаж остался невредим. Остальная пятерка 24 октября благополучно прибыла в Ланьчжоу.
21 октября в 16.00 в Урумчи приземлилась вторая шестерка СБ, ее вел сам ком– эск Н.М. Кидалинский. На посадке один СБ был разбит – снесено шасси, вырваны моторамы, поломаны лонжероны крыла и винты. Машина ремонту не подлежала, и ее разобрали на запчасти. Остальные к 22 октября добрались до Сучжоу, потеряв в пути еще одну машину, севшую в Хами то ли из-за перебоев моторов, то ли от потери ориентировки. 26 числа четверка СБ прибыла в конечный пункт трассы. 22 октября в Кульджу ушли первые 10 И-16 с лидером СБ. Постепенно сетевые графики перегонки самолетов превращались в «дефектные ведомости» – аварии и поломки матчасти посыпались, как из дырявого мешка.
Так, по данным на 30 октября два СБ находились в Урумчи. Один ожидал из Алма– Аты левую вилку шасси, второй разбирали на запчасти. Разбитый в районе Хотуба И-16 летчика Кириллова везли в Урумчи для разборки на запчасти, где в это время ремонтировали И-16 летчика Конева. Еще на одном И-16 ремонтировали бензобак в Кульдже. Вылетевший 24 числа из Гучена летчик Годин на И-16 «затерялся» на трассе, его долго искали. Из 27 И-16, улетевших в провинцию Ганьсу, три были разбиты около Сучжоу. 31 октября летчик Л.М. Рымко при посадке в Кульдже разбил И-16, поломав шасси, крылья и винт. Самолет требовал заводского ремонта. Причиной аварии посчитали неправильный подход к аэродрому и действия летчика на пробеге – «не законтрил шасси», отчего произошел разворот. Рымко отправили назад, в Алма-Ату. 26 октября в сетевых графиках появилась первая запись: «1 СБ неизвестно где». В ноябре в штабных документах пометок типа «нет данных» и им подобных значительно прибавилось.
Основными причинами аварий стали плохое состояние аэродромов, недостаточная обученность летчиков, спешка, просчеты в организации перелетов – попытки «перескочить» через базу без посадки, поздний выпуск группы и т.п. 27 октября в районе Сучжоу погиб опытнейший летчик ст. лейтенант В.М. Курдюмов (общий налет 727 часов, 1800 посадок), налетавший на И-16 135 часов (900 посадок). В катастрофе по обыкновению обвинили погибшего пилота, он якобы не учел высоту аэродрома в среднегорье, пониженную плотность воздуха и выкатился за полосу. На самом деле основная вина лежит на руководителе полетов: с предыдущего аэродрома тройку Курдюмова выпустили лишь в 18.00, и они прилетели в пункт назначения уже в сумерках.
В последний день октября летчик Ревбурд снес шасси, задев при посадке в Ланьчжоу глиняный забор. В тот же день свою лепту в «производство дров» начали вносить и «друзья»: один китайский летчик поломал шасси на СБ, другой разбил И-16. По данным на 7 ноября, на трассе уже разбили 22 И-16, 5 СБ и один ДБ-3. Из них восстановлению подлежали только 6 истребителей.
По состоянию на 1 ноября, в Ланьчжоу прибыли 16 исправных СБ, 13 И-16 и 6ТБ-3. В соответствии с телеграммой Чан Кайши, их собирались перебросить в Ханьчжун (южная часть пр. Шэньси) и в Чэнду (пр. Сычуань). А 3 ноября практически по всей трассе пошел снег, что еще более затруднило перегонку. По воспоминаниям летчика Г.Н. Захарова, во время ночевки группы в Гучене «за ночь площадку и самолеты так занесло снегом, что наутро пришлось ломать голову над тем, как взлететь. Расчищать взлетную полосу было нечем – места дикие, малолюдные. Я тогда выпустил два истребителя на рулежку, и в течение двух с половиной-трех часов они, руля след в след, накатывали колею. Взлетать с колеи рискованно – это же не по лыжне с рюкзаком идти. Метр в сторону при разбеге – и авария… Но другого выхода не было…»

Ремонт переданных Китаю истребителей

Авария бомбардировщика СБ
Захарову еще повезло. Одна из групп И-16 из-за снежной бури просидела около месяца в Гучене и даже встретила там в глинобитной мазанке новый 1938 год. Когда стихия утихла, по словам техника В.Д. Землянского, «оказалось, что истребители только угадывались под сугробами». Для расчистки аэродрома мобилизовали немногочисленное местное население – китайцев, уйгуров, дунган. Они пробили в снежных завалах рулежные дорожки и «взлетно-посадочную траншею». В это же время группа бомбардировщиков Ф.П. Полынина на другом аэродроме в монгольских степях в течение двух недель укрывалась от песчаной бури.
7 ноября произошло столкновение двух И-16 в воздухе. По сообщению китайцев, один самолет сразу сорвался в штопор, другой некоторое время еще держался в воздухе, но вскоре также заштопорил до земли. С парашютами никто не выпрыгнул. Погибли лейтенант Н.З. Ткаченко и старшина Н.И. Кириллов. 22 ноября произошла четвертая по счету катастрофа, на трассе «затерялся» и погиб лейтенант Н.Н. Нежданов. Обстоятельства его гибели неизвестны, в ряде источников он числится сбитым в воздушном бою и похороненным в Нанкине. На самом деле он пропал без вести и в сетевых графиках до начала декабря, т.е. около 10 дней (!) числился летевшим по трассе с припиской «нет данных».
К 15 ноября, то есть к первоначально запланированной дате окончания перегонки, общее число полностью разбитых самолетов выросло настолько, что сдать «друзьям» запланированную партию машин уже не было никакой возможности. Адекватно оценивая ситуацию, Алкснис еще 11 ноября приказал: «…длязамены самолетов, потерпевших аварии при перегонке… [в] «Z», необходимо дополнительно отправить в самом срочном порядке в Алма-Ату для сборки 10 СБ и 15 И-16». Ко 2 декабря, то есть ко времени вступления в бой первых советских добровольцев, в Ланьчжоу сдали «друзьям– только 86 самолетов (51 И-16, 5 УТИ-4. 24 СБ и 6 ТБ-3) – около двух третей заказанной партии.
Весь ноябрь в Ланьчжоу накапливали перелетевшие самолеты и сдавали их китайским властям. Там же на плоскости и на фюзеляжи наносили белые двенадцатилучевые звезды на голубом или синем фоне (эмблема гоминдановского правительства), а на руль поворота – бело-голубую «зебру» (четыре синих и три белых горизонтальных полосы, на ряде машин полос было больше). Зачастую отшелушившаяся краска превращала киль в набор грязно-белых пятен неправильной формы. Впоследствии на часть самолетов поверх «родной» алюминиевой или светло-серой краски нанесли пятнистый камуфляж (грязно-зеленый или серо-коричневый). На фюзеляжах китайцы белой краской рисовали четырехзначные номера огромного размера, исключение составляли только И-16, на которых размер цифр не превышал 25-30 см. Две первые цифры означали номер эскадрильи, две последние – номер самолета. Иногда номера писали через тире, например, № 3-6.
Поскольку «Операции Z» придавалось государственное значение, о движении самолетов, вплоть до каждой машины, ежедневно докладывали в Москву, где информация через штаб ВВС ежедневно поступала в Генштаб и на стол к Ворошилову. Многочисленные аварии на промежуточных аэродромах вызвали его крайне резкую и очень негативную реакцию. 28 октября нарком потребовал «подробную справку о подборе и инструктаже летно-подъемного состава для «Z»… [и] обязательно возвратить (всех аварийщиков, – А.Д.), а тех, кто их наметил для посылки, вызвать ко мне». Выполняя приказ, назначенный 31 октября начальником авиатрассы комкор П.И. Пумпур срочно откомандировал «аварийщиков», сообщив при этом, что комзвена 17 СБАЭ Захаров разбил СБ при посадке в Урумчи «по недисциплинированности, вопреки указаниям», а комзвена 18 СБАЭ Чернобаев «на своем аэродроме случайно не разбил такового, и в дальнейшем при проверке его техники пилотирования показал неудовлетворительные результаты…»
В докладной на имя Апксниса член Военного Совета АОН-1 корпусной комиссар Гринберг сообщал, что названных «аварийщиков» он лично в течение одной ночи отправил в «Z» для замены отклоненных НКВД кандидатур, руководствуясь «положительной рекомендацией со стороны отъезжавшего в командировку комэска к-на Кидалинского и инструктора по технике пилотирования ст. л-та Новодранова». Он также писал, что «товарищи Захаров и Чернобаев, в отличие от значительной части отправлявшихся в спецкомандировку из 93 авиабригады летчиков, имели большой налет до перехода на СБ. Захаров имел общий налет 157 ч, из них на самолете СБ 10 ч 55 мин. Чернобаев имел общий налет 307 ч, из них на СБ 9 ч 15 мин. Аттестацию по части летной имел хорошую… Политически оба эти летчика никаких сомнений не вызывали». В свою очередь, Алкснис и член Военного Совета ВВС Кольцов, переадресовав Ворошилову объяснения Гринберга, особо подчеркивали, что «аварийщики» успешно прошли через кадровое «сито» УВВС.