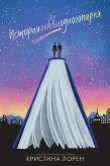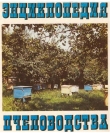Текст книги "Русская жизнь. Лень (май 2009)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
III.
Ариадна Эфрон, вернувшаяся в СССР в 1937 году после пятнадцатилетней эмиграции, писала парижским друзьям большие восторженные письма. Ее восхищало, кажется, все: булочные и кондитерские, которым позавидовал бы Париж, на улицах не пристают, во всей Москве – ни одного человека, который не знал бы Пушкина, ни единого бранного слова в толпе, в театр ходят целыми заводами, а особенно ее пленило вот что: «…за все свое пребывание я не встретила ни одного человека, который бы не работал или не учился бы».
В самом деле – найти такого человека было затруднительно. К тридцать седьмому году тунеядца надо было искать днем с огнем.
Особенное очарование феномена российского тунеядства – в его внесословности; были, конечно, попытки идентифицировать нетрудящиеся классы как целиком тунеядские (аристократию, духовенство), но тунеядец попер изо всех социальных страт. Уже в декабре 1917 года Ленин в статье «Как организовать соревнование», мечтая об «очистке земли российской от всяких вредных насекомых», смешал сословные метки в одном флаконе: «В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы…В другом – поставят их чистить сортиры. В третьем – снабдят их, по отбытию карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления надзирал за ними, как вредными людьми. В четвертом – расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом – придумают комбинацию из этих средств».
Комбинировались не только средства, но и социальные признаки, – после 1930 года, когда в СССР была официально ликвидирована безработица, тунеядцем могли объявить не просто человека, находящегося в поисках работы, но и заслуженную домохозяйку, и многодетную мать, и деятеля культуры, не состоящего в творческих союзах. (Так, например, исключали из партии А. Аскольдова – будущего режиссера фильма «Комиссар»; легендарный первый секретарь московского горкома В. Гришин, общенародную ненависть к которому не ослабила даже щемящая его сверхсимволическая смерть в собесе, требовал, чтобы тунеядец Аскольдов шел работать дворником; Аскольдов и пошел – правда, не в дворники, но на строительство КАМАЗа, работал плотником-бетонщиком). Собственно, тунеядством стали считать любую невключенность в социалистическую экономику и любой нестандарт занятости, – однако полную юридическую субъектность это явление обрело довольно поздно, в знаменитом 1961-м. До того язык документов и указов обходился громоздкими причастными оборотами. Например, тунеядцев называли «лицами, злостно уклоняющимися от трудовой деятельности в сельской местности» (по указу 1948 года полагалась высылка в отдаленные районы) или, напротив, яркой, образной, прямо-таки ленинской инвективностью: «летуны, лодыри, прогульщики и рвачи», – как выражался Указ «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле» (1938 г.).
Знаменитый постоттепельный закон «О борьбе с тунеядством» 1961 года, сделавший «биографию нашему рыжему», был жестокой, но довольно-таки беспомощной попыткой государства противостоять наглой стихии консьюмеризма. Казалось, всего-то и было – XX съезд, культ личности забрызган грязью да всемирный фестиваль молодежи, – а железный занавес стал на глазах превращаться в сквозные французские жалюзи. Пугали не только экспансия фарцы и расцвет валютчиков, но главным образом, конечно, утверждение новых, устрашающих и непостижимых в своей неуправляемости форм жизни. «К началу шестидесятых в СССР скопилось слишком много цеховиков. Эти подпольные миллионеры не знали, куда девать деньги», – вспоминал один из известнейших советских фарцовщиков и стиляг Макс Герасимов, тоже сосланный в Архангельскую губернию. Бродского судили, конечно же, не за стихи и не за тунеядство как таковое, а за общую стилистическую враждебность. Заразу давили публично, массированно, суды над тунеядцами были в большинстве эффектными зрелищами со своими штатными вязальщицами; как писала ленинградская «Смена» в 1964-м про дело Бродского, «постановление суда было встречено горячими аплодисментами людей с честными рабочими руками».
Под бульдозер шли совсем уж безвинные граждане. Юрий Домбровский вспоминал в «Записках мелкого уголовника»: «Не очень давно в „Известиях“ писали о высылке из Москвы такой тунеядки: дочь по уговору сестер и братьев ушла с работы, чтобы ухаживать за умирающей матерью (рак). Кроме этих двух пожилых женщин – умирающей и ухаживающей, в квартире никого не было. И вот все-таки одну из них оторвали от смертного одра другой и угнали в Сибирь, а другую оставили умирать. Прокурорского протеста не было». Он же, о другом случае: «„Общественность“ какого-то дома требовала высылки нескольких соседей: образ жизни их, их интересы, их знакомства не помещались в сфере понимания этих соседей. То же формальное затруднение, что тунеядцы эти каждое утро вскакивают в восемь часов и несутся на службу, они обошли с гениальной легкостью. Одна старая общественница (вот уж поистине „зловещая старуха“) вывела такую формулу: „Они работой маскируют свое тунеядство“. И для кого-то, восседавшего за столом какого-то президиума, это оказалось вполне убедительным».
IV.
Сегодня слово «тунеядец» и не произнесешь в простоте – вмиг запишут в «судью Савельеву». Однако быть тунеядцами – в буквальном смысле, без подтекстов, то есть жить на не тобой заработанные средства, а на «что бог пошлет» – случалось и мне, и едва ли не каждому из моих знакомых; исключения можно перечесть по пальцам одной руки. Причины банальны: периоды зависания между работами, ликвидация предприятий, где-то – просто обломы, затянувшееся ожидание конструктивных предложений, у кого-то – тяжелая депрессия. Про эти мутные пятна в биографии, как правило, не любят рассказывать, бедность мучительно застенчива, нищета интровертна. Одна из самых жгучих форм стыда – брать взаймы у родителей (зная, что они, конечно же, не возьмут деньги обратно), с друзьями чуть легче, все плавали, все знают, никого не удивишь. Человек переходит в норный режим существования, прирастает к мебели. Будет день – будет пища; пища и в самом деле как-то появляется, об остальном уже жирно мечтать. Я знала внешне благополучную даму, которая одно время вместе с ребенком наносила визиты друзьям единственно с целью отобедать – свежеуслышанная сплетня про общих знакомых, приносимая в дом, была ее честным вкладом в застолье (и по сумме творческих усилий, которые она совершала, расцвечивая и шаржируя сплетню, – вкладом вполне себе трудовым).
Здесь еще один водораздел между мегаполисами и периферией: большой город сам склоняет к дармоедскому существованию, маленький – заставляет противиться ему. В большом городе, где люди изо всех сил делают вид, что им нет друг до друга никакого дела и имитируют учтивое нелюбопытство, утрата горизонтальных связей – при всем их изобилии – происходит быстро, почти стремительно. Если человек ушел в свой кокон – мало кто будет его доставать. «Ты в порядке?» – «Да-а-а» – «Ну, не хочешь – не говори», – он и не говорит. Знакомый, химик по образованию, не работает десять лет – закрылся институт, свернули программу, закончился грант, жена сбежала, и он заскучал. Не опустился, не деградировал – просто заскучал на много лет. Живет на пенсию родителей, иногда – впрочем, редко – подрабатывает курсовыми. «Мне много-то не надо, я аскет, я (усмехается) – это не вы». Сидит на кухне, варит кашу пшенную на обед, разговор не выходит, он хочет сказать тонкую гадость, но нет запала. «Ты что куришь-то, голуаз? Бога-а-а-то живешь…» Вокруг не то чтобы враги, но глухие, равнодушные, сытые люди, им говори – не говори, – не вникнут. Не способны. На попытки друзей встретиться отвечает вежливым тоскливым ядом. Мать его говорит: «Ну хоть бы он пил, это было бы понятно!» – она устроилась ночной няней в интернат, отец подрядился электриком на подмосковную ферму. «Мы не можем не работать, – говорят они, будто бы извиняясь, – не умеем».
В провинции он пошел бы на биржу труда – там это не западло; не открыл бы дверь друзьям – они вошли бы сами, растеребили бы с поллитрой, обзвонили бы кумовьев и сватьев, под конвоем проводили бы на работу. В мегаполисе он всем любезен и никому не нужен, здесь, в плотном пространстве статусов и социальных ролей, он иронически обыгрывает свое положение – «я деклассированный ученый, что из этого следует?»
Ничего, ничего, кроме жалости и милости, – но они-то и есть самое невыносимое в этом раскладе.
V.
Вот родина: осины, качели, ларек, эпический Николай в хорошем, толстом пуховике сиреневого цвета. Сколько-то лет назад умерла прекрасная кладовщица, и он должен был бы – немедленно – отравиться рыбой, аннигилироваться, уйти, как дождь в асфальтовую трещину. Но свято место! Но активная деревенская племянница! Она перебралась в город из помирающего совхоза, поселилась у дяди Коли, первые годы вела себя хорошо, благодарно – кормила, стирала, обихаживала, осела плотно, даже вагонку на балконе поменяли на сайдинг, и вот осенью что-то не пошло у нее с торговлишкой мобильниками, говорит – кризис, но посмотрим правде в глаза: испортилась в городе и очерствела душой. Стыдно, но скажу: пьет, водит женатого мужика, а как засрала кухню! Перед Вериной памятью стыдно, не знаю, куда глаза девать.
«Современная женщина – она раба легких денег, – назидательно говорит Николай. – Выпишу-ка я ее к гребаной матери, а то привыкли – в рай на чужом горбу», – говорит, тычет палкой в сугроб, и бывшие волосы – серый одуванчиковый пух – дрожат на его голове.
* ОБРАЗЫ *
Евгения Пищикова
Волоперы
Охранники России: профессионалы бездействия

Усталый город согревает нас,
Чтобы хранить его покой и славу,
Работают охранники сейчас,
Нелегкая, но нужная работа.
Марш охранников ЧОПа «Правоохранительный центр», г. Омск.
I.
Есть ли какая-нибудь профессия, для достижения успеха в которой важно уметь грамотно бездельничать и правильно ничего не делать? Есть такая. Называется она «охранник», и ей овладели пять миллионов русских мужчин.
Впрочем, скорее, наоборот – профессия овладела пятью миллионами мужчин, настолько она томит и обволакивает, так меняет жизненный ритм и умонастроение своих приверженцев. Как говаривал Георгий Иванов: «Сегодня, кажется, не я брал ванну, а ванна брала меня».
Произнесешь про себя слово «охранник» – и тотчас перед глазами начинают мелькать однообразные картинки и сценки. Вот размаянные мужики в черных пиджаках сгрудились вокруг маленького бедного черно-белого телевизора и сидят так часами, глядя в него, как в прорубь.
Вот популярная в ЖЖ девица Ляля Шопоголик порывается основать сайт «Антивохра»: у нее в приличном магазине осмелились проверить сумочку! От скуки, уверена оскорбленная девушка, от лютой скуки! «Если продавцы обязаны подходить к покупателям со словами: „Я могу вам чем-нибудь помочь?“ – взволнованно пишет Ляля, – то этих халдеев надо обязать произносить другую дежурную фразу: „Я могу вам как-нибудь навредить?“»
А вот сценка из редакционного быта: лежит охранник на диване из кожзаменителя и глядит телевизионный фильм. На дворе ночь и тьма, а офис все еще полон народу. Ни поваляться парню всласть, ни покушать как следует. Томно ему, муторно. Повозился, покурил, попил воды, поглядел в потолок, да и включил на громкую связь автоответчик на телефоне. И тотчас с бесчеловечной бодростью разнесся по редакции голос сменщика: «Братишка, как ты там? Мысленно жму твое весло! Завидуй – я уже дома. Лежу на диване и смотрю телевизор!».
Пять миллионов вневедомственных охранников (из них пятьсот шестьдесят тысяч лицензированных, с правом носить оружие, остальные же так – «на пропусках», вахтовые сидельцы) – что же это они охраняют? Все что ни попадя. Замечали ли вы, что живете в городе, где нет ни одной НЕ охраняемой двери, – кроме подъездов в панельных домах, которые, впрочем, снабжены кодовыми замками. Российский миллионник нынче (и уж Москва тем более) – не просто закрытый город. Это запертый город, крепость. Питерский философ Александр Секацкий в «Дезертирах с острова сокровищ» позволяет себе усомниться в том, что современный мир так уж доступен и прозрачен: «…масс-медиа неуклонно провозглашают доступность любого уголка земли – создается полное впечатление, что опутанный туристическими коммуникациями и всемирной паутиной мир совершенно прозрачен». Между тем в реальности мы имеем дело с «непрозрачностью прозрачности» и «иллюзорностью доступности» – трудно признаться себе, что мы живем в городах, которые нам не принадлежат. Мы вольны сколько угодно гулять по улицам, для нас раскрыты магазинные двери (в магазинах охрана следит не за теми, кто входит, а за теми, кто выходит), мы пройдем дресс-код в ряде питейных заведений средней руки, – и это все, не считая «туристических» культурных учреждений. Интимная, внутренняя жизнь города закрыта для горожанина так же, как и для приезжего. В какое количество московских дверей вы можете беспрепятственно зайти? Вы знаете коды пяти-шести подъездов, у вас есть пропуска в два-три присутственных места – о, вы настоящий москвич!
Города захвачены охранниками, которые, мужественно преодолевая нечеловеческую скуку, «осуществляют пропускной режим»; из-за каждой двери несет мужским духом волоперства (волопер – по Далю, – мужик рослый и дюжий, но ленивый).
II.
Значит ли это, что я не люблю охранников? По законам жанра я должна подпустить хоть какую-то интрижку, ответить на этот вопрос хоть как-то позанятнее. Но я ничего не могу с собой поделать. Я не люблю охранников. Как многие и многие женщины России. Я им завидую. Мы – завидуем. Это тяжелая женская зависть, которую трудно побороть. Мы понимаем, что неподвижность утомительна. Что ничего не делать – тяжело. Что обилие идущих мимо тебя людей раздражает. Что ночью, напротив того, отсутствие всяких внешних впечатлений способно довести до умоисступления – и особенно, конечно, тяжело, если не удается покемарить, а нужно каждый час звонить диспетчеру своего ЧОПа (частного охранного предприятия), доказывая, что ты не спишь. Мы все это понимаем, но легче нам не становится. Все дело в том, что охранник – фигура символическая. Мы о вахтерах, мы о привратниках, мы о магазинных и офисных охранниках – мы о большинстве. О тех ополоумевших от скуки мужичках, что сидят за каждыми дверьми нашего города. Им ведь не нужно стараться, им нужно просто быть. Охранник должен статично наличествовать, и одно его присутствие уже (по философии профессии) сообщает охраняемому объекту эманацию покоя.
Это обстоятельство чудовищно раздражает. Почему мужику достаточно сидеть и моргать, – и за это он уже заслуживает регулярную зарплату? Почему женщина нипочем не получит денег просто за то, что вот она присутствует в помещении и сидит на стуле? Нет для женщины такой символической профессии.
Чувствуется какая-то обидная подмена. Мужское дело (защита) подменяется мужским бездельем (охраной). И самое обидное представлять себе, что вот отсидел мужик свои положенные сутки, опупел от скуки, пришел домой, а там его встречает жена с борщом, и детям говорит: «Тс-с, дети! Папа устал, папа с суток пришел. Не шумите!».
Помнится, лет десять тому назад я впервые испытала этот вид гендерной досады. И повод-то был смешной, несерьезный был повод. В детской поликлинике аккурат к грудничковому дню стену возле кабинета микропедиатра украсили нарядным кустарного производства (гуашь, ватман) плакатом. На плакате была изображена молодая мать с младенцем. Мать была поистине хороша. По крайней мере, ребенок был приложен к груди такого исполинского размера, что ею можно было скорее удушить, чем накормить маленького ангела. За спиною кормящей матери располагалась береза и молодой солдат с обнаженным штыком. Сверху – надпись: «Женщина, семь раз взвесь, прежде чем употребить смесь!» Речь шла о пользе грудного вскармливания. Плакат был совершеннейшей прелестью и радовал собравшихся мамочек. Единственно, всех раздражал солдат. Он как бы охранял молодую мать от соблазна употребить искусственную (да еще и не дай Бог импортную) смесь, всем своим решительным видом напоминая, что свое мужское дело, работу защитника, он выполняет. Честно стоит со штыком возле березы. Значит, и молодайка пусть не ленится и не пытается обойтись малой кровью в серьезном и патриотическом деле вскармливания и взращивания.
Рисованному солдату досталось от молодых матерей. «Стоять-то легко, – говорили в очереди, – хотя бы и с дрыном наперевес, а вот попробовал хотя бы раз сцедиться – мы б на него поглядели!»
Годы миновали, и вот в супермаркете того же самого, что и поликлиника, окраинного района, как бы эти же, только повзрослевшие, язвительные женщины, чуть ли не с теми же словами накинулись на охранников. Собственно говоря – на березовых солдат нового времени. Что случилось? Охранники сделали группе покупательниц замечание: уж коль вы, дамы, вынули продукты из своих тележек, то и отвезите свои тележки на место. «А почему мы-то должны их отвозить? – возопили дамы, – а вы что тут делаете? Целый день на стульях сидите, зады не отрываете! А мы после работы усталые идем, да еще и жрать вам, мужикам, покупаем! Сами, бездельники, отвозите тележки!»
Охранники обиделись: «Это не наша работа!»
Хор возмущенных голосов: «А какая у вас работа? Где ваша работа?» Охранники: «Мы охраняем объект!» Покупательницы: «От кого?»
И столько обиды накопилось в дамах, столько пыла, что тотчас составилась делегация; жалобщицы отправились к управляющему магазином… На следующее утро активистки прибежали оглядеть поле боя – рассеялся ли битвы дым? И что же видят? Приставлен к тележкам маленький печальный узбек, а охрана его в хвост и гриву гоняет. Все-таки охранники победили. Доказали, что тележки таскать – не мужское дело. Западло-с.
А еще раздражает добрую женщину в охраннике «простом обыкновенном» то обстоятельство, что работа такая «мужская-мужская», а быт у волоперов как раз очень женский.
У них ведь нет рабочего места. У них есть ПОСТ (апофеоз мужественности) и бытовочка, уголок, закуток – житейское пространство, отсылающее к жилью, к спаленке, к кухоньке – к женской вотчине. На посту – мужские предметы: журнал посещений, маленький автомобильный телевизор, компьютер (если работодатель расщедрился или если организация элегантная) с постоянно работающим порносайтом, газета с кроссвордом.
В уголке – диван или раскладушка, принесенные из дома постельное белье и тормозок, верный друг охранника-великоросса – электрический чайник. А то еще и подруга – микроволновка.
Опять мужику-лентяю досталось все самое лучшее: собственный теплый домик посреди равнодушного офиса.
И, наконец, последняя причина, по которой женщины относятся к охранникам с холодностью, – это свойственное немалой части профессионалов ничегонеделания дурное морализаторство. Будто не видят, не понимают декоративной своей роли!
Вот представьте себе: сидит школьный охранник возле дверей и не пускает родителей в школу. Не разрешает посмотреть, отчего это ребенок вовремя не спустился после занятий (да не случилось ли чего?), не разрешает мамам и бабушкам первоклассников помочь им переодеться. «Не пущу, – говорит, – а вдруг у вас в сумке бомба?» И продолжает: «А вы помните, отчего Лужков во все школы охранников посадил? Вы помните, из-за чего мы все здесь сидим? Это же мы после Беслана сидим!».
Тут даже сил не было у собравшихся женщин сказать охраннику хоть что-то дурное. Только одна спросила: «Ну и кому б ты помешал?».
Ведь сидят все эти охранники, как сувениры-обереги, как жабы с денежкой во рту на семейном телевизоре (на всякий случай, на домашнее благополучие), – никто ведь не ждет от них ни подвига, ни битвы, ни пользы. Перед нами продукт общественного суеверия – «на всякий случай», «на авось», посаженный возле двери, изнывающий от безделья здоровый мужик, который всерьез считает, что охраняет «объект» от абсолютного зла.
Значит, служит абсолютному добру.
А на практический женский взгляд существуют всего три вида «охранного» труда: бессмысленная деятельность, осмысленная бездеятельность и бессмысленная бездеятельность.
Осмысленная бездеятельность – это удел вахтерской службы на «объектах», с территории которых можно хоть что-то вынести (для охранника-лентяя существует три главных профессиональных термина: «объект», «проникновение» и «вынос»). Вахта – какой-никакой заслон, так что тут свой хлеб охранники, безусловно, оправдывают…
А волоперы в супермаркетах, воля ваша, занимаются бессмысленной деятельностью. Особенно в дорогих. Дело в том, что в мире существует несколько совершенно волшебных закономерностей. Например, во все времена и во всех странах, с неизменностью природного закона, покупатели уворовывают из магазинов самообслуживания четыре процента товаров. Больше – бывает, меньше – нет. Ирина Артемьева, популярный тренер групп личностного роста, известный психолог, рассказывала мне, как ее приглашали в элегантный продуктовый супермаркет провести психологический тренинг для охраны. Зачем? «Хозяин пригласил меня, – рассказывает Ирина Вячеславовна, – и говорит: помогите мне, г-жа Артемьева, у нас в супермаркете стали часты случаи воровства. Пропадает уже четыре процента товаров! Я ему пыталась доказать, что эти четыре процента будут пропадать по-любому – не поверил. Научите, твердит, мою охрану отличать порядочных людей от непорядочных. Что ж, любой каприз за ваши деньги! Начали у него ребята за покупателями ходить, в глаза им заглядывать, в затылок дышать. Начали задумываться, а охранникам думать вредно. Они от этого портятся».
Вот этот случай – блестящий образец бессмысленной, но целенаправленной деятельности.
И, наконец, венец волоперского труда – бессмысленная бездеятельность. Это, например, охрана многочисленнейших бумажных контор и гламурных офисов, на вахтах которых охранники в черных пиджачных парах сутками сходят с ума от скуки. Ни выноса им, ни проникновения.