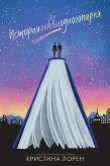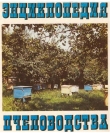Текст книги "Русская жизнь. Лень (май 2009)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
III.
Бешеный ритм современной жизни – это то, чем мы гордимся, так как больше гордиться нечем. Досуг – признак лузерства или источник опасностей. «Для праздных рук найдет занятье сатана!» Успешный человек все время куда-то бежит с выпученными глазами. Иногда он сокрушенно рассказывает в интервью какому-нибудь глянцевому журналу: «Стыжусь признаться, у меня нет времени даже чтобы пообщаться с семьей». Не верьте, это неправда, он не стыдится, он гордится. Когда чего-то стыдятся, в этом не исповедуются репортерам иллюстрированных изданий. Со свободным временем сражаются, как с тараканами или чумой. В любом книжном магазине на полках стоят сотни книг по тайм-менеджменту. В каждой из них популярно объяснят, как максимально использовать время, как догнать, поймать, не оставить на свободе буквально каждую секунду жизни.
Как– то забыто, что лень и праздность могут быть не только приятны, но и продуктивны. Российский историк Сергей Аркадьевич Иванов изучал устройство жизни в средневековых университетах. Известно, что студенты помимо изучения наук находили себе много интересных занятий: пели серенады, устраивали шутовские шествия, пьянствовали, дрались. Начальство безуспешно пыталось с этим бороться. Исключением стал Неаполь, где император Фридрих II железной рукой ввел строжайшую дисциплину. «Но, -замечает далее историк, – веселый дух бурсацкой вольницы непостижимым образом способствовал успеху наук». Все выдающиеся ученые эпохи Ренессанса были выходцами из «недисциплинированных» университетов. А именно неаполитанский так и остался захолустным, не дав ни одного гения.
В нашу эпоху царствуют менеджеры Фридриха. Вот показывают по телевизору интервью с оперной певицей. Она сидит прямая, как солдат, серьезная, как министр. Отвечает на вопросы. «Почему сейчас нет великих певцов, личностей, кумиров? Таких, какими были, например, Шаляпин или Карузо?» – «Да, знаете ли, тогда был другой ритм жизни. Артисты могли позволить себе чуть ли не по полгода работать над ролью, сомневаться, пробовать, размышлять. Сейчас такое невозможно, все расписано по минутам, на годы вперед». – «А изменить ничего нельзя?» – «Нет, что вы, в наше время все должно быть максимально эффективно».
На такие рассуждения натыкаешься постоянно, и говорящие почти никогда не замечают здесь, мягко говоря, непоследовательности. Почему так мало новых книг, спектаклей… да чего угодно: хороших кофеен, моделей сапог, парфюмерных новинок? Да потому что бешеный ритм жизни заставляет все делать быстро, не задумываться, не оглядываться. Получается халтура, а клиент не дурак, он шарахается в сторону.
Тут еще подоспел кризис, благодаря которому заработанные безумными усилиями деньги вдруг, словно в «Варьете» у Воланда, превращаются в фантики. Мне известен человек, любой разговор с которым безошибочно можно было начинать фразой: «Как ты долетел?», и услышать в ответ «Спасибо!» либо же: «Да я еще в аэропорту!» Он занимался строительством офисных центров в городах Урала. Жену видел редко, детей – никогда. Спал только в самолетах. Впрочем, нет, в самолетах он тут же открывал ноутбук и готовился к переговорам. Вокруг все восхищались тем, как блестяще отстроен его бизнес, как все продумано, как замечательно работает команда. Но в регионах спрос на офисы резко упал, выплаты по долларовым кредитам выросли вследствие падения рубля. То, что обещало прибыль, обернулось долгами. Если бы последние три года этот воздушный странник занимался тем, что выращивал розы, коллекционировал открытки или писал стихи, он был бы сейчас богаче на несколько десятков миллионов евро.
Нет, честное слово, в нашу неясную, полную неприятных неожиданностей эпоху новой глобальной идеей могла бы стать идея праздности. Точнее – правильного соотношения между праздностью и работой. Проблема в том, что замена нормального человека на человека функционального, о которой говорил Иноземцев, очевидно действительно произошла. А когда долго производится отбор по одним признакам, атрофируются другие, это вам скажет любой селекционер. Превращение жизни в непрерывную гонку происходит не потому, что это хорошо, правильно и продуктивно, а потому, что иначе нельзя. Образ жизни превращается в подобие религиозного культа, а тут уже надо не размышлять, а быть твердым в вере и приносить жертвы.
Окажись Герберт Уэллс в нашей эпохе, он бы, вероятно, скорректировал свое представление о будущем. На земной поверхности у него жили бы морлоки, симпатичные, глуповатые, наслаждающиеся бездельем, потому что за них давно уже все делают машины. А в темных подземных офисах обитали бы элои, потомки сильных мира сего. Почти бестелесные, угрюмые, безумные и больные. С четырьмя ушами. И в каждом – по мобильнику.
* ВОИНСТВО *
Александр Храмчихин
Четвертая китайская стратагема
Побеждает тот, кто не торопится

Четвертая китайская стратагема звучит так: «В покое ожидать утомленного врага». То есть пассивность на войне может быть очень даже полезна. Но, разумеется, польза или вред пассивности очень сильно зависят от конкретной ситуации.
В августе 1787 г. началась очередная Русско-турецкая война. Турки собирались наступать на Херсон. Чтобы это наступление было успешным, они должны были захватить крепость Кинбурн, блокировавшую с юга вход в Днепро-Бугский лиман.
В крепости находился гарнизон численностью четыре тысячи человек, которым командовал сам Суворов. Орудий было примерно 350, в основном крайне устаревших. Рядом с крепостью находилась русская флотилия, состоящая из двух фрегатов и четырех галер.
12 сентября двенадцать турецких кораблей начали обстрел Кинбурна, однако были отогнаны артиллерией крепости. 15 сентября обстрел начали уже 38 кораблей. Русская флотилия, которой командовал капитан 2 ранга Обольянинов, проявляла пассивность, объяснявшуюся, видимо, отнюдь не расчетом, а подавляющим превосходством противника в силах.
Тут, правда, командир галеры «Десна» мичман Юлий Ломбард пошел в атаку по своей инициативе. Один против 38. И обратил противника в бегство, повредив при этом 2 галеры противника.
1 октября турки начали третью атаку с моря. 25 кораблей (в том числе три линейных) с 400 орудиями бомбардировали крепость, а с 23 транспортных судов на Кинбурнскую косу началась высадка десанта общей численностью 6 тысяч человек.
И вот тут пассивность проявил Суворов. Совершенно сознательно. Он видел, как противник высаживает десант, но не мешал ему. Прямо так и сказал: «Пусть все вылезут».
Все турки вылезли, вырыли поперек косы 15 рядов траншей и двинулись в сторону крепости. Навстречу им Суворов вывел отряд численностью 1,5 тысячи человек, то есть в четыре раза меньше, чем у противника. Они с ходу выбили турок из десяти траншей, однако тут в дело вступил турецкий флот. Своим огнем он стал наносить русским серьезные потери, был ранен сам Суворов. Пришлось отступать в крепость.
И тут снова в атаку пошла одна-единственная «Десна». И снова в одиночку разогнала весь турецкий флот, потопив при этом две галеры. После чего раненый Суворов повел своих солдат и казаков в повторную атаку. К ночи десант был разгромлен полностью, турецкие корабли сумели снять с берега всего 600 десантников, то есть 10 % от первоначальной численности. Фраза Суворова «пусть все вылезут» оказалась очень правильной. Русские потеряли убитыми 138 человек.
3 октября к Кинбурну подошла русская эскадра под командованием контр-адмирала Мордвинова. Теперь русские имели здесь четырнадцать кораблей, в том числе один линейный и четыре фрегата. Против них у турок был 61 корабль, в том числе три линейных и пять фрегатов. Адмирал Мордвинов в бой отнюдь не рвался, при этом пассивность у него была отнюдь не суворовская. Однако князь Потемкин приказал Мордвинову атаковать противника. И тот отправил в бой одну-единственную плавбатарею, которой командовал капитан 2-го ранга Веревкин. На эту батарею был направлен и героический мичман Ломбард, продемонстрировавший свой талант одиночных атак.
Увы, плавбатарея обладала крайне низкой мореходностью, кроме того, на ней при выстрелах стали взрываться собственные пушки. В итоге она была выведена противником из строя, села на мель и была захвачена турками. В плен попал и Ломбард.
Лишь после этого Мордвинов двинул в атаку целых восемь судов, после чего турки сразу ушли. На этом и закончилась кинбурнская эпопея.
Годом позже, все еще воюя с турками, Россия начала очередную войну и с другим традиционным противником – Швецией. На суше война шла на редкость вяло, за три года войны не произошло ни одного крупного сражения. Русским воевать со шведами было почти нечем, поскольку основные силы были задействованы против турок. В шведской армии вообще имело место разложение вплоть до мятежей, особенно не хотели воевать финны.
На третьем году войны шведский король Густав III решил компенсировать эту вялость на суше ударом с моря. Целью шведов стали Кронштадт и Санкт-Петербург. Предполагалось разгромить русский флот «в его логове», высадить десант в районе Выборга и оттуда совместно с сухопутными войсками наступать на русскую столицу.
В конце мая 1790 года шведская эскадра, насчитывавшая 22 линейных корабля и 12 фрегатов, двинулась на восток. В Финском заливе она повстречалась с русской Кронштадтсткой эскадрой, которой командовал вице-адмирал Круз. Она включала 17 линейных кораблей и четыре фрегата.
23– 24 мая эскадры вели между собой долгое и, в общем, безрезультатное сражение. К вечеру 24 мая к русским подошло подкрепление из Ревеля (ныне Таллин) под командованием адмирала Чичагова, после чего русские стали располагать 27 линейными кораблями и 23 фрегатами. Шведы были загнаны в Выборгский залив, куда, собственно, изначально и стремились. Только теперь он стал для них ловушкой, поскольку выход из залива был блокирован превосходящими силами русских.
Однако Чичагов, который теперь принял командование всеми русскими силами, пассивно наблюдал за шведами, не предпринимая абсолютно никаких действий. Эскадра стояла на якоре аж до 21 июня, несмотря на откровенное недовольство личного состава столь странным поведением начальства. В конце концов, шведы, которым было уже нечего терять, пошли на прорыв.
Русские, простоявшие почти месяц на якорях в полном безделье, были просто не готовы к этому. В итоге шведы, ведя сокрушительный огонь, прорвались сквозь наиболее слабые отряды русских кораблей. Огонь шведов был так силен, что шесть русских кораблей спустили флаги. То есть сдались. К счастью, шведы просто не имели возможности их захватить и увести с собой, поэтому вся шестерка, хоть и тяжело поврежденная, осталась в составе нашего флота.
Лишь через три часа после начала шведского прорыва Чичагов отдал приказ своим главным силам сниматься с якоря. Было, однако, поздно, практически все шведские корабли уже прорвались.
Выборгское сражение не превратилось для нас в полный позор только потому, что несколько шведских кораблей в дыму сражения столкнулись между собой или сели на мель. Кроме того, несколько гребных судов не смогло уйти из-за своей малой скорости. В итоге три линейных корабля, один фрегат и тридцать семь мелких кораблей шведов были потоплены, четыре линейных корабля, два фрегата (в том числе один бывший русский, который шведы захватили в начале войны) и семнадцать мелких кораблей захвачены. В плен попало 4,6 тысяч шведов, от 3,5 до 4 тысяч погибло. То есть шведы потеряли примерно треть флота. В тактическом плане русские победили. Но в стратегическом – крупно проиграли, поскольку были обязаны уничтожить и захватить весь шведский флот. Таков был результат пассивности Чичагова.
Во время Отечественной войны 1812 года Кутузов, вряд ли что-то слышавший о китайских стратагемах, реализовал четвертую из них идеально. В Тарутинском лагере после сдачи Москвы он именно в покое ожидал утомленного врага. Он не выиграл ни одного сражения (кроме сражения у Красного на самом исходе кампании, когда все было и так абсолютно ясно), только великая армия Наполеона в результате перестала существовать.
Добить остатки великой армии предстояло на Березине. Важнейшую роль в этом деле должен был сыграть тот самый адмирал Чичагов, «потерпевший победу» в вышеописанном Выборгском сражении. Теперь он командовал сухопутной группировкой русских войск, прикрывавшей южное направление. После нескольких стычек в самом начале войны боев здесь практически не было, французы на Украину не продвинулись, да и не пытались после поражения у Кобрина. Осенью, когда Наполеон двинулся на запад, войска Чичагова (30 тысяч человек) вместе с наступавшей с севера группировкой Витгенштейна (50 тысяч) должны были преградить путь остаткам войск Наполеона (75 тысяч).
Увы, французам с помощью ряда обманных маневров удалось увести войска Чичагова от того места, где они начали наводить переправу через Березину. А Витгенштейн вообще не испытывал особого энтузиазма. Он проявлял пассивность, отнюдь не суворовскую и не кутузовскую. Поэтому Наполеону удалось наладить переправу и отбить вялые и неумелые атаки Чичагова и Витгенштейна. Лишь подход главных сил под командованием Кутузова изменил ситуацию и превратил таки французское отступление в катастрофу. Из России ушли лишь 25 тысяч человек, треть тех сил, что подошли к Березине. В Выборгском сражении Чичагов упустил две трети.
Впрочем, от тех сил, что вторглись в Россию в июне 1812 года, прорвавшиеся в Польшу 25 тысяч составляли чуть больше 6 %.
* ХУДОЖЕСТВО *
Дмитрий Быков
Цыган
Факультет прекрасных вещей Юрия Домбровского
12 мая исполнится сто лет со дня рождения Юрия Домбровского – не знаю, будет ли этот юбилей широко отмечен, но почти наверняка в его отмечании скажется некая двусмысленность, половинчатость, странность положения этого автора в русской литературе. Домбровский – один из самых сильных прозаиков ХХ века, что по нашим, что по западным меркам; он написал достаточно – и на достаточном уровне, – чтобы числить его в первых рядах. «Факультет ненужных вещей» печатался во время перестройки одновременно с «Жизнью и судьбой», «Доктором Живаго», «Колымскими рассказами» – и не только не терялся на этом фоне, но во многих отношениях выигрывал. Стихи Домбровского, немногочисленные – общим числом до полусотни – и крайне редко издаваемые, заставляют говорить о нем как об оригинальнейшем поэте, сочетающем балладный нарратив с отважным метафорическим мышлением (обычно уж одно из двух: либо человек умеет рассказывать истории, либо у него все в порядке с образностью). Публицистика его, филологические изыскания и рецензии написаны увлекательно и уважительно, что опять-таки в нашей традиции почти несочетаемо. При этом он был силач, женолюб и алкоголик, человек большой доброжелательности и внутренней свободы. В общем, у него как-то все очень хорошо. Я назвал бы его – наряду с еще двумя-тремя авторами – своим идеалом писателя и человека.
И в совокупности все это привело как раз к традиционному местному результату: отсутствие главной составляющей отечественного успеха, а именно потаенной или явной ущербности, привело к странному, полулегальному существованию, к полупризнанию, к пылкой любви немногих и почтительному равнодушию большинства. Никого не хочу побивать Домбровским, он бы этого не одобрил, но: Гроссмана знают не в пример лучше и уважают больше, говорят о нем с придыханием, хотя сыпучая, по-аннински говоря, проза «Жизни и судьбы» с демонстративной толстовской претензией не идет ни в какое сравнение с горячей и густой живописью «Факультета» или «Хранителя древностей», с их очаровательной иронией и действительно внезапными, в отличие от гроссмановских, эссеистическими обобщениями. Человеконенавистническая и безбожная, беспощадная к читателю проза Шаламова вызывает исключительно сильные чувства, но и самый ярый поклонник Шаламова готов усомниться в их душеполезности, тогда как Домбровский к читателю милосерден, он умудрился о следствии и тюрьме тридцать седьмого написать смешно, а на ужаснейшем не стал сосредоточиваться, хотя ничего не забыл («И с многим, и очень со многим, о чем и писать не хочу»); иногда мне кажется даже, что эмоции, вызываемые рассказами и романами Домбровского, – умиление, восторг, гордость за человечество, – более высокого порядка, чем шаламовская ледяная антропофобная ненависть. Статьи и рассказы Домбровского о Шекспире – в особенности блестящая аналитическая работа, адресованная итальянским читателям, – должны бы померкнуть на фоне пастернаковских штудий, но не меркнут, ибо особенности шекспировской стилистики с ее коренным британским сочетанием грубости и тонкости, неотесанности и барочности, избыточности и прицельности отслежены у него даже нагляднее и не уступают пастернаковскому открытию о шекспировском ритме. Но все эти авторы о Домбровском либо не знали, как Пастернак, либо уважали его несколько вчуже, как Шаламов: иногда начинает казаться, что нехарактерное признание из гениальных стихов 1957 года – «И думаю: как мне не повезло!» – не временная слабость, а вполне объективный диагноз. То есть даже если он так думал в немногочисленные и худшие свои минуты, то у него были все основания, и применимо это не только к его человеческой судьбе (две отсидки, травматическая эпилепсия, в конце концов его, семидесятилетнего, убили в подстроенной драке), но и к литературной, посмертной. Ведь как увлекательно читать Домбровского, какая интересная книга тот же «Факультет» с его подробным и веселым прослеживанием кафкианской логики процессов, с его ослепительными красавицами и философствующими стариканами, с алма-атинским солнцем, щедро и жарко освещающим все на этом огромном полотне, – но многие ли его толком читают? Поистине, в русском читателе есть скрытый мазохизм: он не доверяет тому, что интересно, ему непреодолимые препятствия подавай. Много ли в русской прозе таких рассказов, как «Леди Макбет» или «Ручка, ножка, огуречик»? Много ли в русской поэзии таких стихов, как апокриф «Амнистия», которую почти невозможно не запомнить наизусть с первого прочтения? А теперь вспомните, часто ли вы слышали и читали о Домбровском в последнее время, много ли знаете о его судьбе и видели ли хоть одну биографическую книжку, посвященную ему.
Я думаю, тут дело вот в чем. Путь Домбровского в русской литературе очень уж отделен, нетипичен, эволюция его пошла по непредусмотренному сценарию, он из другой парадигмы, что ли, – не варяг, не хазар и не коренное население, если возвращаться к собственной терминологии, – и отсюда становится понятна одна его навязчивая идея, к которой он возвращался в старости. Правда, в его случае и о старости можно говорить с натяжкой – как многие лагерники, он словно законсервировался: зубов лишился уже к сорока, а волосы оставались черные как вороново крыло и не редели, выпить мог больше любого молодого собеседника и дрался безжалостно. Так вот, в замечательной статье Марлена Кораллова «Четыре национальности Юрия Домбровского» утверждается, что в конце пятидесятых, после возвращения, Домбровский называл себя русским (прежде – то иудеем, то поляком). А в семидесятые развивал экзотическую версию о своем цыганстве, сочинив для нее вдобавок метафизическое обоснование в статье «Цыгане шумною толпой» (он подрабатывал популяризаторскими текстами для АПН). Там цыганство заявлено как позиция, замечает Кораллов, – позиция принципиально третья: цыгане – не коренные и не пришлые, и не участвуют в их вечном споре. Цыгане – везде. Они вольные певцы, да вдобавок «робки и добры душою», что не мешает им понемногу конокрадствовать. В «цыганы» Домбровский справедливо зачислял Пушкина, отчасти Толстого и Лескова.
Вероятно, его убежденное «русачество» пятидесятых имело примерно ту же природу, что окуджавское намерение вступить в партию в 1956 году: обоим показалось, что Россия наконец выходит на ровную и светлую дорогу, прошлое прошло, можно будет жить и т. д. Для нормального, не-подпольного человека соблазн «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» всегда актуален. И Окуджава, и Домбровский очень быстро все поняли. Окуджава радовался, когда первичная (писательская) организация в 1972 году его исключила из КПСС, и огорчался, когда горком испугался и писательского решения не утвердил. Домбровский в семидесятые снова перестал называть себя русским и придумал легенду о далеких цыганских корнях. Я думаю, здесь корень проблемы, то есть в самом деле некий третий путь. Приняв национальность, вещь невыбираемую и, в общем, вторичную, в качестве этической метафоры, мы обозначим неповторимую особенность Домбровского: его эволюция, его реакция на нечеловеческий и за-человеческий опыт идет не по традиционным местным сценариям, которые представлены в наиболее наглядном варианте Солженицыным и Шаламовым. Путь Солженицына – вывод о благотворности страдания и, в конечном итоге, о необходимости сильной государственности; добро должно быть сильно, чтобы не повторилось чудовищное советское зло; альтернатива Ленину – Столыпин; альтернатива варварской модернизации – добрая консервативная архаика (у нее свои риски, но Солженицын предпочитал их не замечать). Путь Шаламова – уверенность в том, что лагерный опыт не может быть благотворен ни в каком отношении; любая государственность есть насилие и мучительство; человечество – проект неудавшийся. В конце концов, страдание редко меняет человека: обычно он выходит из испытаний (если вообще выходит), лишь укрепив свои априорные представления. В этом смысле наиболее точен Шоу, сказавший, что Уайльд вышел из тюрьмы не изменившимся. Солженицын и до ареста был государственником, Шаламов и до Колымы был радикальным революционером-атеистом, Домбровский и до двух своих лагерных сроков, и даже до ранней (1933) высылки в Алма-Ату был вольным певцом, бродягой-одиночкой, с начисто отсутствующим инстинктом самосохранения.
Ни для кого не секрет, что условно-варяжской ментальности ближе Солженицын, а условно-хазарской (которая к еврейству далеко не сводится) – Шаламов, русейший из русских, со священническими корнями. Да ведь и большинство русских радикальных революционеров были беспримесно местными, и опирались в своем радикализме не на Троцкого, а на Циолковского с Федоровым да Бакунина с Кропоткиным, на странную смесь анархизма и космизма, которую при внимательном изучении можно проследить и у Шаламова. Домбровский – путь совершенно иной, и немудрено, что он поддерживал вполне дружелюбные отношения с непримиримо не любившими друг друга Шаламовым и Солженицыным (с первым попросту дружил, второго уважал на расстоянии, но, уверен, если бы Солженицын вообще был склонен к неформальному общению, Юрий Осипович и с ним нашел бы общий язык). В чем состоит эта цыганщина? Попробуем проследить ее составляющие, это тем более важно, что случай Домбровского, в общем, единичен. Цыгане и так-то количественно немногочисленны по сравнению с русскими и евреями, и, может быть, именно потому тема цыганского геноцида почти не отражена в литературе, а ведь Гитлер истреблял цыган так же поголовно, как евреев (об этом, в сущности, написана одна приличная книга, и то косвенно – «A Brief Lunacy» Синтии Тэйер). Домбровский мог бы повторить самоопределение Хлебникова: «А таких, как я, вообще нет». Ученики – отсутствуют, из современников, кажется, ближе всего был ему упомянутый Окуджава, из последователей – не знаю даже, кого и назвать. С чьих страниц еще бьют такие снопы света, так хлещет радость, так смеется мир? И все это написано так, что опыт автора читателем чувствуется и учитывается, Домбровский умел как-то это в проговорках протащить, так что солнце еще ярче по контрасту; у него и прототипа нет в русской литературе – вырос ниоткуда, торчит одиночкой, генезис неясен. Стихи его мало похожи на творчество других тогдашних замечательных аутсайдеров – Липкина, Тарковского, Штейнберга, хотя формальные сходства прослеживаются; у Домбровского нет их классичности, холодности, некоторого ассирийского герметизма, которого набрались они в своих восточных переводах; он гораздо менее пафосен и более открыт. Нет и блоковской самоцельной музыкальности – все очень по делу; сам он часто – формально и содержательно – отсылается к Лермонтову, и роднит их, пожалуй, сознание силы, – но Домбровский начисто лишен лемонтовского демонизма. Пожалуй, поставить рядом с ним действительно некого – разве что в Пушкине что-то такое было, но в Пушкине ведь есть все. Домбровский уникален, как уникальны в мировой культуре цыгане – следы очень древнего и очень странного народа; были, наверное, и другие такие, но поголовно вымерли. А эти как-то ушли.
Одна из доминант мировоззрения Домбровского – врожденное отсутствие страха; даже в последнем рассказе «Ручка, ножка, огуречик», где он предсказал собственную судьбу, повествователь боится не того, что нападут гэбэшные урки, а того, что не сумеет как следует отбиться. Метафизика страха в русской литературе – тема отдельная, мы тут ее коснемся бегло, – но вообще русская литература очень много боится, и есть чего. И это не легкий, развлекательный в сущности страх готических историй, и даже не тяжелый, но смиренный, покорный страх Кафки, – а трепет бунтаря, обреченного на вечное преодоление себя. Он иначе не может, уважать себя не будет и, как следствие, лишится творческой способности, а значит, приходится вставать и делать шаг, ничего не попишешь. Но он слишком знает, что будет, и понимает даже, что никто не оценит, – а тысяча не сделавших никакого шага еще и возненавидит, – а потому никаких утешений, кроме сознания своей правоты, у него нет. Да и с сознанием правоты – проблемы. Кому-то этот страх необходим для игры и самоподзавода, как Синявскому (вот кто отчасти близок Домбровскому, тот же авантюризм, вызов, примат эстетического); у кого-то, как у Бориса Ямпольского, он становится главным содержанием жизни. Даже у Солженицына много этой оглядчивости. У Домбровского ее нет начисто – когда надо драться, он дерется, причем, как цыган, без правил.
Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых навостренных топора.
По всем законам лагерной науки
Пришел, врубил и сел на дровосек;
Сижу, гляжу на них веселым волком:
«Ну что, прошу! Хоть прямо, хоть проселком…»
– Домбровский, – говорят, – ты ж умный человек,
Ты здесь один, а нас тут… Посмотри же!
– Не слышу, – говорю, – пожалуйста, поближе!
Не принимают, сволочи, игры.
Стоят поодаль, финками сверкая,
И знают: это смерть сидит в дверях сарая,
Высокая, безмолвная, худая,
Сидит и молча держит топоры!
Как вдруг отходит от толпы Чеграш,
Идет и колыхается от злобы:
– Так не отдашь топор мне?
– Не отдашь!
– Ну, сам возьму!
– Возьми!
– Возьму!
– Попробуй!
Он в ноги мне кидается, и тут,
Мгновенно перескакивая через,
Я топором валю скуластый череп,
И – поминайте, как его зовут!
Его столкнул, на дровосек сел снова:
«Один дошел, теперь прошу второго!»
Сравните в «Ручке, ножке, огуречике»: «Он подошел к столу, открыл ящик, порылся в бумагах и вынул финку. С год назад с ней на лестнице на него прыгнул кто-то черный. Это было на девятом этаже часов в одиннадцать вечера, и лампочки были вывернуты. Он выломал черному руку, и финка вывалилась. На прощание он еще огрел его два раза по белесой сизо-красной физиономии и мирно сказал: „Уходи, дура“. Что-что, а драться его там научили основательно. Финка была самодельная, красивая, с инкрустациями, и он очень ею дорожил. Он сжал ее в кулаке, взмахнул и полюбовался на свою боевую руку. Она, верно, выглядела здорово. Финка была блестящая и кроваво-коралловая». Посмотрел сейчас и я на эту «боевую руку» – и понял: ближайший к нему – все-таки Лимонов, конечно. Та же нежность, умение ценить прелесть мира и его краски, то же бродяжничество, элегантность, веселье – и совершенная безбашенность в экстремальной ситуации. И та же равная одаренность в стихах и прозе.
Другая составляющая этой литературной – и этической – цыганщины задана уже в ранних текстах Домбровского: это эстетизм, конечно. Не эстетство, а именно эстетизм, который в идеале сводится, по-моему, в прицельной способности замечать в мире главным образом прекрасное, в сосредоточенности на нем. Вот ведь что еще очень важно в позиции Домбровского: для Солженицына лагерь – горнило, кузница, точка преображения. Для Шаламова – модель мира, невыносимо сгущенная, более откровенная, но в целом он и в мире видит только это: насилие, ужас, все под прикрытием лицемерия. Для Домбровского же лагерь – досадное препятствие на пути вольного странника; это есть, и мир в значительной степени из этого состоит, но фиксироваться на этом нельзя, не нужно. Это как в гениальной реплике Юрия Живаго: «Смерть – это не по нашей части». Она есть в мире, она играет в нем немалую роль, но это – не сущностное, не наше; может быть, это мировоззрение наиболее целостно описано у Грина в «Отшельнике Виноградного пика», и не зря Домбровский любил Грина (и не зря столько же пил: чтобы поддерживать себя в этом бесстрашном, жизнелюбивом, любующемся состоянии – нужно пить много, и вообще скольких гадостей и подлостей не было бы совершено, если бы все мы были слегка подшофе, слегка, не слишком!). И третья составляющая этого мировоззрения, неразрывно связанная с предыдущей, – женолюбие, культ женской прелести; один из лучших его рассказов о любви – «Хризантемы на подзеркальнике», но у Домбровского ведь и в романах нет ни одного непривлекательного женского образа. Не считая, конечно, самой «Леди Макбет» в замечательном рассказе, – и то этим абсолютным злом он отчасти любуется: очень уж законченный, совершенный в своем роде случай: «У меня – на что я спокойная! – все сердце вскипело, на него глядя. Ходит, дохляк, книжечки читает, зудит себе под нос невесть что! Я за свое самолюбство убью! И на каторгу пойду! А он что? Ни стыда, ни совести, наплюй ему в глаза, все будет божья роса! Вон видишь, какие у меня зубы? Живьем слопаю, как только узнаю! Так ты и помни!».
И еще кое-что есть в нем, и это, пожалуй, наиболее привлекательно, если не брать в расчет художественный талант, золотой запас, которым все это обеспечено. Ведь без таланта, без певчего голоса, не может быть никакого цыгана; не будь Домбровский прежде всего превосходным писателем, экономным, точным, пластичным, с замечательным умением дать героя тремя фразами, с безупречным поэтическим слухом, – он, может, и не сохранил бы себя в такой беспримесной чистоте. Но помимо таланта, который дается от Бога и собственно авторской заслугой может считаться лишь в той степени, в какой автор смог не скурвиться и себя сберечь, – в людях этого редкого типа особенно привлекательно милосердие, сострадание, ненависть к бессмысленному мучительству. И «Амнистия», один из самых сострадательных, самых религиозных русских стихов, когда-либо написанных: «Как открыты им двери хрустальные в трансцендентные небеса… Как, крича, напирая и гикая, до волос в планетарной пыли, исчезает в них скорбью великая, умудренная сволочь земли»: вот этой умудренной великой сволочи он готов сострадать, а мелких шавок крушит, не особенно замечая. Домбровский жалеет всех, – убитого в пьяной драке соседа, пьяницу, кутенка; самого его, чуя защитника, обожали звери, и даже не поддающийся дрессировке дикий кот жил у него дома, как домашний. Тоже цыганская черта – ладить со всяким зверьем, договариваться с ним на его языке.