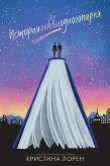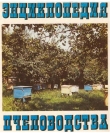Текст книги "Русская жизнь. Лень (май 2009)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Апельсиновая аллея
Вспоминает Дарья Максимовна Пешкова

Я родилась в Неаполе, а моя сестра Марфа на два года раньше – в Сорренто. Именно там мы жили с папой, Максимом Пешковым, и дедушкой Максимом Горьким, до самого возвращения всей нашей семьи в Россию в 1930 году. Не могу сказать, что жизнь в Италии как-то сильно отпечаталась у меня в памяти, но хорошо помню несколько эпизодов.
Например, такой: в доме, где мы жили, была специальная детская столовая, с камином. Нас каждое утро кормили творогом – так, что в какой-то момент я этот творог просто возненавидела. Тайком ото всех, пока никто не видит, я выбрасывала творог в камин. Так продолжалось довольно долго, пока в доме вдруг не завелись мыши. Никто не мог понять, откуда они взялись.
И вот вдруг в один прекрасный момент меня именно за этим занятием застает мой дедушка. Что тут началось! Он схватил меня за шкирку, стал трясти, поволок в комнату. Бабушка за меня вступилась, кричит: «Отпусти! Хватит!» Позже мне рассказывали (я этого не запомнила), как он выговаривал мне за то, что я смею выбрасывать еду в то время, когда детям в России нечего есть. Надо думать, Алексей Максимович действительно вышел из себя, – всем известно, что нас с Марфой он просто боготворил.
Помню еще апельсиновую рощу – деревья, растущие вдоль дорожки, выходящей к морю.
***
Как ни странно, переезд из Италии в Россию совершенно не произвел на меня впечатления. Конечно, во многом произошло это потому, что переехали мы не в Москву, а в Тесели, а Крым, в общем, имеет больше общего с Аппенинами, чем улица Малая Никитская или Горки, куда мы в конце концов переехали и где я жила до школы. Так что акклиматизировались мы постепенно.
***
О моем отце Максиме Пешкове написано незаслуженно мало, и многое из того, что написано, тоже незаслуженно. Это был веселый, брызжущий энергией человек огромного таланта. Прекрасно рисовал, прекрасно владел словом. Был такой эпизод: он поехал с партийным поручением в Сибирь за хлебом, и в этой командировке написал рассказ под названием «Лампочка Ильича». И отослал его для публикации, подписав своим настоящим именем. В итоге, не разобравшись в именах и псевдонимах, его опубликовали как рассказ Максима Горького. Помню, как они в шутку препирались с Алексеем Максимовичем: мол, ты такой известный, что даже мои труды на тебя записывают…
С моей мамой у отца была совершенно замечательная история отношений. Познакомились они на катке на Патриарших прудах. Мама, урожденная Надежда Введенская, дочь известного московского врача, была (в общем, против своей воли) сосватана отцовскому ординатору Синичкину, венчалась с ним, а потом в первую брачную ночь сбежала к Максиму Алексеевичу.
Приходилось читать, что моего отца спаивали. И это правда: спаивали его чекисты, и он, конечно, был их жертвой. У партии были на него большие виды – в нем видели агента влияния при Горьком, который, как вы знаете, по отношению к революции был большим скептиком; Ленин даже давал моему отцу наказ перед отъездом в Италию, чтобы он как следует разъяснял Горькому суть революции.
Отец много ездил по стране и видел жизнь реальную, а не ту, которая представлялась из Кремля. И поэтому вскоре понял, что то, во что он верил, несет народу не благо, а сплошные несчастья. Отец стал отходить от партийной работы, охладевать к революции, и его тут же взяли под контроль, стали им манипулировать. Поди-ка не выпей за Сталина, потом еще раз за Сталина, потом за Ворошилова? Горький, конечно, был очень болен, у него, например, легкие были в ужасном состоянии, и его смерть была событием ожидаемым, – думаю, она произошла без всяких посторонних вмешательств. А вот смерть отца явно была срежиссированна. Его оставили ночевать на морозе, и он умер от пневмонии. Как его лечили, никто не знает, – хотя бабушка от него не отходила.
***
Сказать честно, я не очень замечала сгущающиеся над домом тучи, – просто потому, что была еще очень мала. Но, конечно, тридцатые вспоминаю как тяжелое время, – мы потеряли отца и деда.
Но куда более драматично складывалась судьба моей матери. После смерти отца и деда любой мужчина, который приближался к ней, был обречен. У нее завязались отношения с директором Института русского языка и литературы Лупполом, и он был тут же арестован. Затем ее избранником был архитектор Мержанов, арестовали и его. Мать при этом не трогали, зато вокруг нее оставляли «выжженную землю». У мамы была приятельница, которая была вхожа в высшие круги власти, и перед самой смертью, уже в наше время она рассказала, что Сталин сам имел виды на мать и предлагал ей соединить судьбы (он действительно часто приезжал к Горькому в Горки, и всегда с букетом цветов). И потому убивал любого, кто к ней приближался. Но я бы не исключала мотив мести Горькому за его вроде бы предательство. Ну и к тому же, о Ленине Горький написал книгу, а все-таки о Сталине – нет.
***
Коммунистической идеологии как таковой дома никогда не было, но из нас, так сказать, делали порядочных людей, стремясь, чтобы мы не превратились в барчуков. Вот, например, был такой случай: одна фабрика прислала нам с Марфой шелковые платья; до сих пор помню – синие, с птицами… Можете себе представить, что такое шелковое платье в 30-е годы? Нас в них одели, подвели показать дедушке. Реакция была мгновенной: «Откуда это?» Ему объяснили. «Немедленно снять и отправить обратно!» Для нас, понятно, это было одно расстройство, но подношений Горький не принимал и нас учил тому же.
***
Мы переехали в дом на Никитской, когда пошли в школу. Школа была известная – 25-я, впоследствии 175-я, где учились дети членов правительства; были там ученики и познатнее меня, так что я не стала объектом пристального внимания. В одном классе с Марфой училась Светлана Сталина, со мной – Света Молотова. У обеих были охранники, только Сталина была с характером и выставляла своего топтуна в учительскую, а охранник Молотовой сидел прямо на уроке. При выходе на перемену нашей главной задачей было в общем потоке постараться сбить ее с ног, чтобы охранитель занервничал.
В 1940 году, после поездки Молотова в Германию, Риббентроп подарил его дочери парту. Ее поставили в нашем классе, и честь сидеть рядом с ней доставалась той, кто в тот или иной момент была лучшей ученицей класса. У меня же со Светланой была единственная стычка: школы, как вы знаете, делились на мужские и женские, и быть вместе мальчики с девочками могли только на школьных вечерах. В тот раз вечер устраивала наша школа, и я захотела пригласить Володю Ильюшина. Как оказалось, Светлана была в него влюблена. Меня вызвали к ее матери, жене Молотова Жемчужиной, – и та стала говорить мне, что Володю пригласит Света, а не я. Я стояла на своем, Жемчужина тоже. В итоге, кстати, Светлана добилась-таки его сердца, они недолго были мужем и женой, и у них были дети.
Однако в школе чванства не было, по крайней мере, когда я поступала. Если не считать, например, того, что специально для Светланы Сталиной был построен лифт на второй этаж. Но при этом в школу принимали и тех детей, которые просто жили в окрестных домах, и учили ничуть не хуже, чем остальных. Среди учителей мне особенно запомнилась Анна Алексеевна Яснопольская, которая обращалась ко всем ученикам на вы. Но в определенный момент нашу школу все же стали превращать в заповедник элиты. Однажды благоволившая ко мне преподавательница сообщила, что закончить школу мне не дадут. И я, уже в 10 классе, перед самыми экзаменами перевелась в другую школу, где и получила аттестат. Возможно, это было как-то связано с тем происшествием с Молотовой, возможно, нет – я до сих пор в неведении.
Случилось в нашей школе и одно страшное событие. Учился у нас странноватый мальчик Володя Шахурин, сын министра авиационной промышленности. А к нам из Мексики приехала семья Уманского, который работал в этой стране послом. В одну из двух его дочерей Володя по уши влюбился. Перед самым их отъездом обратно он вызвал свою избранницу на свидание, пришел с ней на Большой Каменный мост, получил, видимо, отказ и застрелил ее, а потом себя. Был страшный скандал, в школе несколько дней работали следователи НКВД, мальчишек вызывали на допросы. Дело осложнялось тем, что пистолет Володе, по слухам, дал сын Микояна…
***
Отдельно хотела бы рассказать о Екатерине Павловне Пешковой. Мало того что это была любящая, заботливая бабушка для нас с Марфой, это был просто святой человек. Она, по сути, была первым советским правозащитником. Только не путайте с диссидентством, она защищала именно обездоленных, а не инакомыслящих. В 1934 году она возглавила Красный Крест и руководила этой организацией до своей смерти в 1965-м.
Чтобы проиллюстрировать ее характер, приведу такой эпизод. В 1963 году я снялась в фильме «Апассионата», в котором рассказывается об общении Ленина и Горького. В финале есть сцена, где Ленин очень тепло прощается: «До свидания, дорогой Алексей Максимович. До свидания, милая Екатерина Павловна». После просмотра у бабушки спросили ее мнение о фильме. Она холодно ответила: «Там есть одна грубая ошибка. Мои отношения с Лениным никогда не были настолько теплыми, чтобы он на прощание говорил мне „милая“».
Сама она в революционное время была эсеркой, затем размежевалась с ними и вообще отошла от публичной политики как таковой, посвятив себя совсем другому служению. Она просидела в зале суда все процессы 1937 года. Она заботилась о «детях войны» из Испании. Она помогала евреям выезжать в Палестину – не в 60-х, когда начался великий отъезд, а в 40-х. На ее счету – сотни спасенных жизней, ее слово было ключом от тюрьмы. Конечно, она работала в плотном контакте с НКВД, но совсем не так, как хотелось бы властям. Сталин ее просто ненавидел, и однажды мы получили тому живое подтверждение. Марфа была приглашена Светланой Сталиной на дачу. За столом Иосиф Виссарионович умудрился поинтересоваться у моей сестры: «А как там поживает эта старуха?» Марфа даже не поняла о чем речь. Светлана наклонилась и сказала: «Это он о твоей бабушке».
***
Не могу сказать, что мучительно выбирала профессию, – я еще в школе стала играть в театре, так что вопрос с выбором ВУЗа решился сам собой, как и с выбором театра. Правда, сначала я поступила в ГИТИС, где на занятиях по вокалу мне серьезно сорвали голос. Через год, восстановившись, я решила попытать счастья в другом месте – в училище при Вахтанговском театре, откуда и попала в труппу. И с тех пор никогда и никуда не уходила. Даже вопроса такого не возникало.
Меня часто спрашивают, что я чувствую, когда играю в спектаклях по пьесам своего деда. Этот вопрос ставит меня в тупик – это все-таки вопрос мастерства; когда играешь, так или иначе отстраняешься от любой родственной связи. Другое дело, что я люблю и ценю и драматургию, и прозу Горького.
Я стараюсь поддерживать память о деде и вне стен театра, тем более что чувствую в этом необходимость именно сейчас, когда Горький начал возвращаться в память народа таким, каким он был в действительности. Советская власть сделала из него партийного писателя, хотя он ни дня не был в партии и, как я уже говорила, относился к революции скептически. Сейчас, слава Богу, – после некоторого перестроечного перерыва – Горького стали больше изучать в школах, а его драматургия снова вышла на сцену, причем зачастую в постановках молодых режиссеров.
А вот знаете ли вы, какова судьба дома в Горках, где Алексей Максимович жил и где умер? В советские годы там был Дом партийной работы ЦК КПСС – коммунистические руководители приезжали туда готовиться к съездам и конференциям. Там висела мемориальная доска. Зато теперь там, не поверите, «режимный объект». Именно так сказал мне охранник, когда мы с мужем в нынешнем году приехали туда. На территорию нас, естественно, не пустили. Я представилась, показала паспорт – не помогло. Точнее, охранник честно позвонил своему начальству, и начальство дало команду нас не пускать. Единственное, что мне было видно из-за забора, так это то, что мемориальной доски на доме нет. Я привлекла в союзники Институт мировой литературы, мы написали письмо министру культуры и со дня на день ждем ответа.
Да, кстати, совсем недавно мы снова побывали в Сорренто, и я встретилась со своей тогдашней подружкой Адой, дочкой хозяина дома, в котором мы жили. Она провела меня в дом (он несколько раз менял хозяев, в данный момент им владеет племянник Ады). Он, уж не знаю, к счастью или к сожалению, здорово перестроен, я даже не могла найти нашу детскую. Но апельсиновая аллея осталась, как была.
Записал Алексей Крижевский
* ГРАЖДАНСТВО *
Екатерина Шерга
Человек бегущий
Исчезновение праздного класса

I.

Герберт Уэллс в своей «Машине времени» предсказал разделение человечества на элоев и морлоков. Прекрасные, беспомощные и глуповатые элои – результат эволюции правящих классов, выродившихся в результате столетий абсолютного безделья. А где-то под землей живут морлоки – зверообразные, кровожадные и дикие потомки пролетариев. Они, напротив, вечно работают, ибо уже к этому привыкли.
Футуристический прогноз Уэллса, как чаще всего с прогнозами и случается, сбылся с точностью наоборот. Кто он, этот хорошо знакомый нам персонаж, бледный, с красными от недосыпа глазами, с языком на плече, с приросшим к уху мобильником, по которому он непрерывно кричит: «Извини, у меня вторая линия!» Это – современный элой, представитель элиты двадцать первого века. Еще недавно он был просто менеджером, его рабочий день составлял десять часов, сейчас сделался топ-менеджером и получил законное право посвящать работе часов по двенадцать-четырнадцать. За один сегодняшний день он успел побывать на трех деловых встречах, провел четыре совещания, на семь утра у него билет до Гонконга, и он хочет перед вылетом повидать детей, с отчаянным упорством это повторяет, пока какой-то разумный коллега не спросит: «А уверен ли ты, что твои дети захотят с тобой общаться в четыре часа утра?»
Я спрашивала у многих людей, уже обеспечивших благополучную жизнь себе и потомкам, зачем они живут в таком античеловеческом ритме. Получала, в общем-то, один ответ: «Смысл жизни – в расширении экспансии». Эту мысль, помнится, когда-то горячо пропагандировал Борис Абрамович Березовский, который в итоге доэкспансировался.
Как– то раз мне довелось оказаться в Париже в компании двух таких энтузиастов бесконечной экспансии. Один из них впервые оказался во французской столице и жаждал насладиться всеми ее соблазнами. Прибыв поздним вечером, сразу решил отправиться в лучший ночной клуб. Сказано -сделано. Мы устроились за столиком, стали размышлять над заказом. Тем временем, в качестве комплимента от заведения перед нами поставили по бокалу вина. Едва его пригубив, мои собеседники упали головами на скатерть и синхронно заснули. Тут же возникла официантка, взглянувшая на эту сцену с неподдельным ужасом. Она, вероятно, подумала, что меня с моими спутниками связывают какие-то запутанные личные отношения, и я, решив все разрубить одним ударом, их обоих и отравила.
Я успокоила ее, объяснив, что господа за последние двое суток совершили три перелета и спали в общей сложности часов пять. Попросила не тревожить эти несчастные тела. Действительно, сорок минут спустя тела подали признаки жизни и были транспортированы в отель. Тем более, что в восемь утра их уже ожидали первые переговоры, а в три часа дня – самолет то ли в Пермь, то ли в Сан-Франциско. На этом и закончился их короткий роман с Парижем.
Еще у одного товарища я спрашивала, отчего раньше на корпоративные праздники в их фирме приглашали жен (коллектив там мужской), а теперь эту практику прекратили. Причем посиделки с супругами длились иногда до утра, а когда превратились в холостяцкие пирушки, все участники уже к полуночи оказывались дома.
– Понимаешь, когда рядом жены, надо какие-то темы для разговора изобретать, – честно ответил он мне. – Книги там, театр, путешествия. В общем – напрягаться. А на это уже никаких сил не остается. Единственное, на что ребята способны – побазарить о делах, поорать под караоке, напиться, а дальше уже шоферы всех развезут по адресам.
Тот, кто это говорил, был не наперсточником, а выпускником физтеха, образованным человеком. Впрочем, что такое в наши дни – образование? Человек, с блестящими экономическими познаниями запросто может не представлять, кто правил раньше – Петр Первый или Иван Грозный. И у него не будет ни малейшей возможности обогатить себя подобными сведениями, потому что потребуется напрягаться, а на это нет уже никаких сил.
II.
На протяжении столетий как-то само собой считалось, что досуг – привилегия тех, кто находится на вершине социальной лестницы. Богатые люди могут себе позволить много отдыхать и много есть. Бедняки голодают и трудятся. В наше время все поменялось. Чипсы, пиво, сидение у телевизора – все это пролетарские радости. Состоявшийся человек сосредоточен, серьезен, он не употребит зря лишнюю калорию и не потеряет ни минуты времени.
С едой все просто. Действительно, чем ниже у человека достаток, тем психологически ему сложнее отказаться от еды. (Знакомый, учившийся в американском университете, рассказывал о примечательном контрасте между толстыми уборщицами и сухощавыми профессорами.) Ситуация с досугом кажется более странной. Ибо если от лишних калорий бывает вред, то от свободного времени разумному человеку вреда быть не должно. И непонятно, почему утерялось высокое искусство досуга, которым была славна Европа да, в общем, и Америка. Ладно, если бы речь шла о печальных неудачниках, у которых не было других достойных занятий. Но, например, Коко Шанель с Сергеем Дягилевым связывала настоящая дружба, они много общались, что не помешало им обоим войти в число самых успешных людей двадцатого века. Сейчас все это исчезает, и что самое странное – никто особенно об этом не жалеет.
Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, основатель некоммерческой организации «Центр исследований постиндустриального общества», объяснял мне:
– В восемнадцатом-девятнадцатом веках в Европе, где существовала целая салонная культура, практически отсутствовала дифференциация элит. Принадлежавшие к высшему обществу люди были приблизительно одинаково образованы, обладали навыками литературной деятельности, были знакомы с важнейшими течениями в искусстве, в равной степени хорошо владели несколькими языками. Их «профессии» (участие в политической жизни, военная служба, литературная деятельность или служение церкви) были скорее временными амплуа, своего рода «вторичной идентичностью». Основной же была принадлежность к дворянскому сословию и интеллектуальному классу. Современная ситуация радикально изменилась. Она характеризуется возникновением «функционального» человека. На первый план вышел профессионализм – а с ним и специализация. Люди изолированы по профессиональным группам. Сегодня бизнес, научная, военная и политическая элиты четко разделены.
– Но не кажется ли вам, что разделение на мало соприкасающиеся элиты, когда представители деловых, политических и военных кругов живут собственной жизнью, не могут свободно общаться, понять точку зрения друг друга, вредит эффективности?
– Наши генералы не потому неэффективны, что не общаются в салонах, а американские стратеги в Ираке не потому эффективны, что они там общаются. Скорее наоборот – насильственное насаждение взаимного диалога может повредить эффективности, так как этот диалог будет вестись вокруг пустых и отупляющих тем. Просто человечество прошло тот уровень знаний, когда каждый талантливый человек может иметь адекватное представление обо всем.
Интересное мнение, но война в Ираке представляется примером несколько странным. Там, судя по всему, как раз бизнесмены занимались бизнесом, политики – политикой, генералы – войной, в результате сама операция превратилась в цепочку отдельных весьма эффективных действий, приведших к сомнительному результату.
В России разобщенность элит усугубляется еще и благодаря местной специфике. Социолог Роман Абрамов, руководитель проекта «Люди ХХI» в фонде «Общественное мнение» объяснял мне:
– В западных странах буржуазия укоренена в городское комьюнити. Особенно – пожилые представители элиты, они обычно состоят в местных краеведческих, исторических, благотворительных организациях, в Ротари-клубах. В российских городах есть момент, связанный с близостью к администрации, к руководству города. Такая деятельность властью может восприниматься, как вызов. А если ты потерял доверие местных властей, ты утонешь. У нас по сути сохраняется наследие советской номенклатуры – подпольная светская жизнь, банные встречи. В начале девяностых создавались разнообразные «Ассоциации предпринимателей». Но они так и не стали площадкой для общения.