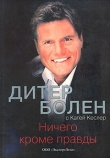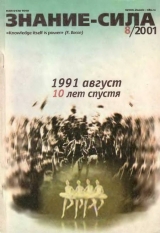
Текст книги "Знание – сила, 2001 №8 (890)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Научпоп
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Независимо от Вентриса дешифровкой критского письма Б занималась американка А. Кробер, по образованию математик. Ей принадлежит выделение в текстах так называемых троек Кробер. Вентрис продолжил ее работу, и в результате были выделены два типа альтернации: если два знака заменяют друг друга на границе одной и той же основы при разных окончаниях, то они скорее всего обозначают одну и ту же согласную и отличаются только гласной. Наоборот, если основы разные, а окончания тождественные, то скорее всего имеет место тождество гласных и различие согласных. Используя эти отношения как основания классификации, Вентрис сумел построить свою знаменитую «сетку», где в одном столбце стояли слоговые знаки с одним и тем же гласным, а в одной строке – с одним и тем же согласным. Стоило теперь найти чтение для одного слогового знака, как частично «озвучивались» все знаки, стоящие в той же строке и в том же столбце. Гипотетические прочтения оказалось возможным подвергать перекрестной проверке.
Вентрис начал с предположения, что, возможно, дешифруемые им тексты не греческие, но содержат некоторые слова (названия местностей), известные из греческих источников. И очень скоро убедился, что в составленном им списке есть название центра минойской культуры Кносса. Получив таким образом правдоподобные чтения для нескольких знаков, он сумел прочесть много блоков, которые оказались архаичными формами греческих слов, использовавшимися за 500 лет до Гомера. Это была победа.
Торжество метода
Большинство специалистов встретили эту победу с энтузиазмом. Возможность читать ранее неведомые тексты не только серьезно меняла представления о ранних периодах истории Греции – открывалась новая перспектива в развитии теории дешифровки. Часть наиболее трудоемких операций над текстами, которые производил Вентрис, теперь можно было поручить компьютеру. Однако решающую роль при дешифровке играет не перебор, а удачное использование неповторимого сочетания особенностей документов, письма и языка. Хотя Ю.В. Кнорозов (1922-1999) в ходе своей блестящей дешифровки письменности майя (1963) в целом развивал метод Вентриса, он использовал другие по сравнению со своим предшественником отношения между знаками и их последовательностями.
После завоевания Мексики испанцами в середине XVI века и истребления жрецов традиционная письменность (I-XVI веков) индейцев-майя, населявших полуостров Юкатан, была забыта, тексты почти полностью уничтожены. Сохранились лишь надписи и четыре требника сельских жреиов. Их язык и примерное содержание были известны по записям, сделанным самими индейцами латиницей в конце XVI века. Требник представлял собой календарь, где на каждую дату приводилось прорицание или инструкция, какие реальные или символические действия следовало выполнять индейцу в зависимости от его положения в обществе. Календарная структура упрощала сопоставление текстов, которые были попорчены временем. Инструкция обычно занимала отдельную строку документа и часто сопровождалась рисунком. Сведения о структуре документов, конечно, значительно облегчили процесс дешифровки.
Кнорозов использовал уже известные приемы для определения типа письменности (она оказалась словесно-слоговой) и для разделения блоков на постоянные и переменные части, но выбрал совершенно оригинальный способ для получения фонетического чтения текста. Он предположил, что каждая строка– инструкция представляет собой отдельное предложение, и использовал устойчивый порядок слов в местных индейских языках (сказуемое всегда предшествует подлежащему), чтобы получить классификацию блоков по «частям речи». Определив функции глагольных показателей, он нашел им соответствие в записях языка XVI века и в современных диалектах и получил фонетическое чтение ряда знаков. Рисунки в рукописях послужили ему хорошей дополнительной проверкой своей интерпретации.
Результаты Кнорозова были блестящими. Помимо всего прочего они свидетельствовали об огромном потенциале метола и о возможности применить его к письменностям, далеким от европейского «культурного круга». Некоторые лингвисты (Б.В. Сухотин) увидели в таком подходе к дешифровке даже общую модель формального описания языка.
Но не все еще сделано. Работа по дешифровке письменностей продолжается, ее много. Не дешифрована протоиндийская (протодравидская, хараппская) письменность, большое количество памятников которой (надписей на печатях) обнаружено в результате раскопок городов III тысячелетия до новой эры в долине реки Инд; письменность киланей, которые в X веке создали государство Ляо в Северном Китае; письменность острова Пасхи (ронго-ронго); письменность тангутов, которые в X-XIII веках создали государство Си Ся на территории современной провинции Ганьсу (КНР), и некоторые другие. Здесь серьезное препятствие – малоизвестный культурно-исторический контекст, в котором возникли эти письменности и генетические связи соответствующих языков. Поэтому у бесстрашных первооткрывателей еще все впереди.

РОЖДЕННЫЕ ВИНОВНЫМИ
Петр Сихровски
Полная надежд
Сюзанна (42 года)
Посмотри на меня, вот я здесь сижу. Вот мое лицо, глаза, рот, нос. Что ты видишь? Скажи мне, наконец, что ты видишь? Предложим, ты встречаешь меня в супермаркете. Мы стоим друг за другом в кассу. Я оборачиваюсь, ты смотришь мне в лицо. Ты ничего во мне не находишь. Ничего особенного. И когда сегодня мы говорим о том, что я дитя убийц, – это смешно! Как выглядит дитя убийц? Скажи мне только честно, какой ты меня представлял? Ты всегда имеешь представление о том, как выглядит некто, подобный мне?
Я была зачата в 1944 году. Вероятно, в то время, когда твоя бабушка была уничтожена в каком-нибудь концлагере. Или после этого, после работы, после окончания службы. Отец приходил домой и ложился с матерью в постель. Возможно, после ужина. Не понимаю, почему именно с тобой я говорю об этом. Но с кого-нибудь я должна начать. Ты, собственно, первый, кто хочет говорить об этом. Наверное, это будет лишь одно мучение. Раньше, когда я была маленькой, в школе у нас было несколько учителей, которые обсуждали эту тему. Один из них вернулся из эмиграции. В 1938 году вместе со своими родителями он покинул Германию и в 1945-м вернулся из Лондона с намерением, как он уверял нас всегда, помочь в строительстве новой [ермании. Он старался самым реалистичным образом представить нам ужасы нацистского времени. Но это потрясало его, а не нас. Часто он весь дрожал, отворачивался и тайком утирал слезы. Нас же это волновало не больше, чем воскресная месса. Фотографии, фильмы, его заверения, предостережения. Все это воспринималось, как обычный урок. Звонил звонок, он входил, раскрывал свой портфель, устанавливал киноаппарат, включал его. Изображения сменялись перед нами. Учитель читал выдержки из книги, показывал нам фотографии. Мне было тогда четырнадцать лет. Урок заканчивался – звонок, мы ели принесенный из дома хлеб, на следующем уроке приходил учитель математики. Несколько минут спустя он говорил о прямых и кривых. Наш мозг пытался решать математические, а не исторические загадки. Все это было как-то бессмысленно.
Мой отец в 1948 году был приговорен к десяти годам. В пятидесятом его отпустили. Когда он исчез на два года, мне было всего три. Меня это никогда не удивляло. Мне исполнилось пять лет, когда он вернулся. Этот день я могу вспомнить очень точно. Он просто неожиданно пришел домой. Об эгом в семье никогда не говорили. Отец еще жив. Ему почти девяносто. Большой, гордый человек, с еще густыми белыми волосами. На левой руке ампутирована кисть. Он носит протезе черной перчаткой, рука неподвижна. Пальцы немного согнуты. Он все время выдвигает их вперед, как будто хочет подать руку. Удивительно, что когда я думаю об отце, всегда вспоминаю эту руку. Я ничего плохого с ним не связываю. Напротив. Он меня никогда не бил, не кричал на меня. Был спокоен и готов понять меня. Пожалуй, слишком спокоен и готов понять меня. Пожалуй, слишком спокоен.
«Я расскажу тебе все, что тебя интересует, только спрашивай меня» – говорил он часто. И затем всегда следовало самое главное: «Ты должна передать это своим детям. Такое никогда не должно повториться». Он возлагал на меня ответственность за будущее. Мои дети не должны были повторить его ошибки. Проблемой для меня было только то, в чем собственно, они заключались? Все эти исторические представления, эти рассказы всегда были анонимными.
Штерн – учитель, который вернулся из Лондона, – однажды пригласил моего отца в школу. Отец пошел. В это утро он очень нервничал. Результатом того посещения стали их регулярные встречи, инициатором которых был мой отец. Он хотел снова и снова видеть учителя и говорить с ним. Самым большим желанием отца было быть понятым кем-нибудь. Для меня это до сих пор загадка. Как он мог разговаривать подолгу и так обстоятельно именно со Штерном, который, в принципе, был одной из его жертв. Когда я подросла, отец часто повторял мне: «Эту войну мы хотели тогда, по меньшей мере, выиграть. Уже в сорок третьем мы знали, что войну против союзников проиграем. Но евреи должны были умереть».
Он постоянно пытался мне это разъяснить. Совершенно спокойно, без крика. Хотел заручиться моей поддержкой. Он повторялся сотни раз. Все его рассказы были просты и логичны. Повествования осамых страшных зверствах звучали, как сообщения о путешествиях или других событиях. Чаще всего я сидела перед ним молча, слушала и ничего не говорила. Нередко ловила себя на том, что мысли мои где-то далеко. Или я смотрела мимо отца, в окно, фиксировала взгляд на какой-либо точке противоположной стены и думала о чем-то своем. Он говорил сонным, монотонным голосом. Смотрел на меня при этом, а у меня часто возникало чувство, будто я должна, вынуждена слушать его вечно.
Когда мне было шестнадцать лет, отец поехал со мной в Освенцим. Он знал этот лагерь, поскольку какое-то время работал там. Мы примкнули к группе людей, говорящих по-немецки. У нас был немецкий экскурсовод, бывший заключенный. Никогда я не забуду то, что мы увидели. В группе было много моих ровесников. Единственное отличие: они были детьми тех, кто подвергался преследованиям при нацизме.

Отец во время экскурсии не проронил ни единого слова. Позже в машине, на обратном пути в город, он начал мне растолковывать, что, по его мнению, неправильно объяснял экскурсовод. Отец говорил о селекции при прибытии заключенных и называл цифры: 60-70 процентов прибывших всегда тотчас же направляли в газовые камеры. Остальных посылали на работы. Экскурсовод же сообшил, что только немногие были не сразу уничтожены. При этом отец оставался совершенно спокоен. Закончил он свой рассказ вопросом: «Ты вообще можешь себе представить, как страшно все это тогда было?». Когда я сегодня об этом вспоминаю, деловой подход отца представляется мне ужасаюшим. Эти сообщения, описания, тщательное нанизывание впечатлений. Никогда, например, я не видела в его глазах слезы. Ни разу он не прервал свои воспоминания, не остановился, всегда имел силы продолжать. Эти рассказы были монотонными, похожими на чтение.
Я выросла только с отцом. Матери я не знала. Она погибла во время бомбежки. Мне тогда было всего несколько месяцев. Потом у нас была няня: она вела домашнее хозяйство и заботилась обо мне. Отец относился к ней очень хорошо. Как я уже говорила, он был спокойный, приветливый человек. По его мнению, все объяснимо и имеет свою собственную логику. Если сразу разобраться, почему что-то произошло, исчезнет непонимание и самая мрачная фантазия.
Все, что тогда случилось, было для моего отца системой из причин и следствий.
Отец моего отца был офицером, поэтому и тот стал офицером. Родители его были убежденными нацистами, отец был таким же. Все семейство, из которого он происходил, было привержено нацизму с самого начала. Его отец, которого я, кстати, не знала, погиб во время войны (он был даже знаком с Гитлером). Мой отец рассказывал иногда, что также лично встречался с Гитлером между 1930 и 1933 годами. При этом отец добавлял: «Притягательной силе Гитлера нельзя было противостоять».
Самое страшное из того, что произошло во время войны, было для него также следствием условий и обстоятельств. Но справедливости ради: отец не оправдывал случившееся. Он говорил об убийцах и предателях. Никого не стремился оправдать, а пытался объяснить, что многое, о чем сегодня пишут в прессе или в наших учебниках, не соответствует истине. Однако виновным, виноватым он себя никогда не чувствовал. Ни разу не сказал о том, что совершил ошибку или участвовал в преступлениях. Он был жертвой обстоятельств. И я всегда верила ему. Верила заверениям и воспринимала все, что произошло, как ужасный несчастный случай. Никогда не подозревала его в совиновности. Все изменилось, когда появился мой сын, он разрушил мое представление о мире. Однако к этому я приду позднее.
В 1962 году я завершила среднее образование и начала изучать психологию. Позднее я поменяла специальность и стала учительницей средней школы, где сразу познакомилась с Хорстом. В 1965 году мы поженились, в 1966-м у нас родился сын Дитер. Мой муж тоже педагог. Его специальность – немецкий язык и история.
Три или четыре года тому назад Дитер пришел домой и рассказал, что присоединился к группе, которая занимается изучением истории и судьбы евреев в нашем городе. Великолепно, сказала я и была горда сыном. Хорст, преподававший историю, сказал, что хочет ему помочь советами, книгами или как-то иначе. Мы оба не подходили к этому вопросу предвзято. И даже немного гордились тем, что наш сын занимается таким важным делом. Дитер регулярно встречался со своими друзьями. То у родителей одного друга, то другого, часто и у нас дома. Они рылись в материалах городского архива, писали письма в еврейские обшины и пытались найти в нашем городе тех, кто пережил нацизм.
Через несколько недель все внезапно изменилось. Я предчувствовала неприятность. Дитер редко бывал дома, каждую свободную минуту он проводил с друзьями. Я почувствовала, что чем дольше он будет заниматься этой проблемой, тем больше отдалится от нас. Он разговаривал с нами только о своей работе, больше ничего не рассказывал и становился все более замкнутым.
Однажды во время ужина мы с Хорстом попытались завести с ним разговор. Спросили его, как обстоят дела с работой в группе. Он отвел взгляд от тарелки, посмотрел на меня и произнес довольно агрессивным тоном: «Что, собственно говоря, делал дедушка во время войны?».
Я подумала: хорошо, что интересуется, и он имеет право знать, чем его лед тогда занимался. И я должна ему поведать то, что знаю. Отец находился в это время в Доме престарелых, расположенном в восьмидесяти километрах от нас. Мы посещали его один-два раза в месяц, но Дитера брали с собой редко. Так я рассказала Дитеру все, что знала о том времени, которое мне было известно только по рассказам отца. Я попыталась объяснить, представить, описать, прокомментировать – это был мир фантазии. Как мне теперь ясно, он не имел ничего общего с реальностью. Дитер некоторое время прислушивался, не глядя на меня. Потом внезапно вскочил, швырнул вилку и нож на стол, 1астучал по столу, посмотрел на меня большими испуганными глазами и закричал: «Ты лжешь, он – убийца! Ты лжешь, лжешь. Дедушка был и есть убийца!». Он снова и снова кричаа, пока не встал Хорст и не дал ему оплеуху. Потом кричала я на них обоих. Это было ужасно. Дитер пошел в свою комнату; прикрыл дверь и до конца вечера не выходил к нам. Что-то сломалось в нем. Как часто я пыталась говорить с ним, объяснить ему, что тогда – в этом проклятом тогда – произошло. Я говорила, как со стеной. Он сидел передо мной, пристально смотрел на свои колени, сжимал пальцы и не отвечал. Все было бесцельно. Он ничего не хотел слышать ни от меня, ни от Хорста.
Через несколько недель сын пришел домой, вытащил из своего школьного портфеля стопку бумаг и положил ее передо мною на кухонный стол. Это были старые документы.
«Ты знаешь семью Коллег?» – спросил он меня. «Нет, не слышала» – ответила я. Он показал на бумаги, лежащие на стопе: «Из этих бумаг следует, что они когда-то жили в этом доме». «Ты думаешь, в нашем доме?» – спросила я и попыталась прочитать один из документов. «Да, там, где мы теперь живем», – сказал он. Я не знала, что он имеет в виду. «Что ты хочешь этим сказать?» – спросила я. «Неважно» – отвечал он вполне спокойно. «Коллеги были в 1941 году изгнаны из этого дома и умерли в 1944-м в Освенциме. Твои любимые отец и мать въехали сюда через день, через день после этого». Потом он вырвал газету из моих рук и закричал: «Должен я прочитать тебе это вслух? Я должен прочитать тебе это вслух? Здесь, здесь это написано, и в этом доме жили Марта Коллег двух лет, Анна Коллег шести лет, Фреди Коллег двенадцати лет, Гарри Коллег сорока двух лет и Сюзанна Коллег тридцати восьми лет. Выселены 10 ноября 1941 года. Депортированы 12 ноября 1941 года. Официальная дата смерти детей и матери – 14 января 1944 гола. Отец пропал без вести. Место смерти – Освенцим. Вид смерти… Ты хочешь еще знать подробности? Можно? И при всем этом ты будто бы ничего не знала? Твой отец тебе ничего не рассказывал?». Я тогда ничего не ответила. Нервно начала заниматься чем-то в кухне. Не знала, что должна об этом сказать. Отец мне не говорил, что мы живем в конфискованном доме. Я всегда думала, что это старая семейная собственность. Но что, черт побери, я должна была действительно сказать моему сыну! Заключить с ним союз и обвинить собственного отца?
Я попыталась поговорить об этом с моим отцом. Хорст пообешал мне как– нибудь спокойно объясниться с Дитером. Но этот разговор не помог нам. Напротив, с того момента сын изменился и по отношению к мужу. Хорст был также не очень искусен в своих советах. Он – убежденный сторонник «зеленых» и считает себя «левым». По его мнению, у нас теперь другие проблемы, например экология и атомная энергетика. Он пытался влиять на Дитера в этом направлении. Постоянно говорил о том, что сегодня фашизм – не тема для молодого немца, что прошлое – это прошлое и в конце концов должно быть забыто. Критика фашизма – дело философов, а не «молодняка периода полового созревания». Молодые люди должны теперь протестовать против атомных электростанций, против загрязнения окружающей среды. Остальное исторически обусловлено и должно измениться в ходе развития общества, и тогда фашизм не сможет повториться и т.д. – вся эта теоретическая болтовня. Дитер сидел перед ним, качал головой, пытался с ним спорить, но Хорст этого не допускал. Когда Дитер умолкал, Хорст продолжал говориib. Я пыталась прервать обоих и спрашивала Дитера, что он об этом думает. Дитер смотрел на меня, на Хорста и повторял одну-единственную фразу: «Что делать, если мой собственный дедушка – убийца?». После этого вставал и ухолил в свою комнату.
Следующие недели были еще ужаснее. Каждый вечер – дискуссии, крики, слезы и обвинения. Дитер и я наскакивали друг на друга, как люди различных религий и различных правд. Хорст спасался сидением у телевизора и вообще больше не вмешивался. Он приходил с бессмысленными советами: мы должны прекратить эти разговоры и ко всему относиться не так серьезно. Но ничто не помогало; напротив, Дитер ко всему относился всерьез.
Постепенно во мне развилось чувство страха потерять собственного сына. Разрыва с отцом не произошло, несмотря на множество тех сведений, которые я получила о нем. Теперь я должна была опасаться, что может возникнуть трешина между мной и сыном. Я оказалась в ужасной ситуации – выбирать между сыном и отцом.
Я, естественно, хотела сначала попытаться выяснить отношения с сыном. После того как в течение двух недель мы вообше не разговаривали друг с другом, я как-то попросила Дитера еще раз выслушать меня. И попробовала объяснить ему, как дедушка передал мне свои переживания, рассказала ему о посещении Освенцима и других впечатлениях моей юности. У меня были серьезные намерения показать сыну, как повлияла на меня история моего отца и национал-социализма, как я реагировала на это и насколько это меня вообще занимало. Я старалась разъяснить ему различие между двумя поколениями. В его возрасте у нас еще не возникало идеи изучения в рабочих группах истории города в период нацизма. Как глупы и наивны, насколько незаинтересованны мы были тогда по сравнению с сегодняшней молодежью! Или, возможно, в то время эта тема была слишком болезненной.
Разговор этот был очень серьезным. Дитер спокойно слушал, задавал мне множество вопросов и не отклонял мои доводы. Но, думаю, самым главным для Дитера были мои заверения, что я не буду любой ценой защищать дедушку. Что дед не должен стоять между мною и им, что он, Дитер, не должен видеть во мне бывшую национал-социалистку, которая все еще находится во власти прошлых идеалов. Сын понял также, что не так просто осуждать собственного отца как убийцу, если его с такой стороны не знаешь и не видел, а он сам открыто ее не проявлял.
В сущности говоря, я просила сына о прошении и, кроме того, о большем понимании моей ситуации. Вне сомнения, я изменила свое мнение о том времени и делах отца.
Это стало, вероятно, решающим шагом к тому, чтобы Дитер и я снова нашли друг друга.
После того важного разговора произошло нечто удивительное для меня. Я солидаризировалась с сыном против собственного отца. И все больше и больше интересовалась работой сына в группе. Он показывал мне все, что собирал и изучал со своими друзьями. Их группа чаше приходила к нам, я сидела тихо в углу и прислушивалась. Для меня было захватывающе интересно сопереживать молодым людям в их сегодняшнем понимании истории. Это поколение было просто непосредственней нас, у него было меньше страха и запретов.
Но еще долго не все было в порядке. Я регулярно по воскресеньям посещала отца, каждый раз собираясь поговорить с ним. Но никак не могла сделать этого. Он едва ходил, плохо слышал, в основном я возила его в коляске по парку Дома престарелых. Я была не готова к разговору об обстоятельствах, которые привели его в дом, в котором теперь живу я.
Я попыталась убедить Дитера в том, что он должен пойти со мной, чтобы поговорить с дедушкой. Он не хотел: «Он твой отец».
Я, правда, верила тогда, что и ему разговор с дедушкой был бы неприятен. Еще через несколько недель Дитер отправился со мной. Дедушка почти гол не видел своего внука и очень обрадовался ему, расспрашивал о школе. Оба держали себя так, будто были хорошими друзьями. Я начала думать, что Дитер отказался от своих намерений. Но ошиблась. После первых незначительных фраз сын перешел к делу.
Он задал моему отцу те же вопросы, что и мне: знает ли он семью Коллег? Нет, отвечал отец, он не слышал о ней. Затем Дитер спросил, как дедушка оказался в доме, в котором мы теперь живем. Он его купил, отвечал отец. У кого, продолжал выяснять Дитер. У одного домоправителя, сказал отеи. Знал ли он о том, кто жил в этом доме до него, задал вопрос Дитер. Нет, он не знал, сказал отец. Разговор шел обо всем понемногу, Дитер не переходил в наступление на отна. Он задавал ему несложные вопросы, отец отвечал так, как и всегда. Постепенно у меня зародилось подозрение, что отец, вероятно, в действительности не знает, как это было. Но Дитер в своей проникающей манере ставить вопросы не отступал. Дед потерял терпение. «Что ты пытаешься узнать?» – спросил он Дитера. И сын рассказал ему о рабочей группе, о материалах, касающихся нашего дома, которые они нашли, о доказательствах изгнания семьи Коллег, жившей в нем.

Но мой отец все отверг. Он ничего не знал, дом нормально купил и сегодня в первый раз слышит, что в нем до нас жили евреи. Дитер ему не поверил, но не стал спорить с дедушкой. Он шепнул мне, что нет никакого смысла говорить с ним об этом.
В тот день отец для меня умер. Человека, которого я посещала в дальнейшем, я больше не знала, он меня больше не интересовал. Катая его по парку, я говорила о чем-то незначительном, никаких личных разговоров больше не вела. Отец после посещения его Дитером стал для меня лжецом. И я не хотела думать о том, что все, что он рассказывал мне в течение моей жизни, было ложью. Ничто не было достоверным, все излагалось не полностью или в искаженном виде.
Теперь я посещаю отиа только один раз в месяц. Дитер с тех пор больше со мной не ходит. Я ему и не предлагаю. Ныне я на его стороне, и все мои надежды связаны с ним. Он свободен от влияния поколения моего отца, и это хорошо. Он растет значительно свободнее, чем я, и далеко не так верит в авторитеты. Но самое главное переживание – это то, что благодаря сыну и вместе с ним я порвала со своим отцом. Этот старый человек в Доме престарелых мне совершенно чужд. Если бы в кресле, которое я вожу через сад, оказался кто-то другой, я не была бы поражена.
СКЕПТИК
Александр Волков