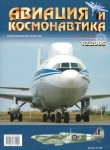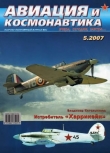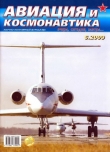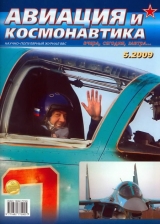
Текст книги "Авиация и космонавтика 2009 05"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Воспоминания летчика-испытателя
1960 год
Нашему летно-испытательному институту поручено испытать на штопор первую модификацию МиГ-21. Срок жесткий. Нужно спешить. Тогда все время спешили. Иначе было нельзя. Достаточно вспомнить политическую обстановку в стране и в мире: пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы. Чередование международных кризисов, возникновение военных конфликтов и очагов напряженности. А что нужно при этом для безопасности страны? В первую очередь – боевая техника, самолеты в том числе. А самолеты должны быть надежными. В частности, должны хорошо выходить из штопора. Для этого нужно было провести летные испытания на штопор.
В ЛИИ тогда было два мастера таких испытаний: Сергей Анохин и Яша Верников. Оба были уже в возрасте, поэтому руководство решило готовить им смену. Выбор почему-то пал на меня. Так я стал их преемником.
Полетам самолета на штопор предшествуют испытания динамически подобной модели в специальной аэродинамической трубе ЦАГИ. Затем самолет оборудуют средствами аварийного вывода из штопора, на случай если будет невозможно остановить штопор рулями. Ну и, разумеется, на самолет устанавливают комплекс приборов-самописцев с большим перечнем регистрируемых параметров. Так по плану. Но мы-то торопились…
Испытания в ЦАГИ проведены, правда, обработка результатов испытаний весьма трудоемка, и официальное заключение ЦАГИ пока еще не получено. Зато самолет в ЛИИ уже оборудован системой управления противоштопорными ракетами и готов к полету. Другое дело, что ракеты делает специализированная фирма, но она их еще не поставила. Можно ли начать летные испытания? Руководство считает – можно, я тоже.
И полеты начались. Вопреки надеждам самолет вошел в плоский штопор, вывод из которого может быть возможен, а может быть, и нет. В методике испытаний есть понятие: «запаздывание при выводе из штопора». Возможное запаздывание оговорено в задании на полет. Летчик должен терпеливо выждать оговоренное количество витков штопора и секунд, прежде чем предпринимать повторную попытку вывода рулями или использовать ракеты. Я так и поступил. Выждал, сколько требовалось, и снова дал рули на вывод. Но самолет на мои действия не реагировал. Я с тоской посмотрел на две кнопки с надписями «вывод из левого штопора», «вывод из правого». Кнопки были, но ракет-то, не было.
А самолет идет к земле со скоростью сто метров в секунду. На все размышления и мудрствования имеется около ста секунд, двадцать уже истрачены. Мое внимание на пределе. Самолет в штопоре колеблется. Я понял, а скорее, «проинтуичил», что рули нужно отклонять в такт с колебаниями штопора. В общем, очередная попытка вывода штопорное вращение остановила, но высота подошла уже к той, на которой пришлось катапультироваться.
Говорят, если опытный самолет плохо выходит из штопора, это уже проблема для его создателей… Но у руководства появилась мысль, что дело не в самолете, а в Щербакове. Мал опыт, что-то сделал не так.
Сомнения тревожат и меня. Вскоре принимается решение повторить полет Анохину, но уже с ракетами.
Вывести самолет из штопора рулями Сергей Николаевич тоже не смог и воспользовался ракетами. Были расшифрованы приборы-само– писцы, подтвердившие, что самолет вошел в плоский штопор. Подтвердилась также правильность моих действий. Тут подоспело и заключение ЦАГИ о неблагоприятных характеристиках штопора и необходимости доработок самолета. Кстати, Сергей Николаевич дал блестящую оценку моим действиям, правда, в выражениях, не соответствующих нормам литературного языка.
Год 1969-й
Самолет МиГ-25 проходит Государственные испытания и поступает на вооружение. Это самолет больших возможностей. Но 24 апреля на нем происходит катастрофа. Погибает командующий авиацией ПВО генерал Кадомцев. До выяснения причины катастрофы полеты на МиГ-25 остановлены. Везде, кроме ЛИИ.
И опять требуется заключение по штопору. Это мои испытания. Впрочем, самолет преподнес мне неожиданный сюрприз и без всякого штопора. В первом же взлете 6 мая сразу после уборки шасси управление самолетом заклинило, ручка и педали стали неподвижными. Такое может быть, только если отказала гидросистема. Но приборы показывают, что давление в системе нормальное.

Чтобы заклинило сразу все рули, о таком я даже никогда не слышал. В такой ситуации нужно катапультироваться. Но самолет летит по прямой и падать пока не собирается. Значит, и мне спешить некуда. Передал по радио, что произошло, и сказал, что к катапультированию морально готов. Но катапультироваться – это погубить опытный самолет, а с его гибелью будет сокрыта причина катастрофы. Да и куда упадет самолет? Рядом Коломна и Рязань. Это журналисты придумали сюжет, как летчик, рискуя собой, направил неуправляемый самолет в безлюдное место. Да если самолет неуправляем, то ты его уже никуда не направишь.
Внимательно осматриваю кабину и показания приборов. Вспоминаю, что уборка шасси сопровождалась каким-то незнакомым металлическим звуком. А нет ли между этим звуком и отказом управления связи?
С надеждой ставлю кран шасси на выпуск и чувствую, как заработало управление, задвигались ручка и педали. Передал по радио. В течение этих напряженных минут земля молчала. Такой отказ управления озадачил руководителей испытаний не меньше, чем меня…
Когда самолет катился по полосе, я уже понял, как важно было его доставить на землю. Главное, теперь будет выяснена причина отказа.
Эта причина была выявлена при первом же осмотре самолета. Оказалось, что при уборке шасси подкос носовой стойки с такой силой давил на узел крепления к фюзеляжу, что вызвал прогиб конструкции, в результате чего оказались зажатыми проходящие в этой зоне тяги управления. В дальнейшем конструкция фюзеляжа в данном месте была усилена и проблема полностью исключена. Самолет успешно продолжил Государственные испытания. Меня пригласил Генеральный конструктор Ростислав Аполосович Беляков, поблагодарил и вручил модель МиГ-25.
1974 год
Самолет Су-24 проходит Государственные испытания. Нашему институту поручено выполнить целый комплекс работ на этом самолете. Нужно проверить машину на прочность, управляемость, штопор. Самолет оборудуется испытательной аппаратурой на летной базе КБ Сухого. Я принимаю свое рабочее место – кабину и говорю «суховским» инженерам: «Указатель угла атаки и перегрузки необходимо перенести из нижней части приборной доски на обрез козырька. А еще необходимо установить зеркала заднего обзора, как на самолете МиГ-23».
Инженер-приборист объясняет мне, что перенос прибора нецелесообразен. Это потребует времени, а самолет уже готов к полетам.
Руководитель испытаний по поводу зеркал тоже эдак иронично говорит: «Александр Александрович, а рулежки по автострадам программой летных испытаний не предусмотрены».
В общем, с «суховцами» поначалу возник некоторый дефицит взаимных симпатий. Но я не капризничал, а добивался своего.
Зачем?
Заданную в полете перегрузку необходимо выполнить очень точно. Контролировать ее необходимо по прибору и по движению самолета одновременно. И зеркала тут просто необходимы. Все вооружение самолета подвешивается под крылом, а из кабины крыла не видно. В случае отрыва подвески или какого-либо элемента конструкции во время ее разрушения, летчик может это увидеть только в зеркале.
«Суховцы» уступили.
После небольшой, вызванной мной задержки, начались интенсивные полеты. В очередном полете определялась эффективность гидроусилителей системы управления. Нужно было полностью отклонить ручку по крену, выждать несколько секунд, затем полностью отклонить ее в обратную сторону. При этом развивалось интенсивное вращение самолета.
И вот я в воздухе. Отклонив ручку, выжидаю заданное время. Вдруг самолет без моего участия сам меняет направление вращения, резко раскачиваясь по курсу. При этом раздаются оглушительные помпажные хлопки двигателя.
Забегая вперед, сразу скажу, что произошло. Напомню, что на Су-24 крыло переменной стреловидности. Летчик может устанавливать его на углы от16 градусов до 69. И оказалось, что левое крыло самопроизвольно сдвинулось со стреловидности 45 градусов в положение 16 градусов. Шток механизма перекладки крыла сломал опорный узел, взломал бортовую стенку самолета и пробил топливный бак. Керосин струей хлынул в работающий двигатель.
Понятно, что все это выяснилось позже. В тот момент я, разумеется, этого не знал. Пытаюсь безуспешно остановить вращение рулями и осматриваю кабину. В кабине есть табло, такие окошечки, а в них надписи. Зеленые окошечки – информационные. Красные – аварийные. Загораясь, они требуют немедленных действий летчика. В этих окошечках надписи: «Пожар», «Отказ двигателя», «Отказ гидросистемы» и еще в том же духе. Так вот, загорелись сразу все красные окошечки!
Пытаюсь запустить остановившийся двигатель, Включаю противопожарную систему, но быстро понимаю, что все это пустые хлопоты. Передаю по радио: «Катапультируемся. Поднимайте вертолет». Даю команду катапультироваться второму пилоту Славе Лойчикову. После этого радио и внутренняя связь прекращаются. Все провода уничтожены огнем пожара.
Хотя мы сидим со Славой рядом, но, из за сильного шума, друг друга не слышим. Чтобы привести в действие катапультное кресло нужно потянуть за две расположенные между ногами ручки. Слава тянет их, но безуспешно. Он показывает мне поднятые руки. Средства спасения не работают, потому как самолет обесточен. Совершенно исключительный случай!
Теперь для катапультирования необходимо сначала сбросить фонарь от механической системы и только потом тянуть ручки. Я показываю это Славе, сбрасывая свой фонарь аварийной ручкой. Но, по инструкции, при этом первым катапультируется тот, кто сбросил фонарь – то есть я.
Не хочу обременять читателя техническими подробностями, но делаю это, чтобы пояснить: покидать самолет командиру первым – тяжкая психологическая нагрузка. По законам и традициям, воспринятым еще из морского флота, командир покидает самолет последним. Но тут нужно было подавать пример.
Как только я повис на парашюте, сразу обожгла мысль: понял ли Слава мою подсказку? Сбросил ли фонарь и сумел ли катапультироваться?
Приземлился я на кукурузном поле, освободился от парашюта и вижу, идет навстречу Слава и улыбается. Наши объятия на том поле дорогого стоили. И тут опять в голову пришла тревожная мысль – где упал самолет? Мы находились над городом Воскресенск. Это большой жилой и промышленный массив.
Скоро прилетел спасательный вертолет, и мы узнали, что самолет упал на краю деревни, но никто не пострадал. Отпало еще одно мучительное беспокойство, но особой радости нет. Потерян опытный самолет, остановлена хорошо начавшаяся важная работа. Самолет разрушен настолько, что выяснить причину аварии, не имея более или менее вероятной гипотезы, будет практически невозможно. Мне нужно все подробно вспомнить.
Я хорошо видел процесс катапультирования, хотя это произошло за доли секунды. А что раньше? Осмотр кабины. Невозможность ответить на требования красных табло. Посмотрел ли я в зеркало? Да, посмотрел. А не видел ли я там что– то необычное? Стоп! Вспоминай! Под крылом – весовой макет полутонной бомбы. Ее тупая морда хорошо видна в зеркале. Кажется, я ее видел в несколько ином ракурсе, чем до аварийного события. Точно, я увидел ее как-то не так.
Срочно на Су-24 ставят зеркало, подвешивают бомбу, подключают наземную гидросистему, и я в кабине начинаю передвигать крыло, наблюдая как меняется вид на бомбу. Вот тут-то становится очевидным, что в момент аварийного события крыло находилось в положении 16 градусов вместо положенных 45!
Срочно собирается аварийная комиссия. Я докладываю, что левое крыло самопроизвольно ушло на меньшую стреловидность.
«Вы хотели сказать – на большую стреловидность», – говорит представитель фирмы. «Нет, – отвечаю я, – на меньшую».
«Но это же невозможно, чтобы крыло самопроизвольно двинулось против воздушного потока, преодолевая скоростной напор», – говорит конструктор.
Но тут встает представитель ЦАГИ: «Ничего невероятного в этом нет. Есть такие случаи нагружения крыла, когда вектор аэродинамических сил имеет составляющую против потока. Эффект усиливается, если на крыло действуют силы инерционные».
«Почему же нам это было не известно? Почему этот случай не предусмотрен в нормах прочности?» – спрашивают инженеры и конструкторы.
«А потому, что раньше крылья были неподвижными. Вы первые, кто создал самолет с изменяемой геометрией крыла». Недолгая полемика оканчивается решением: ОКБ совместно с ЦАГИ выполняет необходимые расчеты действующих на крыло нагрузок с учетом вновь выявленного фактора, КБ вносит изменения в конструкцию системы перекладки крыла и ее узлов крепления, обеспечив ее необходимым запасом прочности.
Всё это инженеры умеют делать хорошо, и за ними дело не встанет. А как оценить все произошедшее в целом? Мы со Славой оказались в труднейшей аварийной ситуации. В труднейших условиях происходилоспасение. Потерян самолет, но… Найдено и осмыслено новое аэродинамическое явление, и самолет будет избавлен от его опасных последствий. Другие летчики уже не окажутся в столь опасной ситуации. Значит, конечный результат вполне положительный. В этом есть и моя заслуга. В сумасшедшей аварийной ситуации я сделал важное наблюдение. От осознания всего этого меня охватывает чувство радостного удовлетворения.
На заключительном заседании аварийной комиссии зачитываются выводы и рекомендации: «Причиной аварии самолета явилось разрушение узла крепления системы поворота крыла, произошедшее…
И так далее. Комиссия отмечает правильные действия экипажа в условиях сложной аварийной ситуации». Далее говорится об устранении причин аварии и продолжении летных испытаний.
В кулуарах заседаний один «суховский» товарищ говорит мне, что они принимают свою долю ответственности за аварию, в которой оказались летчики, просят не держать на них зла и не утратить доверия к ним, и надеются на дальнейшую со мной работу. От таких слов я чувствую какую-то эйфорию. Мне хотелось сказать создателям самолета, что зла я на них не держу, что доверяю им, иначе как бы я мог садиться в самолет. Что я понимаю их работу, в которой невозможно исключить риск и опасность. На то и летные испытания. И я надеюсь на дальнейшую совместную работу и жду продолжения испытаний. Все это я хотел сказать, но сдержался и промолчал, опасаясь, что это может быть воспринято как сентиментальная болтливость. Только на комиссии сухо сказал, что готов к продолжению испытаний.

Виктор БЕЛЯЕВ
Многоцелевой истребитель SAAB JAS 39 «Грипен»
(Начало в №04/2009 г.)
Поставки истребителей «Грипен» для ВВС Швеции разбиты на три партии (Batch 1, 2, 3). По мере совершенствования авионики вновь строящиеся самолеты отличались составом оборудования и боевыми возможностями. Все истребители первой партии были оснащены трип– лексной цифровой ЭДСУ производства американской фирмы «Лир Астроникс», а в кабине использовалось информационно-управляющее поле Эрикссон ЕР-17. В его состав входили широкоугольный голографический индикатор на лобовом стекле (ИЛС) разработки американской фирмы «Хьюз» и три монохромных дисплея с экраном размерами 120 Ч 150 мм, работа которых обеспечивалась двумя процессорами Эрикссон РР1 и РР2. Фирма «Эрикссон» также разработала центральный компьютер SDS80, состоящий из нескольких компьютеров D80. Данный комплекс авионики соответствовал стандарту Mk.l, в котором использовалось программное обеспечение (ПО) в версии E l1.
В комплекс авионики Мк.2, примененный на самолетах второй партии, внесли некоторые изменения, в частности, поставщиком ЭДСУ стала фирма «Локхид Мартин», а за ПО (версия Е12) отвечала фирма SAAB. Второе изменение касалось ИЛС: вместо фирмы «Хьюз» его стала поставлять другая американская фирма «Кайзер Электронике».
Наконец, фирма «Эрикссон» применила новый процессор РР12, который размещается в одном корпусе, а не в двух, как это было для процессоров РР1 и РР2. Были применены усовершенствованные компьютеры D80E с увеличенными в 5 раз объемом памяти и в 10 раз быстродействием по сравнению с компьютерами D80. Перечисленные изменения позднее стали постепенно внедряться в комплекс авионики Mk.l и стали общими для модификаций самолетов JAS 39А и JAS 39В.
В дальнейшем самолеты «Грипен» второй партии стали получать более совершенный комплекс авионики Мк.З (ПО по версии Е12.5). Его установили на заключительных 20 самолетах этой партии. Новый комплекс имеет полностью новый суперкомпьютер Эрикссон D96 (известный также под названием MACS), выполненный по модульному принципу. Он обладает еще большим объемом памяти и быстродействием за счет использования трех параллельно работающих процессоров «Пауэр РС» (226 МГц, жесткий диск 320 МГб) массой по 13.5 кг. В кабине экипажа вместо монохромных дисплеев установили цветные. На самолете используются шины передачи данных MIL-STD 1553В. На первых серийных самолетах было три шины, а затем их число увеличили до пяти. Эти шины предназначены для решения своих задач: управление самолетом, работа процессоров, работа системы целеуказания и датчиков, обеспечение связи и управление оружием. Все шины дублированы.
На всех самолетах третьей партии установлены комплексы авионики Мк.4, в состав которых входят новые крупноформатные жидкокристаллические многофункциональные дисплеи на активной матрице (размер экрана 160 х 210 мм) и цифровой блок памяти Эрикссон – SAAB DiRECT вместо аналогового 8-мм речевого самописца. В соответствии с планами шведских ВВС только самолеты «Грипен», оснащенные комплексом Мк.З, получат в будущем комплексы Мк.4, поскольку комплексы Mk.l и Мк.2 не обладают резервами для модернизации. Тем не менее в FMV рассчитывали все самолеты перевести на комплекс Мк.4, но средства на это не выделялись. Поэтому на вооружении будут два варианта истребителя «Грипен», отличающихся комплексами авионики и, как следствие, разными возможностями.
На самолетах третьей серийной партии устанавливается система РЭБ второго поколения HWS 39 (на самолетах первых двух партии применяется «переходный» вариант такой системы). Она разработана фирмами «Эрикссон» и «SAAB Авионике». Система способна находить и определять координаты источника излучения, а также его классифицировать. В дополнение к существующим средствам самообороны (датчики радиолокационного облучения, расположенные на концах крыла, модули системы РЭП, установленные в носовой части фюзеляжа и на киле, и средства отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек ВОР 403, находящиеся в корневых частях крыла) в состав системы HWS 39 входят два дополнительных контейнера ВОР 402 с дипольными отражателями и тепловыми ловушками (устанавливаются на подкрыльных пилонах), датчик предупреждения о лазерном облучении, система предупреждения о подлете УР и буксируемая радиолокационная мишень BOL 500.


Пушка «Маузер» ВК27
Контейнер с мишенью BOL 500 размещается на пилоне под правой консолью крыла. Система HWS 39 обеспечит самолетам JAS 39C/D самооборону в полном объеме, а также позволит их использовать в качестве самолетов РЭБ при сопровождении ударных авиационных групп.
Истребители JAS 39C/D «Грипен» третьей партии полностью соответствуют стандартам НАТО, что дает возможность принимать им участие в совместных боевых операциях. Самолеты оборудованы новой системой опознавания, а летчики получили очки ночного видения. Имеются планы дальнейшего совершенствования самолета. Например, предлагается использование пассивной системы поиска и слежения IR-OTIS (разработанной фирмой «SAAB Дайнэмикс» и напоминающей теплопеленгатор в шарообразном обтекателе, установленный на российских истребителях перед фонарем кабины экипажа), нашлемного прицела– целеуказателя и бортовой РЛС с АФАР.
Вооружение
Вскоре после начала летных испытаний начались полеты истребителя «Грипен» с различным вооружением, но без сбросов с подвесок. Разнообразные комбинации ракетного и бомбового вооружения позволили определить их влияние на летные характеристики самолета, управляемость и флаттер, а также полнее выявить нагрузки на планер. Полномасштабные испытания вооружения начались в 1991 г. В настоящее время истребители «Грипен», находящиеся на вооружении шведских ВВС и поставляемые на экспорт, могут нести на восьми узлах подвески различное оружие класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность».
В состав вооружения одноместного истребителя JAS 39А (или JAS 39С) входит встроенная одноствольная 27-мм пушка Маузер ВК27 с боезапасом 120 снарядов. Пушка расположена с левой стороны в нижней части фюзеляжа. Фирма SAAB разработала для пушки оригинальную автоматическую систему прицеливания, совмещенную с РЛС и автопилотом. Подобная система хорошо зарекомендовала себя на истребителе JA 37 «Вигген». Автоматический прицел следит за целью и вычисляет дальность и угол упреждения. Как только летчик начинает стрельбу, бортовая РЛС отслеживает траекторию снарядов, а автопилот удерживает самолет в нужном положении. Система обладает высокой надежностью и точностью, позволяет вести огонь на больших дистанциях, днем и ночью, а также в плохую погоду.
Пушка ВК27 имеет массу 100 кг, ее длина – 2310 мм. Масса снаряда 260 г. Начальная скорость снаряда 1025 м/с, скорострельность 1700 выстр./мин, масса секундного залпа – 28 кг.
Как отмечалось ранее, истребители «Грипен» сначала стали заменять самолеты AJ 37 и AJS 37, являющимися ударными вариантами истребителя «Вигген». Для поражения наземных целей использовались телеуправляемые УР класса «воздух – поверхность» Хьюз AGM-65A/B «Мейврик», имеющие в шведских ВВС обозначение Rb75 («Rb» – от слова robot). Ракета AGM-65B отличалась наличием режима увеличения изображения цели, что позволяло захватывать цель на расстоянии в два раза большем, чем это делала ракета AGM-65A. Дальность полета ракеты 3 км, но представители ВВС Швеции утверждают, что эффективная дальность пуска против цели типа «танк» достигает почти 6 км.
На четырех подкрыльных и двух подфюзеляжных узлах подвески самолет может нести шесть блоков со 135-мм реактивными снарядами Бофорс М70 (общая масса 364 кг). С 1997 г. в состав вооружения входят планирующие кассетные боеприпасы ВК90 (DWS39 «Мьёлнер»). Боеприпас ВК90 представляет собой разработанный в Швеции вариант немецкого кассетного боеприпаса DASA DWS24, предназначенного для поражения небронированных целей, находящихся на открытой местности. Боеприпас имеет массу 650 кг и имеет 24 суббоеприпаса, выстреливаемых в боковом направлении. Типичными суббоеприпасами являются мини-бомбы МЛ калибром 4 кг, которые подрываются на небольшой высоте и поражают незащищенные цели или мини-бомбы MJ2 калибром 18 кг, способные поражать бронетанковую технику. Кассетный боеприпас ВК90 в зависимости от скорости, высоты и траектории полета самолета-носителя имеет дальность полета от 5 до 10 км. Он имеет собственную инерциальную навигационную систему, радиолокационный высотомер и бортовой компьютер. Для коррекции траектории служат четыре руля в хвостовой части корпуса.

Ракеты AIM-9L «Сайдуиндер», AGM-65B Мейврик"

Противокорабельная ракета Rb 15 в авиационном варианте

Испытание ракеты AIM-120 с борта «Грипена»
Против надводных целей используется дозвуковая противокорабельная ракета SAAB Дайнэмикс Rbsl5F, разработанная на основе ракеты Rbsl5M, находившейся на вооружении быстроходных патрульных катеров. Ракета имеет стартовую массу около 800 кг, включая бронебойную боевую часть массой 200 кг. Она оснащена малогабаритным французским ТРДД Микротурбо TRI-60-3. Дальность полета ракеты около 200 км. ПКР Rbsl5F относится к классу высокоточного оружия, она обладает высокой маневренностью, поскольку создавалась специально для использования во фьордах и среди мелких островов (шхер) у побережья Швеции. После пуска ПКР совершает полет вблизи водной поверхности, используя инерциальную навигационную систему управления для коррекции траектории. На заключительном участке полета включается радиолокационная система наведения.
При атаке, выполняемой группой из четырех самолетов, ведущий с помощью своей РЛС определяет цели и по каналам передачи данных сообщает ведомым координаты выбранных целей. После этого экипажи ведомых самолетов могут независимо друг от друга атаковать ракетами Rbs 15F указанные цели.
Сначала для поражения воздушных целей самолет «Грипен» мог нести УР малой дальности Рейтеон AIM-9L «Сайдуиндер» (Rb74) с тепловой головкой самонаведения, а в середине 1999 г. на вооружение была принята УР средней дальности AMRAAM AIM-120, имеющая в шведских ВВС обозначение Rb99. Следует отметить, что истребитель с самого начала разработки рассматривался как носитель ракет AIM-120; соответствующие соглашения были подписаны между правительствами США и Швеции. Бортовая РЛС Эрикссон PS-05/A проектировалась под использование этих ракет, оснащенных активной радиолокационной системой наведения.
Самолет «Грипен» может нести четыре УР AIM-120 и одновременно атаковать четыре цели. При этом РЛС способна сопровождать еще 10 целей. В будущем самолет сможет нести еще две ракеты AIM-120 на спаренном подфюзеляжном пилоне. Принятие на вооружение ракет AMRAAM заставило разработчиков вместо ПО версии Е15 установить усовершенствованную версию Е15.1.
Перечисленное выше вооружение позволяет истребителю выполнять широкий круг задач. Тем не менее, руководство ВВС старается расширить номенклатуру вооружения. В частности, планируется приобретение КАБ с лазерным наведением GBU-10/12 «Пейвуэй». Для этого справа на нижней поверхности фюзеляжа будет размещаться подвесной контейнер с тепловой прицельно-навигационной системой LITENING, разработанной фирмами «Рафаэл» (Израиль) и «Цейсс Оптроник» (Германия). Эта система способна работать совместно с тепло– пеленгатором FLIR и лазерной системой наведения, которые обычно устанавливаются на КАБ семейства «Пейвуэй».

Ракета AIM-120С под крылом чешского «Грипена»

Ракета «воздух-воздух» IRIS-T, скомплексованная с нашлемной системой целеуказания
Шведские ВВС также планируют приобрести тактическую авиационную крылатые ракеты Таурус KEPD-150 и KEPD-350, созданные совместно немецкими и шведскими конструкторами. Ракета KEPD-150 имеет стартовую массу 1060 кг и обладает дальностью полета 150 км, а ракета KEPD-350, имеющая стартовую массу 1400 кг, оснащена БЧ массой 500 кг. Длина КР 5.1 м, после старта с самолета-носителя раскрывается крыло размахом 2.06 м. Силовая установка ракет KEPD-150/350 состоит из небольшого ТРДД Уильяме Р8300-15. Управление КР осуществляется с помощью инерциально-спутниковой навигационной системы GPS/INS, системы TERNAV, обеспечивающей полет в режиме следования рельефу местности, и тепловизионной системы наведения на конечном участке траектории. Дальность полета КР около 500 км; она обладает дозвуковой скоростью (число М = 0.8 – 0.95) и способна совершать полнеет на высоте 30 – 40 м.
КР KEPD-350 предназначалась для истребителей Панавиа «Торнадо» и Еврофайтер EF2000 «Тайфун», в то время как более легкая ракета KEPD-150 – для самолета «Грипен». В дальнейшем оказалось, что массо-габаритные характеристики ракеты KEPD-350 позволяют ее использовать и на шведском истребителе. В ноябре 2003 г. был выполнен первый полет серийного истребителя JAS 39С с двумя ракетами KEPD-350.
Для замены в будущем УР AIM-9L (Rb74) предназначена ракета нового поколения IRIS-T (Rb98), созданная группой европейских стран (Германия, Швеция, Испания, Норвегия, Италия и Греция) при участии фирм из Канады. Руководила разработкой немецкая фирма BGT. Ракета IRIS-T оснащена тепловизионной системой наведения, а для повышения маневренности служат небольшие крылья и система управления вектором тяги твердотопливного ракетного двигателя. Дальность полета УР почти 12 км. На ракете возможно применение БЧ от ракеты AIM-9L. По словам разработчиков, УР IRIS-T способна применяться против крылатых ракет. При необходимости для управления ракетой летчик может использовать нашлемный прицел-целеуказатель. Первый пуск ракеты состоялся в ноябре 2006 г.
В будущем на вооружение истребителя станет поступать УР класса «воздух – воздух» средней дальности «Метеор», создаваемая европейским консорциумом MBDA. Эта ракета, относящаяся к новому поколению, способна преодолевать плотный барьер радиоэлектронных помех; по своим характеристикам она существенно превосходит ракеты семейства AMRAAM. Ракета «Метеор» имеет маршевый ПВРД и активную радиолокационную систему наведения. После пуска информация о цели поступает на борт ракеты с самолета-носителя или от других самолетов, например, с другого самолета «Грипен», самолетов ДРЛОиУ Боинг Е-3 AWACS или SAAB «Эриай», что позволяет самолету, пустившему ракету, сразу выйти из боя.
В середине декабря 2005 г. впервые был выполнен полет самолета «Грипен» с УР «Метеор». Пуск ракеты не выполнялся, но впервые были отработаны все необходимые предстартовые процедуры, проверялась работа ПО и бортовых систем, связанных с ракетой. В начале мая 2006 г. на полигоне «Видсел» состоялся первый пуск ракеты с борта самолета «Грипен».
На двух пилонах под крылом и на одном подфюзеляжном пилоне могут подвешиваться три ПТБ емкостью по 530 л или один ПТБ емкостью 1275 л (только под фюзеляжем).
Вооружение Количество
Пушка Маузер ВК27 (калибр 27 мм) 1
(боезапас 120 снарядов)
УР класса воздух – воздух AIM-9L (Rb74) 6
УР класса воздух – воздух IRIS-T (Rb98) 6
УР класса воздух – воздух AIM-120 (Rb99) 4
УР класса воздух – воздух «Метеор» 4
УР класса воздух – воздух «R-Дартер» 4
УР класса воздух – поверхность AGM-65 «Мейврик» (Rb75) 4
Тактическая крылатая ракета Таурус KEPD-150 2
Тактическая крылатая ракета Таурус KEPD-350 2
Противокорабельная ракета SAAB Rbsl5F (масса 600 кг) 2
Кассетная планирующая бомба ВК90 (масса 600 кг) 2
Блок с шестью PC М70 калибром 135 мм (масса 364 кг) 4
КАБ с лазерным наведением GBU-10/12 4
Бомба Мк.82 8
ПТБ емкостью 530 л 3
ПТБ емкостью 1275 л 1

Представление «Грипена» DEMO нового поколения. Под крылом – ракеты «Метеор», под фюзеляжем – управляемые бомбы «Пейвуэй»

Использование ПГО в качестве воздушного тормоза при посадке
ВВС Швеции недавно рассмотрели возможность использования самолета «Грипен» для уничтожения РЛС противника, предназначенных для управления стрельбой зенитных ракетных комплексов. Такую роль, скорее всего, будет выполнять двухместный самолет JAS 39D.
Командование ВВС также хотело бы иметь разведывательный вариант, тем более, что разведывательные самолеты AJS F37 и AJS Н37 «Вигген» сняты с вооружения. Фирмами «SAAB Тек», «Терма» и «Аэротек Телуб» разработан подвесной разведывательный контейнер с тактической разведывательной системой SPK 39, в состав которой входят оп– тоэлектронный датчик CA-270V и система цифровой записи получаемых изображений (вместо традиционных телекамер). Летные испытания системы SPK 39 начались в конце марта 2005 г. на двухместном истребителе JAS 39В. На вооружение ее стали принимать в 2007 г. Намечается приобрести девять контейнеров, которые изготавливаются фирмой «Терма».