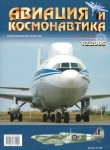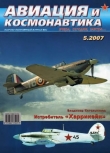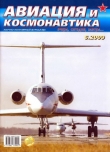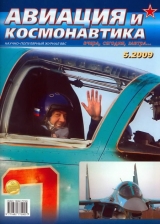
Текст книги "Авиация и космонавтика 2009 05"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
«Образцовый» (головной серийный) МР-1 был собран на таганрогском заводе ГАЗ-10 в конце сентября 1927 г. На серийных машинах монтировали дополнительный радиатор под носовой частью фюзеляжа, первоначально разработанный для Р-4. Площадь вертикального оперения увеличили, подкрыльные дуги убрали, заменив кольцами для швартовки. Таганрогские поплавки получились легче московских: 195 кг против 210 кг. «Виккерс» на самолете отсутствовал. Первый полет состоялся 12 октября. Согласно отчету, «общее выполнение гидросамолета и поплавков удовлетворительное». Но при этом определили, что из-за плохой подгонки один поплавок стоит на 10 мм выше другого.
В ходе испытаний выяснилось, что данные головной машины примерно соответствуют опытному образцу, построенному в Москве. Скорость была та же, скороподъемность немного улучшилась, а вот потолок уменьшился до 3680 м.
Опробовавший этот самолет начальник ВВС Черного моря Бергст– рем написал: «Самолет МР-1 – культурный самолет… в воздухе пилотируется легко, гораздо лучше, чем самолет Савойя, на действия летчика – чуткий, а рулежка тяжела». Действительно, поведение МР-1 на воде оставляло желать много лучшего. При ветре более 6 м/с и волне 0,5 – 0,6 м самолет плохо управлялся на воде. Деревянный винт на рулении намокал от брызг. Металлические детали быстро ржавели. Уже при волне в 0,5-0,7 м посадка сопровождалась «барсами» (скачками) высотой до 3 м. Поплавки постепенно наполнялись водой через плохо подогнанные лючки горловин. Получалось, что самолет немореходен и более пригоден для рек и озер. Но там не всегда можно было найти прямую дистанцию в 0,8 – 1,3 км, необходимую для взлета МР-1.
Общий вывод по испытаниям был таков: «Эксплоатация самолетов МР1-М5 возможна только в условиях речного гидроаэродрома, хорошо тренированным летсоставом».
Примерно те же результаты получили во время пробной эксплуатации первых серийных МР-1 в 53-м оао, 60-й оаэ и Школе морских летчиков. Самый благоприятный отзыв прислали из 53-го оао, а самый отрицательный – из школы; там сочли, что в пилотировании МР-1 слишком строг и для обучения молодых летчиков не годится.

Плавучий кран достает из воды в бухте Нахимова затонувший MP-1 65-го авиаотряда. Летчик Ильин неудачно обходил на взлете эсминец и был опрокинут ветром, май 1929 г.

Разбитый MP-1 Школы морских летчиков, май 1929 г.
В результате УВВС сделало вывод: «Самолет МР-1 считать паллиативом и эксплуатацию его временной…».
Тем не менее, серийное производство МР-1 продолжили. Серии поплавковых машин входили в общий счет завода №31, поэтому первая из них именовалась 16-й, за ней последовала 17-я серия обычных Р-1 на колесах и затем две серии гидропланов – 18-я и 19-я. В серию входило по 10 гидропланов.
Машины 18-й серии имели нижние крылья сухопутного варианта, у которого фанерой обшивался только один пролет между нервюрами – у фюзеляжа. Жесткость такой бипланной коробки для гидроплана была недостаточной. Летчик Ремезюк написал в отчете об испытании одной из машин 18-й серии: «Крылья неестественно тряслись, а расчалки центроплана болтались, как веревки». Дальше было хуже. В заключении отчета указано: «…выявившиеся деформации самолета после 10 полетов настолько серьезны, что делают самолет опасным для полетов». Крылья надо было усиливать.
Это и сделали на самолетах 19-й серии, которая сдавалась в декабре 1928 г. На этих машинах усилили башмаки стоек крепления центроплана и стали крыть фанерой по два пролета нижнего крыла с каждой стороны. Кроме того, ввели сплошную шпаклевку фанерной обшивки фюзеляжа (ранее шпаклевали только шурупы), покрыли лаком все алюминиевые детали, ввели новый пристяжной ремень летчика и механический инерционный стартер со съемной заводной ручкой. Палуба поплавка теперь обшивалась не внахлест, а встык с перекрытием стыков медной лентой. Бомбовое вооружение складывалось из бомбодержателей Дер-7 под крылом и сбрасывателя СБР-8. На самолете стояли один пулемет ПВ-1 и два «Льюиса», причем к последним брали 10 дисков. Все это утяжелило машину на 20 кг, вес пустого самолета составил 1955 кг.
Однако и далее даже с усилением крыльев коробку на МР-1 приходилось регулировать заново гораздо чаще, чем на колесных машинах.
Производство МР-1 в Таганроге вели до конца 1929 г., выпустив в общей сложности 124 экземпляра.
Штурмовики
В 20-х годах активно разрабатывалась концепция «боевика» – специализированного самолета-штурмовика для действий на передовой и в ближнем тылу, предназначенного для уничтожения живой силы противника мощным пулеметным огнем. Подобную небронированную машину собирались сделать и на основе Р-1. Планом на 1926/27 г. предусматривалось создание для него «неподвижной батарейной установки». Позже пошли дальше – было предложено создать подвижную огневую установку, управляемую летнабом.
В начале 1927 г. ОСС приступил к проектированию более простого неподвижного варианта. С каждой стороны под нижними крыльями необходимо было разместить по одному пулемету «Максим А2» или «Максим ТЗ». Чтобы компенсировать вес установок, количество подкрыльных бомбодержателей уменьшили вдвое. Патроны для пулеметов на крыле решили разместить в барабанах. Но для того, чтобы уложить ленту с требуемым УВВС запасом в 500 патронов, нужен был барабан с диаметром не меньше 450 мм. Такие «бочки» существенно ухудшали аэродинамику самолета. Руководство ОСС обратилось к УВВС за разрешением ограничить боезапас 250 патронами на пулемет. Это позволило бы ужать барабаны до приемлемого диаметра 225 мм.
Подвижной вариант тоже предусматривал установку двух дополнительных пулеметов, но с возможностью отклонения вверх и вниз на 15°, вправо и влево на 45°. Управлять движением стволов должен был летнаб. Чем собирались поворачивать пулеметные установки – неизвестно; в те годы в нашей стране не было ни электромеханических, ни гидравлических турелей. По-видимому, разработку обоих вариантов «боевика» в ОСС прекратили в 1928 г.
Возможно, это было связано с появлением более удачной конструкции. В 1928 г. в 5-й авиабригаде в Киеве неподвижно установили на нижних крыльях Р-1 по одному пулемету с каждой стороны. Патронные ленты размещались в ящиках внутри крыла. Новое вооружение опробовали, в том числе стрельбой на полигоне. В 1929 г. на части самолетов бригады подобным способом установили дополнительные ПВ-1; вес пулеметных установок вынудил уменьшить для этих машин бомбовую нагрузку.

Такие фотографии помещали на «доски позора» летных школ: учлет (курсант) И. Плавинский у разбитого им учебного Р-1

Курсанты и инструкторы у учебного Р-1, аэродром Острая Могила, 1935 г.

Другим эффективным способом поражения пехоты и кавалерии считалось применение большого количества мелких осколочных бомб. Но подвеска их на Р-1 ограничивалась количеством замков на балках бомбодержателей; при переходе на боеприпасы малого калибра реальная бомбовая нагрузка резко уменьшалась, самолет не мог полностью использовать свою грузоподъемность. В 1926 г. на ГАЗ-1 разработали кассеты ДЕР-10, рассчитанные на 2-кг бомбы. Но на серийных Р-1 их не устанавливали.
Учебные Р-1
Долгое время существовала практика комплектации летных школ устаревшими и изношенными боевыми самолетами. Когда наладили производство Р-1, туда стали отправлять ставшие ненужными DH.9a. После недолгой эксплуатации в строевых частях в школы передали все Р-1 СП.
Позже к ним присоединились изношенные Р-1 первых серий, считавшиеся уже непригодными как боевые. Чем дальше, тем больше таких машин поступало в летные школы и другие учебные заведения. С них уже там снимали значительную часть вооружения и оборудования, иногда усиливали шасси.
С 1928 г. заводы выпускали вариант Р-1 специально для учебных целей. Так, в феврале того года на ГАЗ-1 сделали шесть машин без бомбового вооружения и с дополнительными расчалками шасси для Военно-воздушной академии. На учебных машинах никогда не ставили спаренные пулеметы на турели и подфюзеляжные бомбодержатели; радиостанции и фотоаппараты встречались только на машинах школ, готовивших летчиков-наблюдателей.
Учебные Р-1 встречались в различных летных школах до лета 1935 г.
(Окончание следует)

К 90-летию морской овиации России
Анатолий АРТЕМЬЕВ
Крылья над морем
Продолжение. Начало в №7-12/2006,1-4,7-12/2007, 1-8/2008 г.
Ступени прогрессивного развала
Начатая с горбачёвской «перестройкой» перетасовка вооружённых сил и её масштабы приобретали всё более бессмысленный и хаотический характер. Это мало напоминало научно обоснованное планирование, смахивая на ответную и не всегда продуманную, зачастую импульсивную реакцию, адекватную политическим метаниям очередных «вождей». При этом с мнением руководства ВМФ никто не считался. В сборнике Военно-научного общества при ЦДРА «Развитие Советского Военно-Морского флота в послевоенный период»; М.1996 г., вице-адмирал В.И. Зуб писал: «Начиная с 1986 г. корабельный состав нашего ВМФ уменьшился на 402 боевых корабля и 129 катеров. Только за 1990-1991 гг. из состава всех наших флотов исключено более 200 кораблей».
Наступили времена, когда средства на развитие береговой инфраструктуры, строительство и оборудование аэродромов, жилого и казарменного фонда, а также учебных баз и тренажёров постепенно сокращались, расходы на хранение и утилизацию военной техники не учитывались.
Служба из почётного долга стала превращаться в повинность, а в воинские части поступил циркуляр, которым офицерам предписывалось не выходить за пределы части в военной форме, поскольку за появление в ней могли и побить. Впоследствии, когда сроки носки обмундирования существенно увеличились, а выдача его стала производиться с существенными нарушениями, военную форму в большинстве штабов и управлений надевали только в служебное время.
Штаб авиации ВМФ не имел своего интеллектуального центра, который бы занимался прогнозированием перспектив развития и рациональным распределением выделяемых средств на приобретение техники, средств поиска и поражения и т.д. Так, например, в отделе боевой подготовки и оргмоботделе управления авиации ВМФ никто даже приближённо не мог сказать, сколько средств необходимо на содержание одного боеготового авиационного полка! В конечном итоге это приводило к неконтролируемому и нерациональному расходованию выделяемых средств, случалось, заказывались в промышленности устаревшие и несовершенные образцы техники и оружия из-за опасения потерять предприятия промышленности, лишиться квалифицированной рабочей силы, нередким было лоббирование своих изделий различными руководителями и представителями фирм.
В предложениях по "облику" морской авиации, периодически направляемых штабом авиации в Главный штаб ВМФ для последующего включения в программу вооружений, по– прежнему исходили из необходимости создания перспективных авиационных комплексов корабельного и берегового базирования, вооружения ударной авиации высокоточным оружием, модификации имеющейся техники, совершенствования организационно-штатной структуры, системы базирования и тылового обеспечения и т.п. Штаб авиации старался держаться в фарватере задач, решаемых флотами, и по возможности проводил свою линию в вопросах разработки вооружений. Это представлялось нелёгкой задачей, которая осложнялась рядом неопределённых факторов: амбицией руководителей; степенью объективности оценки научно-технического потенциала разработчиков, возможностями промышленности; размерами финансирования; расположения руководителей ВВС, ВМФ и т.п.
Предложения по составу вооружения, подготовленные в начале 90-х годов, составлялись в обстановке существенного сокращения финансирования. В связи с этим, отнюдь не по собственной инициативе, командованию авиацией ВМФ пришлось скорректировать планы перевооружения МРА на Ту-22МЗ и предусмотреть некоторое увеличение средств на корабельные штурмовики и противолодочные самолёты и вертолёты. Летательные аппараты вследствие усложнения оборудования и по ряду других причин становились всё более дорогими, как и их обслуживание. Разрабатываемые в соответствии с указаниями и обстановкой варианты развития морской авиации, даже на ближайшую перспективу, не претендовали на радикальные новшества, коренные изменения, а тем более повышение боевых возможностей. К примеру, каждый раз в этих предложениях в том или ином виде фигурировал самолёт– амфибия А-40, которому, судя по всему, не суждено занять место в строю сил морской авиации.

Бе-12, 1 апреля 1990 г.

Ту-16, поставленные в строй в 1991 г., успели впоследствии получить украинскую символику
Морская авиация стала получать передаваемые из ВВС самолёты с весьма ограниченными, если не сказать сомнительными боевыми качествами, поскольку большинство их могло применять оружие только по визуально видимым целям. Самолеты имели ограниченный радиус, а их боевые средства не рассчитывались на поражение крупных морских целей.
На боевые возможности МРА в немалой степени влияла низкая надёжность самолётов Ту-22М2, которые с завидным постоянством дорабатывались. В 1990 г. пришлось даже прекращать на них полёты, лётному составу возвращаться на Ту-16 и эксплуатировать их, пока не закончили очередной этап доработок. Хорошо ещё, что к тому времени не успели разломать все Ту-16.
Штаб авиации ВМФ в октябре 1990 г. получил из Главного штаба ВМФ указание. Из него следовало, что согласно договорённости (в этот период политику государства кроме Горбачева вершили "крупнейшие" специалисты в области международных отношений вроде Шеварднадзе и ему подобных) число ударных самолётов морской авиации наземного базирования для каждой страны Европы не должно превышать 400 единиц. Предлагалось также определиться с терминами "морская авиация наземного базирования" и "морские патрульные самолёты". По-видимому, уровень знаний крупнозвёздных специалистов Генерального штаба и Главного штаба ВМФ оказался недостаточным, чтобы разобраться со столь "основополагающими" понятиями.
Однако к этому времени собственный самолётный парк морской авиации Европейской части страны явно не "дотягивал" до оговоренного потолка численности, взятого с потолка и не отражавшего интересы нашего государства, что и инициировало дальнейшую передачу самолётов из ВВС в ВМФ.
Командование флотом и морской авиацией предпринимало значительные усилия, чтобы создать благоприятные условия для обучения лётного состава, отобранного в качестве кандидатов на корабельные истребители, как реальной возможности усиления авиации.
Штаб авиации ВМФ планировал, что к январю 1991 г. в боевом составе морской авиации будут находиться 45 авиационных полков и несколько эскадрилий, а количество ЛА составит 1388 самолётов и 542 вертолёта. Вопреки первоначальным планам к этому сроку в морской авиации оказалось 52 авиационных полка, 10 отдельных эскадрилий и групп со штатом из 1702 самолётов и 455 вертолётов.
При этом боевой состав на 40% состоял из самолётов-штурмовиков с ограниченным радиусом действия и боевыми возможностями. Было очевидно, что для решения задач на море в таком количестве самолётов с ограниченным радиусом действия и способностью применять оружие только по визуально видимым целям необходимости не ощущалось. Поступление в авиацию самолётов– штурмовиков объясняли особенностями обстановки на Балтийском и Черном морях, полагая, что для ВВС БФ и ЧФ в качестве ударной силы достаточно мшад.
Объективно самолёты-штурмовики способствовали превращению ВВС флотов в прибрежные силы, способные противодействовать только небольшим кораблям. Более того, в последующие два года в соответствии с указаниями Главного штаба ВМФ предполагалось приступить к дальнейшему сокращению частей МРА и ПЛА.
О корабельных штурмовиках старались вспоминать как можно реже, резервы совершенствования Як-38 практически исчерпались. Факты оказались таковы: только за пять лет (1985-1990) в катастрофах и авариях было потеряно 12 самолётов Як-38. Из 149 самолётов, которыми располагала авиация ВМФ, до 30-35 постоянно находились на доработках по самым различным причинам.
В 1991 г. продолжалась замена самолётов Ту-16 на Ту-22МЗ. Тем не менее количество ракетоносцев снижалось: в конце 1991 г. три мрап ВВС БФ были переформированы в два штурмовых.
Развал СССР и стремительные изменения "политических реалий", вывод наших войск из стран Восточной Европы и вновь образованных государств, привели к тому, что Вооружённые силы России впервые за свою историю начали ломать собственные стратегические планы, группировки и системы оборудования. Создавалось впечатление, что принятие оборонительной доктрины явилось специально спланированным прологом к развалу Объединения Варшавского договора и СССР, за которыми неизбежно должно последовать крушение вооружённых сил и бегство не очень-то надёжных союзников, вследствие закономерного в этих условиях экономического и политического краха и давления со стороны стран, впоследствии называемых дальним зарубежьем.
27 декабря 1991 г. Джорж Буш, выступив по американскому телевидению, заявил: "Советского Союза больше нет. Это победа нравственной силы наших ценностей. Каждый американец может гордиться этой победой – от миллионов мужчин и женщин, которые служили нашей стране в Вооружённых силах, до миллионов американцев, которые поддерживали свою страну и крепили оборону в период правления десяти президентов".
В том же, 1991 г., как бы случайно, состоялось решение совета НАТО о планах создания на Балтийском море постоянного оперативного соединения, которое в период возможного обострения обстановки будет использовать базы и порты государств Балтии.
В 1992 г. авиация ВМФ лишилась всех аэродромов на территории Белоруссии, четырех аэродромов в прибалтийских странах. На Украине потери оказались наиболее ощутимыми и болезненными: два центра боевого применения (в Николаеве и Саках, где находился комплекс "НИТКА"), восемь аэродромов, огромный современный авиаремонтный завод в Николаеве, одно из управлений ГЛИЦ МО в Феодосии, занимавшееся испытаниями авиационной морской техники и оружия. Украине отошли восемь объектов в управлении ВВС ЧФ, 158 единиц авиационной техники, до сотни ракет Х-22 и многое другое.
Последовали оскорбительные и унизительные в своей основе акции. Так, в апреле 1992 г. начальник Главного штаба ВМФ вынужден был поставить в известность маршала Шапошникова, что на ЧФ и в части 33-го центра поступают телефонные и телеграфные распоряжения главного штаба украинских вооружённых сил, командующего ВВС с требованиями выполнять их указания. Так, за подписью начальника генерального штаба вооружённых сил Украины Живицы поступило указание до 6 апреля вывести за штат генералов и офицеров, не принявших присягу на верность народу Украины, и назначить вместо них командный и начальствующий состав, способный навести воинский порядок (ни больше ни меньше!). Поступали также бесчисленные указания, направленные на дезорганизацию управления и деморализацию личного состава, создание пятой колонны. И эта политика принесла свои результаты: под начало Украины перешли многие офицеры и служащие 33-го центра.
Их можно осуждать за предательство, что они наплевали на завет Петра Великого "Присягнувший и вставший под стяг Отечества переменить этого не в праве", но в какой-то степени можно и оправдать. Они прекрасно знали, что их ожидает, если они поступят иначе. Во всяком случае, иллюзий, что Россия их защитит и позаботится о будущем, никто не питал. В частях, оставшихся на территории России, тоже росло количество бесквартирных офицеров. Последующие события показали, что большинство офицеров и прапорщиков, продолжающих нести службу в частях, дислоцировавшихся согласно договорённости на территории, переданной Украине, втихую приняли её подданство, не желая расставаться с квартирами и благоустроенными гарнизонами на территории Крыма, а особенно в городе русской славы – Севастополе.
Налёт морской авиации в 1992 г. в сравнении с предшествующим, далеко не лучшим годом в истории нашей страны и её Вооружённых сил, сократился в два раза. И это было только начало.
Через два года налёт, планируемый на лётчика, с 60-70 ч пришлось уменьшить более чем наполовину, в связи с чем представляется возможность провести некоторые аналогии. Так, принятым в 1930 г. наставлением по боевому применению морской авиации (а в те годы требования руководящих документов преимущественно выполнялись) предусматривался годовой налёт на лётчика торпедоносной авиации 190 ч, истребительной – 210 ч. В комментариях необходимости нет. Нелишне напомнить: летающие гробы того периода, именовавшиеся самолётами, автопилотов не имели, и лётчики в продуваемых свежим ветерком кабинах мозолями отрабатывали свой нелёгкий хлеб, а при низких температурах ещё и рисковали получить обморожение. О том, в каких условиях работал инженерно-технический состав, и говорить не приходится. В частности техники самолётов отмечали, что самолёты с жидкостным охлаждением в зимний период эксплуатировать проще, так как для согревания "организма", например на самолётах Р-5, наливался стакан спиртовой смеси из радиатора, колбаса приносилась из дома, а потому проблем не было.
Органы управления авиации ВМФ в сентябре 1992 г. переименовали в управление командующего авиацией ВМФ.
Оказавшуюся ненужной 145-ю оплаэ ВВС БФ в октябре 1992 г расформировали, самолёты Ил-38 передали в эскадрилью ВВС ТОФ на Камчатке.
Но происходило и частичное обновление: первые 5 Ту-22МЗ, которые должны были войти в состав ВВС СФ в начале марта, произвели посадку на аэродроме Лахта. Уже 23 марта экипажи произвели пуск двух ракет.
В связи с существенным устареванием ракетоносцев и слабыми перспективами пополнение их парка из промышленности, у командования морской авиации в 1993 г. (уже в который раз!) появилось вполне обоснованное и продиктованное заботой о будущем желание приватизировать самолёты Ту-22МЗ дальней авиации. Но за год до этого ДА потеряла на аэродромах Украины 42 дальних бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС (впоследствии часть самолетов после их подробного изучения американскими специалистами удалось уговорить возвратить законным владельцам в счёт компенсации за газ и запасные части к самолётам украинских ВВС), так что передача флоту Ту-22МЗ поставила бы дальнюю авиацию на грань катастрофы. Командование ВВС на это не могло пойти и всеми силами не только препятствовало ослаблению дальней авиации, но и в свою очередь предпринимало неоднократные попытки "прихватить" самолёты Ту-22МЗ у морской авиации. Это было близко к реальности, так как Главный штаб ВМФ, судя по всему, не очень в них нуждался. Только так можно расценивать заявление очередного флотоводца – главкома ВМФ Громова. В статье "Флот России вчера, сегодня, завтра" ("Морской сборник" №1 / 1993 г.) он без обиняков заявил: "Морская авиация остаётся одним из главных родов сил ВМФ. Однако её боевой состав сократится примерно на 40%".
Передвижки, как осмысленные, так и не очень, продолжались, и конца им, судя по всему, не предвиделось. Произошло лишь некоторое усиление разведывательной и штурмовой авиации на Тихоокеанском флоте.
К концу 1993 г. в ВВС СФ, полк, что летал на самолётах Ту-95РЦ, переформировали в эскадрилью. Такая же участь постигла к концу года 24-й оплап дд, вооружённый самолётами Ил-38, который был гордостью морской авиации и внёс достойный вклад в её послевоенное развитие. Лётный состав этого полка побывал в различных районах мирового океана. Им разработаны и практически проверены новые эффективные приёмы решения противолодочных задач. Теперь полк сократили до эскадрильи, включённой в состав отдельного Киркенесского краснознамённого авиационного полка. Прекратил существование и 77-й оплап дд ВВС ТОФ на самолётах Ил-38. От него также оставили одну эскадрилью, которая вошла в 289-й осап (ранее вооружённый самолётами Бе-12).
С полным основанием 1994 г. можно рассматривать как разгромный.
К началу 1995 г. в морской авиации оставались всего две авиационные дивизии двухполкового состава, 23 отдельных авиационных полка, восемь отдельных эскадрилий, авиагруппа экранопланов и два учебных центра.

Авария Бе-12 на Курильских островах
Морская ракетоносная авиация в 1995 г. состояла из 82 Ту-22МЗ (исправных 52) и 63 Ту-22М2 (исправных 24), всего 145 самолётов. Для ввода в строй неисправных самолётов Ту-22 требовались 46 двигателей и значительное количество другого оборудования.
Столь же неутешительным к этому времени оказалось состояние противолодочной авиации: из 67 Ту-142 исправными были 19; из 45 Ил-38 только 20 (отсутствовали винты и двигатели); из 95 Ка-27 неисправны 20. С вертолётами Ка-25 и Ми-14 положение вообще посчитали катастрофическим, из 128 неисправными были 68, причем их решили больше не ремонтировать.
Практически невозможно рассчитывать на высокую эффективность боевой подготовки и повышение квалификации лётного состава в условиях, когда на всю морскую авиацию к ноябрю 1995 г. поступило лишь 38 % топлива от и так нищенского лимита. Как следствие 53 % лётчиков строевых частей довольствовались налётом от одного до десяти часов. О "направленности" боевой подготовки свидетельствовала пикантная мелочь: почти 50 % налёта приходилось на транспортные части и подразделения, которые занимались преимущественно коммерческими перевозками.
Несмотря на столь неблагоприятные условия, предпринимались попытки удержаться на плаву и сохранить хоть какую-то часть подготовленной авиации. Об этом свидетельствуют некоторые итоги 1995 г. Четыре пуска ракет Х-22, завершившихся попаданием, выполнены экипажами самолётов Ту-22МЗ ВВС СФ; впервые за пять лет 689-й иап ВВС БФ, вооруженный самолётами Су-27, произвёл 22 пуска ракет класса "воздух-воздух", а экипажи 4-го шап того же флота на Су-24 в соревнованиях на приз главкома ВМФ выполнили бомбометание лазерными корректируемыми авиационными бомбами. Однако план бомбометания обычными бомбами ВВС флотов из-за нехватки топлива дружно завалили, о чём свидетельствовали примерно 600 бомбометаний вместо планировавшихся трех тысяч.
Но и в этом году морская авиация опять понесла существенные потери: были расформированы несколько полков и разведывательные эскадрильи ВВС ТОФ и ВВС СФ. Количество J1A уменьшилось на 260 единиц, численность сократилась ещё на 11 500 чел. Во второй раз морская авиация лишилась части штурмовой авиации берегового базирования и в первый раз за всю историю существования – разведывательной авиации.
Вместе с сокращениями набирал обороты процесс уничтожения ЛА, что также было связано со значительными расходами. Расходов можно было избежать, а возможно, даже получить прибыль, если бы разборку ЛА производили по-умному, сохраняя множество деталей и изделий с последующей их реализацией через торговую сеть. Ничего в этом направлении сделано не было, более того над этим всерьёз никто и не задумывался. Уничтожались даже уникальные тренажёры, как пилотажные, так и стрелковые, которые вполне могли окупить себя, будучи установлеными в местах массового отдыха. В течение 1995 г. предполагалось ликвидировать 218 самолётов (81 Ту-16, 67 Су-17, 70 МиГ-23). План с успехом перевыполнили, и по состоянию на 15 декабря 1995 г. "удалось" уничтожить 242 самолёта. Кроме авиационной техники и крылатых ракет в 1995 г. было утилизировано 110 вагонов так называемых некондиционных средств поражения (в основном фугасных и зажигательных бомб), из них 103 вагона – методом подрыва и сжигания на местах.
Колесо уничтожения авиационной техники продолжало раскручиваться и в 1996 г. Тогда предполагалось разделать ещё 113 Л А (28 Ту-16, 14 Ту-95, 32 Як-38, 2 Бе-12, 35 Ка– 25, 2 Ми-6), утилизировать около 400 авиационных крылатых ракет К-10, КСР-5, Х-22. В итоге различного рода преобразований и перетрясок численность морской авиации сократилась более чем на 34 тыс. человек, снизившись на 43 % от численности 1992 г.
К середине 1996 г. боевой состав авиации ВМФ насчитывал 695 ЛА, в том числе 3 Ту-22М2 , 63 Ту-22МЗ, 116 противолодочных самолётов, 118 истребителей, штурмовиков и самолётов другого типа. После изгнания ракетоносцев из Крыма там оставался запас ракет Х-22, которые в соответствии с нормами запасов были далеко не лишними. После переговоров с украинской стороной удалось достигнуть соглашения о их вывозе с подвеской их под самолёты. На четыре самолёта Ту-22МЗ подвешивали по три ракеты, на два самолёта – по две. Нагрузка была значительной, и если проблема взлёта не особенно беспокоила, то имелись опасения в связи со сложностью посадки. В конце концов, после посадки на промежуточном аэродроме Кипелово 6 Ту-22МЗ ВВС СФ доставили ракеты на аэродром базирования Североморск-1.
На начало 1997 г. морской авиации полагалось по штату 619 ЛА и 716 экипажей. Исправность парка ЛА снизилась до 35% . Впрочем, не все ЛА морской авиации кончали бесславно свой век под ударами кувалд. Так, в феврале 1997 г. в авиацию внутренних войск МВД России передали 13 Ка-29, в которых авиация ВМФ особой нужды не испытывала.
Несмотря на неоднократные, повседневные призывы к сокращению лётных происшествий, они имели место быть, а прогнозирование их, как только не старались, не поддавалось науке, хотя заверений в обратном хватало с избытком. Итоги лётной деятельности не давали основания для оптимизма.
В 1989 г. в морской авиации зафиксировано 10 лётных происшествий, три из которых завершились катастрофами. Следующий год оказался не лучшим и принёс три катастрофы и две аварии (все в ВВС ЧФ). С тем чтобы не перекладывать ответственность за аварийность на недоработку техники, приняли, что лётные происшествия свидетельствуют в первую очередь о низком уровне профессионализма лётного и руководящего состава.
В последующие годы обстановка с выполнением планов боевой подготовки, а следовательно поддержанием высокой боевой готовности ничуть не улучшилась, поставки топлива продолжали сокращаться.

Ка-29 после передачи в авиацию внутренних войск МВД
Вполне естественно, что с распадом страны возникли проблемы с ремонтом авиационной техники и поставкой запасных частей. Предельно обострилась и нарушилась (а точнее рухнула) система гарантийного обслуживания.
Потеря 33-го центра в Николаеве и 1063-го цбп в Саках, как и следовало ожидать, оказалась весьма ощутимой, а по большому счёту, невосполнимой потерей для морской авиации. Пришлось искать выход из положения. Для начала организовали теоретическое переучивание личного состава на базе существующих центров ВВС, а практическое – в строевых частях, что также вносило определённые затруднения в их повседневную деятельность. Инженерно-технический состав предполагалось обучать на базе учебных отрядов флотов. В соответствии с директивой командующего авиацией ВМФ от 1 сентября 1994 г. был определён статус нового центра боевой подготовки авиации ВМФ на аэродроме Остров (Псковская область), и началось его формирование. В состав центра вошли: учебный отдел, центральные офицерские курсы и отдельный смешанный авиационный (исследовательско – инструкторский) полк из двух эскадрилий. В марте первые Ту-22МЗ, направленные на формирование этого полка произвели посадку на аэродроме Остров. Центр должен был продолжить традиции своего предшественника – 33– го центра боевого применения и переучивания лётного состава авиации ВМФ им. Е.Н. Преображенского, за 32 года подготовившего тысячи специалистов. Говорят, традиции связаны также и с местом базирования, но этого не было.