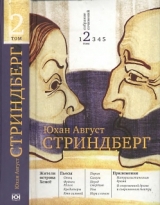
Текст книги "Жители острова Хемсё"
Автор книги: Август Юхан Стриндберг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Карлсон в душе начал успокаиваться; ему пришла мысль, что быть представителем мызы не лишено преимуществ, но он еще был слишком заинтересован, чтобы променять свой пыл на что-то еще неизвестное; ему хотелось прежде чем соглашаться на эту сделку, получить на чаек.
– Таким, как я здесь хожу, я туда ехать не могу, а хорошего платья у меня нет,– сказал он, забросив таким образом удочку.
– Платье совсем не так плохо,– заявила старуха,– а если дальше ничто не помешает, то уж мы дело обсудим.
Двигаться дальше в этом направлении Карлсону не хотелось; он предпочел променять неопределенное обещание на определенное. После различных возражений старухи ему также удалось добиться того, что Норман как человек, необходимый для того, чтобы точить косы, и для исправления сенных весов, останется дома, тогда как Иду в Даларё повезет Лотта.
* * *
Было три часа утра в самом начале июля. Уже из дымовой трубы клубится дым, и кофейник стоит на огне. Все в доме в движении. Снаружи на дворе накрыт длинный стол.
Косцы прибыли накануне к вечеру и провели ночь на сеновале и в сарае. Двенадцать прибывших из шхер, вооруженных косами и точильными камнями, в белых рубашках под жилетами и соломенных шляпах, расположились группами перед стугой.
Вот старик из Овассы и старик из Свиннокера, сгорбившиеся от постоянной гребли; вот старик из Аспо с длинной геройской бородой, выше других на целую голову, с глубоким и грустным выражением глаз от вечного одиночества среди открытого моря и от несказанного, безропотно перенесенного горя; вот житель Фиаллонгера – угловатый и полуискривленный, как морская сосна, растущая там на последней шхере; вот этот – из Фиверсатра, худой, выветренный, сухой, как кофейное зерно; вот судостроители по ремеслу из Кварноера; вот первые охотники на тюленей из Лонгвикскара; а вот поселянин из Арно, с сыном.
Вокруг них и между ними движутся девушки, с выпущенными рукавами рубах, со связанными на груди платками, в светлых бумажных платьях и с платками на голове. Они сами принесли с собой заново выкрашенные во все цвета радуги грабли.
Кажется, что они собрались для праздника, но не для работы. Старые щелкали их пальцами по талии и обращались к ним с задушевными словами. Но парни пока ранним утром держались в стороне; они ожидали вечера с его сумерками, с танцами и музыкой, чтобы начать свои любовные заигрывания.
Солнце уже с четверть часа как взошло, но еще поднялось недостаточно высоко над верхушками сосен, чтобы осушить росу на траве. Бухта сияла, как зеркало, окруженная теперь светло-зеленым камышом; среди гоготанья старых уток раздавался писк недавно вылупившихся утят; там, в стае уклеек, вылавливали себе рыбок чайки, как бы плывущие на парусах, большие, ширококрылые, снежно-белые, как гипсовые ангелы на церкви, в дуплах дубов проснулись сороки и заболтали и загалдели о большом количестве белых рукавов рубашек, которые они увидели возле дома; в кустарнике закуковала кукушка, так страстно и неистово, как будто при появлении первого стога сена настанет конец времени сватовства; внизу, на ржаном поле, стрекотала и трещала луговая трещотка, а наверху, на горе, прыгала собака и приветствовала старых знакомых.
Белые рукава рубах и белые кофточки сияли при свете солнца, застилали собой кофейный стол, на котором звенели чашки и блюда, стаканы и кружки. Началось угощение.
Обыкновенно робкий, Густав теперь исполнял обязанности хозяина; чувствуя известную уверенность среди старинных друзей отца, он оставил Карлсона в тени и сам распоряжался водочной бутылью.
Но Карлсон, который завязал со всеми знакомство во время пригласительной поездки, держал себя как дома, как старший домочадец или гость, и за ним ухаживали.
Так как он был старше Густава лет на десять и отличался мужественным видом, то одерживал над ним верх, тем более что Густав не мог быть иным как «малым» в глазах тех, которые еще были на «ты» с его отцом.
Кофе был выпит; солнце поднялось; ветераны двинулись вниз к большому лугу с косами на плечах; парни и девушки пошли за ними вслед.
Густая, как мех, трава поднималась до бедер мужчин. Карлсону приходилось давать объяснения по поводу нового способа луговодства; он рассказывал о том, как он убрал прошлогоднюю сухую листву и траву, как он сровнял кротовины, как засеял вымерзшие плешины и как поливал луг навозной жижей.
Затем он, как военачальник, распределил свой полк; предоставил старикам и людям более почтенным почетные места, а сам занял последнее место – следовательно, не затерялся в толпе.
Итак, начался бой. Две дюжины косцов с белыми рукавами рубах, напоминающих лебяжий перелет, следовали по пятам один за другим, а за ними в расстроенном порядке, как стая морских ласточек, капризно порхающих в разные стороны, но все же державшихся одной кучкой, шли с граблями девушки, каждая за своим косцом.
Косы звенели, и мокрая от росы трава падала валиками, по обеим сторонам косцов лежали все летние цветы, занесенные сюда из леса и из кустарника: маргаритки, кукушкины слезки и подмаренник, полевая гвоздика, чечевица, воробьиное семя, прикрыт {1}, кашка и все луговые травы. Пахло медом и кореньями, перед смертоносным строем взлетали роями пчелы и шмели. Кроты, услышав грохот над хрупкой кровлей, забирались глубоко в землю. Черный уж испуганно заполз в канаву и исчез в маленьком отверстии, не шире каната. Высоко над бранным полем взвилась парочка жаворонков, гнездо которых кто-то из косцов неосторожно раздавил каблуком.
В виде арьергарда семенили скворцы, чтобы подобрать и расклевать всякого рода насекомых, валявшихся среди скошенной травы под жгучими лучами солнца.
Первая полоса была уже проложена до полевой межи. Борцы остановились и, опираясь на древки кос, любовались на разорение, которое они оставляли за собой. Они вытерли пот с лица и вынули по щепотке табаку из своих медных табакерок. В это время девушки поспешили встать во фронт.
Затем опять пускаются они по зеленому, цветочному морю, колыхающемуся под дуновением утреннего ветерка, то окрашенному яркими цветами, когда клейкие стебли и головки цветов ложились на волны белой медоносной травы, то сплошного зеленого цвета, распростертому как море в минуты полного штиля.
В воздухе чувствуется праздник, а в работе – соревнование; косцы скорей готовы упасть под солнечным ударом, чем бросить косы.
За Карлсоном идет с граблями Ида, и так как он последний в ряду, то ему легко, не подвергая опасности свои икры, хвастливо оглядываться назад и перекидываться с ней словечками. Норман же у него под наблюдением наискось от него; стоит тому кинуть взгляд на юго-восток, как раздается не столько доброжелательное, сколько недружелюбное предостережение: «Береги ноги!»
Когда пробило восемь часов, то заливной луг уже лежал как бороненное поле, гладкое как ладонь, а скошенная трава упала длинными рядами. Теперь производится осмотр сделанной работы и оцениваются удары. Над Рундквистом производится суд; отлично видно, как он шел; можно было подумать, что там плясали слоны. Но Рундквист защищает себя: ему приходилось наблюдать за девицей, которую ему дали, потому что еще случается, что девушки за ним бегают.
Теперь сверху раздался призывный крик Клары к завтраку; бутыль с водкой блестит на солнце, и начинается жбан со слабым пивом; на ровной скале дымится горшок с картофелем, на блюдах аппетитно лежит горячая килька, подано масло, нарезан хлеб, разливают по стаканам водку – завтрак в полном разгаре.
Карлсона восхваляют, и он опьянен победой; Ида тоже к нему благосклонна, и он ухаживает за ней с усердием, которое бросается в глаза; да, она действительно выделяется красотой среди всех… Старуха, хлопочущая с блюдами и тарелками, часто проходит около обоих, слишком часто, так что это заметила Ида. Но Карлсон обратил на нее внимание только тогда, когда она тихонько пихнула его в спину локтем и шепотом сказала:
– Карлсон должен быть хозяином и помогать Густаву! Он должен быть здесь как у себя дома!
Взоры и внимание Карлсона направлены исключительно на Иду, и он от старухи отделался шуткой. Но вот является Лина, нянька профессора, и напоминает Иде, что ей пора идти домой, убирать комнаты.
Смущение и грусть обнаруживается у мужчин, а девушки, видимо, не опечалены.
– Кто же будет за мной сгребать, если у меня отнимают девушку? – крикнул Карлсон тоном деланного отчаяния, за которым он старался скрыть действительное недовольство.
– Почему же не тетка? – отвечал Рундквист.
– Тетка должна сгребать! – закричали хором все мужчины.– Пусть идет тетка и сгребает!
Старуха отбивается, махая фартуком.
– Что стану я, старая баба, делать среди девушек? – говорит она.– Нет! Никогда! Никогда! С ума вы сошли!
Но сопротивление подстрекает.
– Возьми старуху,– шепчет Рундквист, что заставляет Нормана рассмеяться, а Густава сделаться темнее ночи.
Выбора нет. Среди шума и смеха спешит Карлсон домой за граблями старухи, вероятно положенными где-нибудь на чердаке. Вслед за ним бежит старуха.
– Нет! Ради бога,– кричит она.– Он не должен рыться в моих вещах.
И так исчезают оба, а остающиеся изощряются в громких и едких замечаниях.
– Я нахожу,– говорит наконец Рундквист,– что их слишком долго не видно. Пойди-ка, Норман, посмотри, что там случилось!
Шумное одобрение побуждает остряка продолжать в том же духе.
– Что они там наверху могли бы делать? Это чересчур! Знаете ли, я прямо начинаю беспокоиться.
У Густава посинели губы, но он принудил себя улыбнуться, чтобы не отличаться от других.
– Бог да простит мои прегрешения,– продолжал все в том же тоне Рундквист,– но дольше я этого вынести не могу. Я должен посмотреть, что они оба там делают.
В это мгновение показываются перед домом Карлсон со старухой; он несет грабли. Это красивые грабли, с нарисованными на них двумя сердечками и надписью: «Anno 1852». Когда старуха была невестой, ей Флод сам сделал и подарил эти грабли. Без тени болезненной сентиментальности указывает она на помеченный год.
– Это было не вчера,– говорит она при этом,– когда Флод сделал мне эти грабли…
– И когда ты легла на брачную кровать, тетка,– заметил старик из Свиннокера.
– Она могла бы это и еще повторить,– добавил тот, что из Овассы.
– Шесть недель нельзя венчать старых поросят, а два года – старых вдов,– пошутил прибывший из Фиаллонгера.
– Чем суше трут, тем он скорей воспламеняется,– вставил малый из Фисверсатра.
И каждый швырял щепку в огонь. Старуха, улыбаясь, оборонялась, старалась принять приятное выражение лица и шутила в ответ: сердиться было бы бесполезно.
Потом косцы пошли вниз по болотистому лугу. Там высоко, как сосновый лес, выросла осина, а вода достигала мужчинам до голенищ. Девушки сняли с себя чулки и башмаки и повесили их на забор.
Старуха так прилежно сгребала за Карлсоном, что даже опередила других. Иногда раздавались еще шуточки по поводу «молодой парочки», как их прозвали. Так настал час обеда, а затем и вечер. Пришел музыкант с своей скрипкой; ток был прибран и подметен.
Когда село солнце – начались танцы. Карлсон с Идой открыли бал; черное платье Иды было на груди вырезано четырехугольником, лиф украшали белые манжеты и воротник Марии-Антуанетты. Ида стояла среди крестьянских девушек как достойная зависти дама; старики глядели на нее со страхом и холодностью, парни – с вожделением.
Один Карлсон умел танцевать новый вальс; поэтому Ида танцевала с ним охотно, после того как неудачно попробовала пройтись с Норманом. Будучи, таким образом, вышиблен с поля, он в довершение своего несчастья вздумал взяться за гармонику, чтобы излить в ней свое наболевшее сердце и, быть может, в надежде поймать на этом последнем намазанном клеем прутике изменчивую птичку; несколько недель тому назад казалось ему, что она у него в руках, но скоро она опять вспорхнула на крышу и чирикала с другим. Карлсон нашел этот аккомпанемент совершенно излишним, так как самолично пригласил настоящего музыканта, тем более что малозвучная гармоника не сливалась со звуками скрипки, а только сбивала такт и вносила беспорядок в танцы. Карлсон обрадовался случаю уязвить соперника, тем более что и все находили, что гармоника мешает.
– Эй, ты! – крикнул он изо всех сил через ток забившемуся в уголок злополучному влюбленному,– завяжи-ка кожаный мешок! Убирайся и, коли надулся, выпусти воздух!
Всеобщее мнение приговорило виновного взрывом дружного смеха. Однако несколько выпитых рюмок водки бросились в голову Нормана, и белая вставка Иды возбудила в нем неожиданную храбрость. Он и не подумал исполнить требование.
– Эй, ты! – крикнул он в ответ Карлсону, неожиданно перешедшему к своему наречию, который смехотворно действовал на обитателей горной Швеции.– Ты приходи на двор, там уж я тебе поищу блох в твоей свинячьей шкуре.
Карлсон считал свое положение не настолько угрожающим, чтобы перейти на кулаки, а остался в границах невинной словесной борьбы.
– Что это за удивительная свинья, у которой водятся блохи?
– Она, видимо, происходит из Вермланда, думаю я! – ответил Норман.
Это было оскорблением национального достоинства; в поисках уничтожающего слова, которое как раз не приходило в эту минуту на ум, Карлсон бросился на неприятеля, схватил его за куртку и отшвырнул его во двор.
Девушки встали в воротах, глядя на столкновение, но никому и в голову не приходило в это вмешаться.
Норман был мал ростом, но коренаст, а Карлсон был выше ростом и более грубого сложения. Он сбросил с себя верхнее платье, за которое опасался, и борцы бросились один на другого. Норман головой вперед, как научили его молодые лоцманы. Но Карлсон схватил его, нанес ему подлый удар ногой вниз живота, и Норман, как свернувшийся еж, повалился на навозную кучу.
– Нечестивец! – крикнул он, не будучи больше в состоянии защищаться кулаками.
Карлсон кипел от ярости; не находя достаточно сильного ругательства, он надавил коленкой грудь Нормана и принялся бить побежденного по лицу. Тот плевал на него, кусал его, но под конец получил целую пригоршню сена в рот.
– Теперь уж я почищу тебе немытую морду! – кричал не своим голосом Карлсон и, вытащив из навозной кучи пучок соломы, стал им натирать несчастному лицо так, что из носа полилась кровь.
Это раскрыло рот взбешенному Норману; он бросил весь свой запас ругательств в лицо победителю, который все же не мог завязать побежденному язык.
Музыкант замолчал; танцы прекратились. Зрители делали свои замечания по поводу исхода кулачной борьбы и ругани и так же спокойно смотрели и слушали, как бы присутствуя при борьбе или танцах. Однако старики нашли, что поведение Нормана было не вполне правильное, не соответствовало старым взглядам. Вдруг раздался крик, взволновавший всю толпу и вырвавший ее из оцепенения:
– Он вытащил нож! – закричал кто-то.
– Нож! – откликнулась толпа зрителей.– Не надо ножа! Долой ножи!
Борцов окружили. Нормана, которому удалось раскрыть свой складной нож, обезоружили и поставили на ноги, после того как оттащили от него Карлсона.
– Драться на кулаках вы, парни, можете, но не на ножах,– сказал в заключение старик из Свиннокера.
Карлсон надел свое верхнее платье и застегнул его сверх разодранной куртки. У Нормана висел разорванный рукав рубашки; лицо его было грязно, окровавлено, и он счел более благоразумным удалиться, чтобы не показываться девицам в своем поражении.
С радостной уверенностью победителя и более сильного вернулся Карлсон на танцевальный круг, чтобы, проглотив предварительно хороший глоток водки, продолжать ухаживание за Идой, встретившей его любезно, почти с восхищением.
Снова, как работает заведенная молотилка, возобновились танцы. Наступили сумерки. Пили водку вкруговую, и никто не обращал внимания на то, что делают соседи. Поэтому Карлсон и Ида могли покинуть ток и дойти до кустарников без того, чтобы кто-либо обратился к ним с дерзкими вопросами. Но только успела девушка перелезть через забор, а Карлсон стоял еще на заборе, как, не видя никого в темноте, услышал голос старухи:
– Карлсон! Не здесь ли Карлсон?! Пусть он придет, протанцует один круг со своей сгребальщицей.
Но Карлсон ни слова не ответил, а быстро соскользнул с забора и тихо, как лиса, пополз в кусты.
Однако старуха увидела его и разглядела, кроме того, белый платок Иды, которым она перевязала себе талию, чтобы уберечь платье от прикосновения потных рук. Позвав еще раз, но не получая ответа, она перелезла через забор и пошла за ними в кусты.
Было совершенно темно на тропинке под кустами орешника. Она могла лишь разглядеть что-то белое, что тонуло в окружающей темноте, и наконец опустилась на землю среди длинной темной аллеи. Она хотела было побежать туда, но в эту минуту раздались у забора новые голоса – один грубый, другой звонкий, но оба заглушенные, а когда она подошла ближе, то голоса перешли в шепот. Густав и Клара перелезали через забор, хрустевший под Густавом; приподнятая двумя сильными руками, Клара спрыгнула с забора вниз.
Старуха спряталась в кустах, пока парочка, обнявшись, проследовала мимо нее; напевая, целуясь, порхнули они, как она когда-то порхала, напевала и целовалась.
Еще раз заскрипел забор, и, как молодые телята, проскочили парень из Кварноера и девушка из Фиаллонгера. Вскочив на забор, с раскрасневшимся от танцев лицом и смеясь во весь рот, показывая свои белые зубы, она подняла руки и скрестила их на затылке, как бы желая броситься вперед; затем с громким смехом и с раздувающимися ноздрями бросилась она действительно в объятия парня; он приветствовал ее протяжными поцелуями и унес в темные кусты. Старуха стояла за кустом орешника и видела, как одна парочка за другой приходили, уходили, возвращались. Совсем как во времена ее молодости. И старый огонь, уже в продолжение двух лет покрытый золой, снова загорелся.
Тем временем смолкла скрипка. Было за полночь, и слабо засветилась на севере над лесом утренняя заря. На току раздались более громкие голоса, со стороны луга доносились отдельные крики «ура», указывающие на то, что танцующие разошлись и что для косцов наступило время возвращения домой.
Старухе надо было вернуться, чтобы со всеми проститься.
Дойдя до дороги в лощине, где начало настолько светать, что можно было разглядеть зеленую листву, она увидела, как на самом верху дороги появились, держась за руки как бы для нового танца, Карлсон и Ида. Побоявшись, что ее застигнут здесь на зеленой дорожке, она повернулась и быстро пошла к забору, чтобы прийти домой раньше, чем уедут гости.
Но на противоположной стороне забора стоял Рундквист и всплеснул руками, увидав старуху, которая закрывала лицо фартуком, чтобы не показать того, как ей было стыдно.
– Нет! И тетка была в лесу? Я и то говорю, что на старух тоже нельзя положиться, как и на…
Она дальше не слушала и спешила как можно скорей к стуге.
Там ее уже хватились и приветствовали криками, рукопожатиями и выражениями благодарности за хорошее угощение, а затем все простились.
Когда снова настала тишина и были созваны из луга и из рощи беглецы – причем нашлись не все,– старуха пошла спать; но долго еще она лежала и прислушивалась, не услышит ли она, как Карлсон будет подниматься вверх по лестнице в каморку.
Глава IV
Сено было свезено под крышу, рожь и пшеница убраны. Подошел конец лета, и все в общем прошло благополучно.
– Малому везет! – говорил Густав про Карлсона, которому не без основания приписывали улучшение благосостояния.
Начался прибой кильки, и все мужчины, за исключением Карлсона, отправились на внешние шхеры, когда подошло время семье профессора возвращаться домой ко времени открытия оперы.
Карлсон взял укладку вещей на себя и бегал целый день в разные стороны все с карандашом за ухом; он выпивал пиво то у кухонного стола, то возле шкафа с провизией, то на крыльце. Тут он получал ставшую ненужной соломенную шляпу, там пару изношенных парусинных башмаков; трубку, невыкуренные сигары с наконечником, пустые коробки и бутылки, удилища, жестянки, пробки, парусное полотно, гвозди, все, что нельзя было взять с собой или что оказывалось лишним.
Много падало крох со стола богачей, и все чувствовали, что отсутствие отъезжающих будет ощутительно,– начиная с Карлсона, терявшего свою возлюбленную, и кончая курами и поросятами, которые перестанут получать праздничные обеды с господской кухни. Менее всего горька была печаль покинутых Клары и Лотты; несмотря на то что они не раз получали хороший кофе, когда приносили наверх молоко,– они все же сознавали, что для них весна вернется лишь тогда, когда осень удалит соперниц.
Поднялось волнение на острове, когда после полудня причалил пароход, пришедший за дачниками, потому что еще ни разу не было случая, чтобы пароход приставал к острову.
Карлсон руководил причаливанием, давал приказы и указания, пока пароход старался подойти к мосткам. Но при этом он ступил ногой на почву, которая удерживать его не могла, потому что морская жизнь была ему совсем незнакома, и в то самое мгновение, когда была брошена веревка и он желал в присутствии Иды и господ выказать свою ловкость, он получил по голове удар канатом, так что с него сбило фуражку, которая упала в море. В ту же самую минуту он вздумал потянуть за трос и поймать фуражку, но нога попала в какую-то щель; он несколько раз припрыгнул и упал, что вызвало ругань со стороны капитана и насмешки матросов. Ида, недовольная неловкостью своего героя, отвернулась; она готова была расплакаться, так ей было за него стыдно. При входе на сходни она сухо с ним простилась; пока он старался удержать ее руку и желал поговорить о будущем лете, о переписке и об ее адресе, сходни стали вырывать у него из-под ног; он подался всем телом вперед, и мокрая фуражка скользнула на затылок, а с мостика раздался громкий окрик штурмана:
– Бросишь ли ты наконец канат!
Новый залп отборных ругательств обрушился на несчастного влюбленного раньше, чем ему удалось освободить причал.
Пароход отошел и спустился по проливу, а Карлсон, как собака, хозяин которой уезжает, побежал по берегу, прыгая по камням, спотыкаясь о корни, чтобы попасть скорей на мыс, где у него за кустом ольхи было спрятано ружье для выстрела в виде прощального приветствия. Но надо думать, что он сегодня встал с левой ноги, потому что в ту минуту, как раз когда проходил пароход и он хотел выстрелить из высоко приподнятого ружья, оно дало осечку. Он бросил ружье в траву, вытащил платок из кармана и начал им махать; побежал вдоль берега, махая голубым платком, кричал «ура» и сопел изо всей мочи.
Но с парохода никто не отвечал; ни одна рука не поднялась, ни один платок не развевался в воздухе. Ида исчезла.
Он же неутомимо, неистово бежал через гранитные глыбы, попадал в воду, ударялся об ольховые кусты, добежал до плетня, наполовину проскочил через него, так что изодрался о колья. Наконец в ту минуту, когда пароход огибал мыс, он добежал до камышовой бухты. Не соображаясь с тем, что делает, он прыгнул в воду, еще раз замахал платком, и из его груди вырвалось последнее отчаянное «ура». Пароход исчезал за камышами, но Карлсон еще разглядел, как профессор замахал шляпой на прощанье. Затем пароход скрылся за лесом, потянув за собой сине-желтый флаг с изображенным на нем почтовым рожком, который еще раз промелькнул между ольхами. Затем уже все исчезло, только еще длинная полоса черного дыма стлалась по воде и омрачала воздух.
Карлсон побрел, плюхая по воде, к берегу и поплелся за ружьем. Он со злобой во взоре взглянул на него, как будто вместо ружья он видел перед собой ту, которая покинула его. Он встряхнул полку, надел новый капсюль и выстрелил.
Потом он опять вернулся на пристань и вновь представил себе всю сцену; как он, подобно паяцу, прыгал по доскам на мостках; он услышал снова ругань и взрывы смеха, вспомнил смущенный вид Иды и ее холодное рукопожатие, он еще ясно чувствовал чад от каменного угля и машинного сала, запах масляной краски, покрывающей пароход.
Пароход явился сюда, в его будущие владения, и привез с собой горожан, которые презирали его, которые в одно мгновение сорвали его с лестницы, по ступеням которой он успел уже довольно высоко подняться, которые – и что-то защемило у него в горле – унесли все счастье, всю радость проведенного лета.
Он взглянул на мгновение на воду, которую пароходные винты привели в кипение, на поверхности которой виднелись клоки сажи и масляные звезды, сиявшие всеми цветами радуги, как старое оконное стекло. В незначительное время успело чудовище изрыгнуть из себя всевозможную нечисть и этим загрязнило светло-зеленую воду: пивные пробки, яичные скорлупки, кружочки лимона, кончики от сигар, обгорелые спички, клочки бумаги, которыми играли уклейки. Казалось, сюда провели отводные каналы всего города и бросали здесь всю нечисть и все отходы.
Одну минуту ему сделалось жутко на душе от мысли, что если он действительно захочет последовать за своей возлюбленной, то ему надо отправиться в город, в эти улицы с этими проточными каналами, где дорогая поденная плата и тонкие платья, газовые фонари, красивые магазинные выставки и девушки с воротничками, рукавчиками и башмаками на пуговках, где имеется все, что заманчиво. Но в то же время он ненавидел город, где он всегда будет последним, где смеются над его наречием, где тонкая работа не по его грубой руке, где ни к чему не пригодны его сила и ловкость. А все же приходилось ему помышлять о городе, потому что Ида сказала, что за простого работника она замуж не пойдет, а хозяином ему не бывать никогда! Разве никогда?
Свежий ветер все крепчал и заволновал воду; она ударялась о сваи мостков, смывала грязь, а ветер рассеял дым и очистил вечернее небо. Шум ольховых веток, плеск волн, дерганье привязанных лодок – все это рассеяло его мысли. Закинув ружье за плечо, пошел он домой.
Дорога шла по пригорку среди кустов орешника, над ним высилась еще стена серого камня, поросшая соснами; там он еще ни разу не был.
Подстрекаемый любопытством, пополз он среди папоротников и дикой малины и скоро очутился на самом верху, на большой серой скале, на которой установлен был морской значок.
Перед ним лежал освещенный солнечным закатом остров; одним взглядом мог он окинуть его леса и пашни, луга и дома, а за ним высились холмики, скалы шхеры вплоть до открытого моря. Это был большой кусок прекрасной земли, а также вода, камни, деревья; и все это могло ему принадлежать, если только он протянет руку, одну только, а другую, направленную к тщеславию и бедности, отведет назад. Не нужно было искусителя, который бы стоял возле него и упрашивал его пасть на колени перед этой картиной, освещенной чарующими лучами заходящего солнца, на которой синие воды, зеленые леса и желтые пашни сливались в радугу и которая омрачила бы более острый разум, чем тот, которым отличался деревенский работник.
Раздраженный намеренным пренебрежением вероломной, забывшей через каких-нибудь пять минут последнее обещание ему на прощанье помахать платком, настолько оскорбленный ругательствами заносчивых городских невеж, как будто его побили палкой, восхищенный видом жирной земли, богатых рыбою вод и теплых хижин, он принял решение: сделать последнюю попытку, самое большее две, чтобы испытать коварное сердце, пожалуй уже позабывшее его, а уж потом взять то, что можно было, без кражи, просто взять.
Когда он, придя домой, увидел голую большую стену, опущенные шторы, лежащие вокруг солому и пустые ящики, ему что-то сдавило горло, как будто он подавился куском яблока.
Запрятав в мешок все полученные им на память от уехавших дачников вещи, он по возможности тихо прокрался в свою каморку. Там он скрыл свои сокровища под кровать, сел к письменному столу, достал бумаги и перо и приготовился писать письмо.
Первая страница представляла из себя излияние целого потока слов, частью из своего собственного запаса, частью извлеченных им из «Сказок» и из «Шведских народных песен» Афцелиуса; эти книги произвели на него сильное впечатление, когда он прочел их у управляющего в Вермланде.
«Дорогой, любимый друг! – начал он.– Сижу я один в своей каморке и страшно тоскую о тебе, Ида. Я помню, как ты сюда приехала, будто это было вчера: мы сеяли яровое, а в кустах куковала кукушка. Теперь осень, и парни выехали на шхеры за килькой. Я бы не так тосковал, если бы ты не уехала, не простившись еще раз со мной, с парохода, как это любезно сделал профессор, стоя на палубе. Без тебя сегодня вечером пусто как в бездне, и это главным образом причина тому, что горе мое так тяжело давит меня. Тогда, во время танцев по случаю покоса, ты мне кое-что обещала. Помнишь ли, Ида? Я помню так ясно, как будто оно у меня записано; но я в состоянии и сдержать то, что обещал. Но не все в состоянии так поступить; однако это все равно, и я не строг к тому, как относятся ко мне люди; но кого я раз полюблю, того уж не забуду; это я хотел бы сказать».
Грусть, вызванная разлукой, улеглась, но зато пришло чувство горечи; всплыл страх перед неизвестными соперниками и искушениями большого города с его удовольствиями. Сознавая, что он лишен возможности бороться с искушением, которого он боялся, он прибегнул к благородным чувствам. В нем тут же пробудились старинные воспоминания того времени, когда он был странствующим проповедником. Он сразу стал высокопарен, строг, исполнен нравственности – словом, превратился в мстителя, устами которого говорит другой.
«Когда я,– писал он,– думаю о том, как ты теперь одна в большом городе без поддержки верной руки, которая бы отстраняла от тебя все опасное и все искушения; когда я думаю о всех греховных случайностях, делающих путь широким, а поступь шаткой, то я чувствую укол в сердце; мне тогда кажется, что я виноват перед Богом и перед людьми в том, что отпустил тебя в сети греха. Я должен был бы быть тебе отцом, Ида; и ты доверилась бы старому Карлсону, как настоящему отцу…»
Слова «отец» и «старый Карлсон» смягчили его, и он вспомнил последние похороны, на которых он присутствовал.
«…отцу, в сердце и на устах которого неизменное снисхождение и всепрощение. Кто знает, сколько еще времени проживет старый Карлсон (он уже полюбил это слово); кто знает, не сочтены ли его дни, как капли воды в море и звезды на небе; быть может, он раньше, чем мы этого ожидаем, будет лежать, как высушенное сено… Тогда, быть может, кто-нибудь, кто теперь об этом не думает, пожелает его откопать. Но будем надеяться и будем молиться о том, чтобы он дожил еще до того дня, когда снова из-под земли покажутся цветы и в наших местах снова раздастся воркованье горлицы. Тогда настанет дорогое время для того, кто теперь стонет и вздыхает и кто хотел бы повторять слова псалмопевца…»








