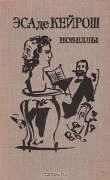Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Аугуст Гайлит
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
– Может, Бог даст еще? – наконец сказал он, прособиравшись день-другой с духом.
Анне подняла глаза, удивленно поглядела на мужа и переспросила:
– Что даст?
– Ну, другого ребенка... – ответил Тааде смущенно.
И это подействовало. Анне вылезла из угла, впервые за несколько месяцев опять умылась, прибралась, повязала голову платком и принялась собирать мужу на стол.
– Ты у меня, поди, совсем оголодал, – ласково приговаривала она.
И с того дня Анне опять стала прежней. Опять без устали обходила хутора, мызы, прося еду, одежду и деньги. С малых лет живущую этим, ее повсюду знали, и щедрых рук было предостаточно. Точно навьюченный осел, шагала она по дорогам. И после много дневного отсутствия наконец придя домой, сбросила сумы и взялась их разбирать.
– Смотри, Юри, что я тебе принесла, – приговаривала она радостно. – Смотри, тут несколько клубков шерстяных ниток, из них я свяжу тебе свитер. А тут вот булка, тут селедка, мясо, ты ешь, ешь! О господи, какой же ты тощий, костлявый!
Она похлопала мужа по плечу и промолвила:
– Может, Бог еще даст?
И Бог дал, но на сей раз дочку, которую нарекли Мари.
3.
Солдат сильно сдал, постарел. Угодить попу он уже был не в силах, и тот то и дело сердился, бранил его. Да и жилось ему нелегко, так как Анне совсем забросила мужа.
С сумой, с узлом за плечами, держа на руках ребенка, она ходила побиралась по нескольким волостям окрест, неделями не появляясь дома. И Тааде был вынужден печься о себе сам, справлять обязанности в кирке, прибирать баньку, стряпать, словно и не был женат, словно и не брал себе на старость лет помощницу, которая бы заботилась о нем. Все приходилось ему делать самому – и он тянул эту лямку, все чаще и чаще вспоминая сравнение с лошадью, которая сама добровольно впряглась в воз.
Даже когда жена и приходила из своих отлучек на день-два домой, радости это не приносило. Она была постоянно не в духе, бранила, корила, ни малейшего покоя не давала. Чертом носилась по баньке и куражилась – все-то тут было не по ней. Но что самое ужасное, ни на шаг не подпускала к ребенку. Юри Тааде очень хотелось тоже потетешкать дочку, посадить ее себе на колени, покачать, но Анне как от чумы берегла ее от него.
Если прежде, бывало, походив по людям, жена приносила что-то и для него, то теперь ему уже ни крохи не перепадало. Все собиралось лишь для подрастающей дочки. Сумы Анне были полны всякими нитками, платками, пуговицами, лоскутками материи и кожи, старыми шерстяными юбками, рубашечками и бог весть чем еще. И все это богатство, всю это дрянь и труху она складывала в сундуки – дочери на приданое.
Если в былые времена соргуская Анне, бродяжничая, помогала хуторянкам стирать белье, носила на мызу ягоды и грибы, то теперь об этом не было и речи. Точно голодный зверь рыскала она с ребенком на руках по округе, клянчила и канючила, увещевала словом божьим и стращала карой небесной. Завидев где небрежно оставленный платочек или фартучек, она тут же как назойливая цыганка принималась его выпрашивать.
– Опять эта соргуская Анне со своей макакой идет! – недовольно говорили люди.
Девочка и впрямь походила на обезьянку. Растя на руках ходящей по тиру матери, она только и слышала, что ее канюченье, причитанье и плач. И едва встав на ножки, сама как мартышка стала шнырять плутоватыми глазками вокруг. Говорить еще не научилась, а уже ко всем, что ни увидит, жадно тянула ручку. Чем и вызывала неприязнь. Мальчишки и собаки не давали ей проходу, напускались на нее, царапали, щипали, толкали. И маленькая макака, чумазая, тупоносенькая, защищалась, выставляя вперед по-старушечьи скрюченные пальцы, а если не хватало сил, верещала так, что испуганно сбегалась целая волость. Видя лишь зло, она ненавидела всех. И как ни баловала, ни ласкала ее Анне, она недолюбливала даже мать за то, что та судорожно держала ее при себе и ни на шаг никуда не отпускала.
Год за годом сопровождая мать в ее походах, девочка росла непоседливой и беспокойной. Едва они приходили куда-нибудь на хутор, как она уже начинала теребить мать и хныкать, требуя идти дальше. Она любила только переходы и ни минуты не хотела сидеть на месте.
– Идем! Идем! – ныла она непрерывно, дергая мать за подол.
– Да замолчишь ты?! – цыкала мать и била ее по пальцам.
Но девочка настырно продолжала звать:
– Идё-ом! Идем! – и унималась только тогда, когда мать увязывала все и, взяв переметную суму на плечо, двигалась со двора.
Однако и мать была уже немолода и не могла передвигаться с прежней прыткостью. Поэтому, воспользовавшись как-то раз недоглядом матери, девочка отправилась бродить сама по себе. С хутора на хутор, с мызы на мызу, и так пока не побывала даже в городе. Ею владел какой-то бродяжнический азарт, которые толкал ее вперед, все равно куда, лишь бы вперед.
Обнаружив исчезновение Мари, мать взвыла раненым зверем. Крича и плача, она закружила по деревням.
– Пропала, пропала! – причитала она.
– Кто, что? – с недовольством спрашивали люди.
– Да все она, паршивка, все она! – кричала Анне. – Я задремала чуток на обочине, а она сбежала. Я задремала чуток на обочине, а она сбежала. Вы не видели ее, не приходила она сюда?
– Кто – она? – переспрашивали ее.
– Да дочь моя! – поясняла Анне. – Ну, дрянь такая, пусть она только попадется мне – места живого не оставлю!
Дни и ночи она бегала, не зная усталости, по хуторам. Точно обезумев, в отчаянии металась по дорогам, останавливая каждого и расспрашивая, и даже стала уже сомневаться, говорят ли ей правду, не скрывают ли чего.
– Может, померла? – мелькнула мысль.
Померла? – повторила она и опустилась, сраженная, на обочину. – Попала под повозку, в речке утонула или какие-нибудь собаки ее растерзали? Ведь она еще совсем маленькая, беззащитная. Куда же она могла пойти в одиночку?
Анне поднялась и снова бросилась на поиски.
В конце концов она обнаружила беглянку в какой-то лачуге и, волчицей кинувшись к ней, подхватила на руки.
– Ах ты мерзавка, макака, дрянь ты эдакая! – приговаривала она сквозь слезы, прижимая дочку к себе.
Анне шал домой, прямо-таки пританцовывая.
– Где ты была, куда ты ходила? – допытывалась она у дочки.
– Много где была, – отвечала та с умудренным видом. – Аж до самого города дошла. Ой, мама, сколько там вещей и чудес!
Нельзя все ж таки с ребенком ходить побираться, решила про себя Анне, совсем пропадет девчонка.
И придя домой, велела мужу истопить баню, чтобы отмыть дочь от чужой скверны. После того как они напарились и намылись и Анне излила мужу все боли и отчаяния последних дней, они все трое улеглись спать на полке.
Посреди ночи маленькая Мари проснулась от кашля. Открыв глаза, она увидела, что баня полна огня и густого дыма. Косулей соскочила девочка с полка и кинулась к выходу. Упала, поднялась, опять упала. Обуреваемая страхом, она даже не кричала, только упорно пробиралась к двери. Как она оказалась во дворе, она и сама не помнила, но когда она оглянулась на баньку, та была вся в огне. Гигантскими змеями тянулись к ночному небу черные столбы дыма. Всполохи пламени уже пробивались сквозь крышу, и снег вокруг был странного красновато-розового цвета.
В одной рубашонке, босая, стояла она поодаль в снегу и испуганно смотрела на горящую баню. Это было что-то захватывающее, ужасающее. Широко распахнул глаза, дрожащая, трепещущая, она смотрела на эту феерию, смотрела, стоя прямо против огня, без плача, без крика. Она даже не могла кричать, не чувствовала страха – оба была просто зачарована колдовски пляшущими языками пламени.
Черное небо побагровело, облака были точно кровью обрызганы.
И тут только у нее впервые вырвалось:
– Мама, мама!
Только теперь она стала осознавать, что мама и папа ее остались в огне и что нужно кричать, звать на помощь.
С криками, голося, сбегались на пожар мужчины и женщины, из колодца ведрами несли воду. Но пламя уже взвилось над банькой, объяв целиком всю постройку.
– Люди остались в огне! Люди остались в огне! – закричали наперебой.
– Звонарь с женой и дочкой сгорел! – запричитали.
– Беда-то, беда какая!
Поднялся ветер, и пламя метнулось к кирке. Пожар грозил перекинуться на дом пастора. И люди, заметив это, побежали с ведрами туда.
– Спасайте дом пастора! Тут больше ничем не поможешь! – раздались возгласы.
И как на откатной волне, голоса стали удаляться.
– Тут больше ничем не поможешь!
– Боже великий, помилуй их души, – шептали женщины.
– Сгорели. Погибли в огне, – переговаривались, уходя, мужчины.
Ребенок стоял и смотрел.
Небо было кроваво-красным, и языки пламени, словно гарцуя, вздымались ввысь. Это был уже даже не огонь, это были ужасные, жуткие лошади с огненной гривой и сияющими огнем копытами, которые оглашали ночь своим исполинским ржанием. Они вздымались из пламени, красные, с кровавыми глазами и растворялись, уносились во тьму. Гигантские змеи обвивали их крупы, тянули головы к нему, извиваясь и изрыгая яд, и лошади, словно спасаясь от них, рвались и рвались кверху.
Это было так диковинно, так сказочно-ярко. Видение исчезло лишь, когда пламя спало, как бы осело со стоном вниз. Еще несколько мгновений – и, взметнув фонтан искр, рухнула кровля баньки.
– Мама, мама! – опять вскрикнула девочка.
Какая-то женщина, шедшая обратно, заметила ее.
– Детонька! Детонька, – воскликнула она, – как ты здесь очутилась?
– Мама, мама! – всхлипывал ребенок.
– Бедненькая! – заохала женщина. Папа и мама в огне погибли. Бог весть как еще ты-то живой осталась. А теперь стоишь тут, птенчик, в одной рубашонке, босиком, стынешь... Ой ты, несчастье, ой беда-то какая!
Она подхватила ребенка на руки и отнесла к кистеру. Здесь девочку уложили в теплую постель, успокоили, пожалели; женщины, сгрудясь вокруг, не могли сдержать слез.
– Бедняжка! – вздыхали они.
– Ох ты пташка ты горькая!
– Что ее теперь в жизни ждет?
– Маленькая, слабенькая...
– В чужих людях придется жить!
Но она ничего этого не слышала, не замечала хлопочущих вокруг. Она таращила испуганные глазенки и видела только лошадей, красных лошадей, поднимающихся к черному ночному небу. Как зачарованная смотрела она на это волшебное видение и такой пьянящий, сладостный дурман охватывал ее душу, словно она сама вместе с огненными скакунами мчалась верхом над лесами, хуторами, озерами. Глубоко внизу чернела равнина, вверху плыли красные облака.
Несколько недель пролежала она в лихорадке, бредила, металась, и душа ее рвалась как собака с цепи, но цепь не оборвалась – девочка выжила. Поднялась с постели худенькая, желтая, ноги как травинки дрожат. И пошла посмотреть на пепелище – там уж вовсю кипела работа над новой банькой, мужики с трубками в зубах обтесывали бревна, пилили, рубили. Она подошла к ним, поздоровалась и с видом умудренного жизнью человека спросила об отце и матери.
– Схоронили их, – ответил один из плотников. – Давно уж как схоронили!
– Кого схоронили? – удивилась девочка. – Они же сгорели.
– Сгорели, верно, но что-то да нашлось в гроб положить, – ответил мужик, всадив топор в бревно и большим пальцем приминая в трубке табак. – Да, вот так вот оно бывает... что осталось, то и земле предали, а иначе-то как? Принесли два гроба и положили в каждый его долю, мало, правда, но все же. И пастор потом сказал, что для воскресения в вечную жизнь этого хватит.
– Схоронили, – повторила девочка про себя, словно бы раздумывая о жизни и о судьбе человеческой. Она не отчаивалась, на плакала – знала, что дороги перед ней открыты и что странствовать она может и без матери. Она не чувствовала ни одиночества, ни скорби, только слаба была еще и ноги плохо держали.
Постояла, посмотрела, как плотники работают, и ушла.
– Весна близится, придется ей в пастушки идти, – сказала одна из женщин.
– Что еще сироте остается, – согласились остальные.
Но Мари в пастушки не пошла. В один прекрасный день, никому ничего не сказал, она выскользнула из дому, принюхалась, как борзая, к запаху талой земли, прислушалась к веселому журчанию ручейков и побежала прямиком к большаку. Солнце сияло над полями, пригорки уже зеленели, а о другом ни о чем она и думать не хотела. Начались годы скитаний, в которые она узнала и голод, и холод, и людскую злобу в разных ее проявлениях. Иногда она попадала в руки властей, и тогда ее доставляли этапом обратно в свою волость, где, побранив и наказав, опять определяли ее на какой-нибудь хутор. Некоторое время девочка жила в прислугах, но если ей что не нравилось она на другой же день сбегала от хозяев.
Однако с возрастом страсть к бродяжничеству у нее прошла. Она стала чувствовать себя неуютно, когда ее стыдили или бранили.
– Большая девка, посрамилась бы болтаться без дела! – говорили люди. – Скоро замуж пора, а она нищенствует.
Не осмеливалась и еду просить больше, и одежду клянчить. Да и не давали, спускали собак и гнали со двора. Она была немытой, нечесаной, с волосами как пакля, замарашкой. Парни смеялись и зло шутили над ней. Женщины запускали в нее метлами. А мужики, сталкиваясь с ней, упирали руки в боки и напускались гневно:
– Все бездельничаешь, лентяйка? Всыпать бы тебе горячих! Да из-под кнута заставить работать! А то таскаешься только из волости в волость, ни страха, ни стыда не зная!
И вот однажды она умылась у реки, повязала голову платком и пошла на хутор просить работу. Она была застенчива, кротка, заплакала даже, когда ее не хотели брать. В конце концов ее взяли условно, без платы. Но она показала себя работящей и послушной, и постепенно грехи ее забылись – так Мари Тааде сделалась работницей, которую рады были иметь на любом порядочном хуторе.
Лишь зимой, при виде алых сполохов яркого северного сияния или летними вечерами глядя на солнечный закат, она становилась вдруг встревоженной, беспокойной, у нее начинала болеть голова и стыла кровь в жилах. Тогда опять ей виделись поднимающиеся ввысь красные всадники, которые звали и манили ее с собой, отрывали от черной земли и мчали по заревой глади неба. Это было несказанное блаженство, словно какой-то вихрь налетал и подхватывал ее. В такие минуты, как оцепенев, она бредила только о красных лошадях.
Как-то раз, сидя на берегу с Мадисом, эдаким уже не первой молодости батраком, который решил, что пришла пора открыться ей в своей пылкой любви, Мари Тааде попыталась рассказать парню о своих странных видениях.
Парень кашлянул и, выпучив свои большие глаза, уставился на девушку, послушал ее, послушал, вскочил резко – и в два прыжка оказался поодаль.
– Мадис, глупый, куда ты? – крикнула ему вслед Мари.
Но он уже ничего не слышал – он без оглядки бежал от нее как от чумной.
И когда хозяева потом, случалось, ни нем говорили о Мари Тааде, он с таинственным видом всегда бросал:
– Она же помешанная, как есть сумасшедшая.
Но люди только смеялись и считали, что все это чепуха.
4.
В тот год Мари Тааде служила на хуторе Мягисте.
Это была небольшая заимка, бедное, заложенное хозяйство посреди смолистого соснового бора. Хозяин был сам болезненный, ходил все покашливая, постанывая, и работников много держать не мог.
Стояло засушливое лето, в голубом небе неделями не появлялось ни облачка, хлеб чах и желтел в поле и земля ссохлась в камень.
Мари жила в амбаре, что бок о бок примыкал к жилой риге. И вот как-то утром в воскресенье она наряжалась, собираясь в кирку. В амбаре было сумеречно, девушка зажгла свечу и поставила на сундук. С потолка свисали нити, одежда – они занялись от свечи, и не успела девушка ахнуть, как амбар загорелся.
Она выскочила из амбара и, как когда-то в детстве, остановилась перед горящей постройкой. Она не кричала и не звала на помощь, онемев, лишь восторженно смотрела на все выше вздымающиеся языки пламени, она волны огня, захлестывающие ригу, хлев, баньку. Она не замечала мечущихся по двору людей, не слышала воплей, плача. Недвижно, столбом стояла и зачарованно смотрела на пожар.
Огонь перекинулся на сосняк, деревья вспыхивали как свечки, и пламя растекалось все шире. В соснах трещало, шумело. Появившийся ветер гнал пламя дальше, и вскоре вокруг уже бушевало море огня. И всадники, всадники мчались ввысь, как если б земля посылала на бой свою исполинскую рать. Разве сравнить это было с закатным небом или с огненными столами северного сияния!
И вновь Мари Тааде овладело странное чувство, будто все земное вдруг оставило ее и она легкой пушинкой, подхваченной огненным вихрем, взмывает вместе с всадниками и воздух. Все бренное, тягостное, все прегрешения и ошибки, многолетние житейские трудности, все было обращено этим полымем в прах, оставалась лишь чистая, как родниковая вода, душа. И такой восторг, такое блаженство, беспредельное блаженство было в этом, что она не могла даже крикнуть. И был полет, точно воскрешение из мертвых, неописуемое счастье и покой.
Выше неба, выше звезд летела она, и земля – луной в облаках – скрывалась глубоко внизу, в черноте. Летела с красными скакунами, зачарованная, затаившая дух, и знойные ветры шумели у них за спиной.
– Беги, дуреха, сгоришь! – раздалось вдруг.
Мари словно очнулась от сладкого сна, оцепенение ее прошло, и она почувствовала, как на душу опять наваливается прежняя тяжесть.
– Красные лошади, красные лошади! – бормотала она чуть не плача, как ребенок, у которого сломали любимую игрушку.
– Беги, беги! – повторился крик.
Ее схватили за руку, потянули, поволокли. И так полунасильно вытащили из бушующего огненного кольца.
Упав на землю, девушка рыдала долго и безутешно.
И с того дня она мечтала только об огне.
Нанималась на хутор, веселая, казалось, разговорчивая. Работала за троих, входила в доверие, исполняла все до последнего распоряжения. А сама вынашивала одну мысль: увидеть всадников, огромные мятущиеся языки пламени. И воровато, украдкой забиралась на чердак, бросала горящую спичку в сено, чтобы увидеть чудо, великое, всепоглощающее чудо.
Не причитания, ни слезы ее не трогали. Когда на месте хутора оставались одни головешки, она какое-то мгновение глядела на них словно бы и сожалея, но потом увязывала узелок и поспешала на другой хутор.
Зачастую ее удивляло, почему люди доверяют ей. Почему не догадываются, что подожгла она, Мари Тааде. Даже сердилась, когда она им сама говорила о злой руке, а они не принимали ее слов всерьез.
«Бестолочи! – мысленно ругала она людей, – ничего не видят – точно без глаз. Ты их жги, по миру пускай, а они рыдают у тебя на груди и жалеют о твоем уходе. Остолопы, тупицы!»
Она сознавала, что когда-нибудь ее уличат, но это ее не пугало. Что значили побои, тюрьма и страдания рядом с тем огромным счастьем, которое она испытывала?
Она чувствовала себя великим пророком, которому открыты тайны неба и чарующее блаженство. Она была выше угрызений, выше наказаний, и даже боль была для нее чем-то мимотечным -ей ничто не было страшно. Знала она, и что найти причину поджогов, объяснить ее поступки невозможно. Понять ее могли бы лишь посвященные, лишь сверхлюди, видящие в огне волшебную силу. Но люди глупы. Открой она им свою великую тайну, и они бы подобно Мадису в панике пустились наутек. Они, как деревья корнями, крепко держатся за землю.
И невозмутимая, гордая своей избранностью, она ходила от судебного следователя в тюрьму и из тюрьмы в судебному следователю, давала подробные показания о своих преступных деяниях, но причин, толкавших ее на поджоги, не называла.
– Зачем поджигали? – раз за разом повторял вопрос следователь.
Раздражался, багровел лицом, так что под кожей взбухали синие жилы, стучал кулаком по столу и орал:
– Зачем поджигали?
Угрожал десятью годами заключения, соблазнял свободой, вдруг добрел, отечески глади по руке и с улыбкой говорил:
– Послушай, ты ведь еще молода, у тебя вся жизнь впереди. Грешно было бы да и обидно обрекать эту молодую жизнь на гибель, сгнаивать ее в застенке. Когда ты выйдешь из тюрьмы, ты будешь уже старухой, сломленной, безобразной, уставшей от жизни. Волосы и те поседеют, спина сгорбится. Скажи мне лучше, как отцу, зачем ты палила столькие постройки? Чистосердечное признание смягчает вину, и быть может, я не сегодня-завтра смогу тебя даже освободить. Подумай, взвесь хорошенько, ты так молода, даже красива, замуж можешь выйти. О господи, какая у тебя счастливая жизнь может быть впереди! А ты артачишься, упрямишься, не хочешь назвать причину преступления – сама как слепая торопишься навстречу гибели. Кому от этого польза?
Мари Тааде стояла столбом, глаза в пол, и молчала. Краснела, кашляла, переминалась с ноги на ногу и теребила в пальцах бахрому платка.
– Дура ты ненормальная! – опять кипя гневом, кричал следователь. – Казнить тебя надо! Паршивка, что творила – хутора жгла, один, другой, столько хуторов спалила! За ней море огня тянулось, слезы женщин, детей, проклятья мужиков, но она бессердечна и упряма, ей дела ни до чего нет! Даже причины преступления назвать не желает. Мы тут из-за нее голову ломаем, к врачам ее посылаем, продлеваем предварительно следствие, а ей все нипочем!
Под конвоем Мари доставили обратно в тюрьму.
Через месяц-два ей вручили обвинительный акт. Это был пухлый том с изложением всех обстоятельств дела и множества параграфов, но Мари Тааде и смотреть в него не стала. Зато другие арестантки прочли, пересмеиваясь и качая головами.
– Ну и птица! – дивились они.
Одна даже подсела и, прикидываясь подругой, посочувствовав, зашептала на ухо:
– Мне-то ты можешь сказать, зачем ты их жгла? Я никому не проболтаюсь. Знаешь, я и сама здесь сижу за довольно злое дело – я ребенка в колодце утопила. Девчонкой-поденщицей была, испугалась. Не знала, куда деваться от стыда и что делать. Все как было говорю, от чистого сердца. И ты скажи: зачем ты их жгла?
– Я не знаю, – сказала Мари.
– Ах так, не знаешь? – хмыкнула арестантка. – Ну, ты меня, видать, за ребенка держишь. А то никак и вообще за дуру?
Она поднялась и расхохоталась на всю камеру:
– Во простота!
В углах подхихикнули. А затем посыпались злые выкрики.
– Не вздумай с нами играть. Следователя ты можешь надувать, с судом можешь шутки шутить, а с нами ты должна быть почтительна! Тут, знаешь, свои порядки, будешь нагличать – скрутим и такую взбучку зададим, о какой ты и не мечтала! Всю дурь из тебя выколотим, как грязь из белья. Она не скажет! Все говорят, а она не скажет! Экая краля выискалась!
Галками скакали они вокруг Мари. Со скрюченными хищно пальцами, готовые заклевать, исцарапать ее...
Пришел назначенный судом защитник, бросил портфель на скамью, отдышался после быстрой ходьбы, нацепил на нос пенсне и молвил:
– Нуте-с, а теперь, милое мое дитя, скажи, зачем ты, собственно, поджигала эти хутора?
И ушел, качая головой. Проходя мимо надзирателя, он приостановился и произнес:
– У вас там в камере есть некая Мари Тааде. Лет восемь или десять отсидки ей обеспечено. Очень странная девица.
Десять, двадцать или того больше – Мари это не волновало. Сидя ссутулясь в углу камеры, она думала лишь о том дне, когда однажды она выйдет на свободу. Бей было безразлично, будет это вскоре или спустя многие годы. А уж когда она освободится, вот тогда она возьмет в руки факел и подожжет все, хутора, леса, города. Вихрем будет носиться с места на место, всюду рассеивая огонь. И взметнется пламя, какого еще свет не видывал, выше неба, шире моря. Пламя, которое охватит весь мир, как ребенок охватывает ручонками мяч. И канут в этой огненной пучине страны и города, воды и леса. Даже страдания и беды, заблуждения и боль. Сгорит все, чтобы родиться заново чистым и ясным, как поднебесная синь.
– Красные лошади, – шептала она словно в горячечном бреду, – милые мои красные лошади!
1926




![Книга Верпа [Сборник] автора Алексей Хвостенко](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-verpa-sbornik-270177.jpg)